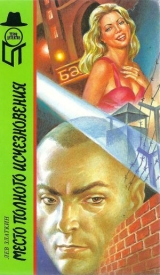
Текст книги "Место полного исчезновения: Эндекит"
Автор книги: Лев Златкин
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
– А следователи что, дураки? – не поверил Пан.
– Такие уголовные дела требуют специалистов высокой квалификации, – напомнил Павлов, – а где их взять?
Мимо баржи такие же трудяги-буксиры тянули вереницы плотов древесины. Один катер-буксир тянул вереницу пучков стволов деревьев спереди, а второй замыкал плот.
– Доцент! – обратился Пан к Павлову. – Ты не знаешь случайно, чего это делает второй катер, идущий позади? Толкает он плот, что ли?
– Случайно знаю! – усмехнулся своим мыслям Павлов. – Даже лекции читал.
– Вот ты нам и прочти коротенько! – предложил Пан. – Плыть нам долго, а за разговорами время быстро летит. Давай, ври!
– Бескрайние наши просторы, – начал спокойно Павлов, – покрыты борами, зеленеющими под лучами летнего солнца и серебрящимися инеем в морозном тумане зимнего дня. Среди пород деревьев первое место принадлежит сосне. Короткое лето Сибири ограничивает прирост древесины, и поэтому годовые кольца на поперечном спиле ангарской сосны расположены столь плотно, что между ними не войдет и лезвие ножа. Смолистая древесина отливает маслянистой желтизной. В основном такие, как мы, и заготавливают эту древесину, а заготовить ее очень и очень непросто. А ее еще надо и вывезти из таежной глубинки. Вывозят ее к берегам реки, где лесовозами, где сплавом по малым речушкам. Так лес приходит к берегам реки. Здесь, на рейдах, бревна вяжут в пучки, из пучков формируют плоты. За навигацию сплавляют в плотах миллионы кубиков леса, что по объему равно нескольким тысячам железнодорожных составов. Только если поезда идут по стальным путям, перемахивая через реки, овраги, ущелья по мостам, то перевозка леса по воде во многом зависит от стихии, от природных условий, определяющих режим реки, характер ее течения. А течение – противоборство воды и камня. Продольный профиль реки иногда выглядит, словно гигантская лестница: ступенька – спад, ступенька – спад. Сплошные пороги и шиверы…
– А что такое „шиверы“? – перебил Игорь.
– Каменистые перекаты, – охотно пояснил Павлов. – Там, где базальтовая порода, у реки хватает сил лишь на то, чтобы прорезать в массиве камня мелкое узкое русло. И когда скальные берега и обрывы сжимают реку почти втрое, вся масса воды устремляется к узкому протоку вдоль левого или правого берега, кипит и клокочет, а над ней беспристрастно стоят береговые скалы, в чьих недоступных каменных развалах свили свои гнезда орлы, с клекотом срывающиеся с вершин и долго парящие над своими владениями. Внизу под ними идут и идут плоты, ведомые мощными катерами-буксирами. Обычно ведут двумя буксирами: передний катер тянет плот вперед так, что гудят, напрягаясь, сочленяющие плот тросы, а задний катер слегка натягивает плот, не давая сбиться ровной его полосе, иначе хвостовые пучки занесет и плот развернет поперек.
– Как много слов, – ехидно заметил Пан, – когда можно было пояснить все одной лишь фразой.
– Ну вот! – обиделся Павлов. – Сам говорил: „за разговорами время быстро летит“.
Игорь смотрел на базальтовые скалы, изборожденные вертикальными трещинами, покрытые пятнами зеленоватого, желтоватого или бурого лишайника.
– Так ты же мне лекцию прочел о реке, а я спрашивал всего лишь о двух буксирах, – продолжал ехидничать Пан. – При чем здесь река?
– Река всегда при чем! – вступился за Павлова Коростылев Юрий Иванович, содержатель притона, известный под кликухой Костыль, но не из-за того, что ходил с клюкой, как баба-Яга, а, очевидно, из-за созвучия фамилии с кличкой.
Помимо своей основной профессии содержателя притона, Коростылев был еще историком с высшим образованием, большим знатоком Сибири, этнографом. Но, проворовавшись в одной из экспедиций, он был изгнан из всех научных сообществ, зато со всем почтением принят в преступном. Сдала его бывшая любовница. Женщина, если она хочет отомстить, очень изобретательна.
– Река в истории человечества всегда мыслилась как некая граница, рубеж, разделяющий важнейшие этапы жизни человека, – со знанием дела стал говорить Костыль. – Наибольшее воплощение подобные представления нашли, однако, в мифологии, где смерть осмысливалась как переправа через реку в мрачное подземное царство теней. В древности обряд захоронения всегда совершался на лодках, и не потому, что люди селились вдоль рек и больших водоемов, кстати, на лодках провожают в последний путь лишь в одном месте – в Венеции. В древности настолько серьезно относились к путешествию в подземное царство, что была даже разработана топография подземного мира, естественно, в мифологии и эпосе. Подземный мир или „тот свет“, как мы говорим: „Отправился на тот свет“, – располагался ниже устья большой реки. В дошаманский период думали, что вход в нижний мир осуществляется через отверстия в земле, водовороты и глубокие водоемы. Вместе с шаманами возникли и шаманские реки. По шаманской космогонии верхний мир располагается выше истоков воображаемой реки, а нижний мир соответствует нижнему течению этой реки. Но у каждой группы эвенков была своя территория, и в зависимости от этой территории и направления течения главной реки считалось, что верхний и нижний миры находятся в разных направлениях. Верхний и нижний миры соединены воображаемой рекой, которая у енисейских эвенков называлась ЭНДЕКИТ, „место полного исчезновения“, от слова „энде“ – „исчез полностью“…
Костыль приумолк, достав пачку „Примы“ и закуривая сигарету. Игорь, на которого подействовал рассказ Коростылева, задумчиво произнес:
– И мы плывем в эндекит! В свое место полного исчезновения!
Коростылев удивленно посмотрел на Игоря.
– Однако! – отметил он. – Я как-то не задумывался над этим.
– Гони картину дальше! – предложил Пан. – Интересно врешь!
– Эндекит имеет много притоков – долбони, „ночь“, принадлежащих отдельным шаманам, в обычное время на этих притоках живут духи, помощники шаманов, – продолжил Коростылев. – Притоки связаны с землей через водовороты в реке, эвенки их обходили стороной, боялись. Ниже устья каждой шаманской реки на эндекит помещался мир мертвых соответствующего рода, а души покойных сюда привозил шаман, естественно, не бесплатно. Шаманская космогония отражала древние передвижения и расселения людей по протокам больших рек. У большинства народов мифы помещают мир мертвых под землей или у края вод Мирового океана. Вавилоняне представляли Землю плоской, плавающей на поверхности Великой реки или Мирового океана. Мертвые, в их представлении, переплывали на плотах в потусторонний город Эрешкигаль через Великую реку или через „воды смерти“. У древних греков реки подземного мира носят названия Стикс, Ахерон, Коцит. Стикс – старшая дочь Океана и Тефиды, божество реки. Водами священной реки Стикс клялись боги Олимпа. Эта клятва – самая страшная. Мрачные ландшафты реки Ахерон влияли на воображение греков, населяющих долину реки призраками. Именно там находились места, где оракулы общались с потусторонним миром. Близок к реке смерти и образ реки забвения – Леты, протекающей в царстве Аида. Сначала Летой называли дочь богини раздора Эриды, символа забвения. Испив воды из реки Леты, души умерших забывают свою прошлую жизнь.
– Греки, вавилонцы! – презрительно прервал Коростылева Панжев. – Ты про русских что-нибудь расскажи.
– У русских тоже есть сходный с Летой образ – Забыть-реки! – тут же выполнил просьбу Коростылев. – Вода, как и огонь, по народным верованиям, обладала мощным очистительным действием. У верующих индусов умереть на берегу реки Ганга считается величайшим благом, потому что она смывает любой грех, святая река. В России считали, что река смывает и уносит болезни, одним из способов лечения от лихорадки был такой: в двенадцать часов ночи снимали с себя пропотевшую сорочку и бросали ее плыть по течению, приговаривая: „Возьми, река, мою болезнь, пошли мне здоровья!“. А в Европе существовали еще знаменитые „ордалии“, во время которых суды, разбирающие обвинения – в колдовстве, раздевали и бросали связанными в воду обвиненных, если те выплывали, их сжигали на костре, выплыл – значит виновен. Бедняги в большинстве своем предпочитали тонуть, так хотя бы их признавали невиновными, имущество оставалось в семье, и хоронили их на освященном кладбище.
– „Река времен в своем стремленье уносит все дела людей“, – завершил Игорь.
– Какие вы умные! – злобно откликнулся Пан. – Непонятно только, как вы оказались в таком дерьме.
– Если ты такой умный, то почему такой бедный! – засмеялся Моня-художник.
Он так и представлялся, никто не знал его настоящего имени и фамилии. Он был своеобразным художником, прекрасно рисовал кредитные билеты Центрального банка, не отличить от настоящих. Сдал его, спасая свою жизнь, один ненормальный убийца, работавший у него какое-то время сбытчиком.
– Доцент, – обрадовался поддержке Пан, – жизнь отдает из-за какого-то озера.
– Не какого-то, – прервал его Павлов. – Я родился в Баргузине…
– Да ну! – удивился Пан. – Как это ты умудрился родиться на ветру? Баргузин – это ветер.
И он неожиданно для всех запел:
Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.
Славное море – священный Байкал,
Славный мой парус – кафтан дыроватый…
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
– Слышатся грома раскаты…
– Кончай выть! – оборвал его тихий Петя Весовщиков, по прозвищу Хрупкий, поплывший на пятнадцать лет за убийство по сто второй статье.
Убил он своего начальника за систематические издевательства, убийство было спонтанным, но все равно ему впаяли сто вторую статью, чтобы другим неповадно было убивать свое начальство.
Пан испуганно смолк. Отчего-то он побаивался этого тихого паренька с остановившимся взглядом.
– Насчет ветра ты прав! – согласился Павлов. – Баргузин – это ветер, налетающий с северо-востока на Баргузинские озера, на берегу одного из которых и раскинулся городок Баргузин, правда, сейчас он превратился в село. Если бы иностранному самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Баргузине, пассажиры самолета ни за что не догадались бы, где они находятся. Тот же пейзаж, что и в швейцарском Энгадине или французской Савойе, вершины и пики самых причудливых очертаний, с шапками вечных снегов, леса по склонам и приткнувшийся к подножию гор городок, который делит на две части живописный бурливый ручей, впадающий в реку Баргузин, впадающую в Байкал… Ты хоть раз был на Байкале? – спросил он у Пана.
– Чего я там забыл? – хмуро отказался Пан. – Реки я люблю, рыбак заядлый, за тайменем ходил после первых заморозков. Знаешь, как играет таймень своим серебром на перекатах? В рыбке килограммов десять-пятнадцать. Побороться с ней, стоя на скользких камнях переката, – это надо уметь, скажу я тебе.
– А Байкал – это самый крупный водоем пресной воды в Европе и Азии и самое глубокое озеро в мире, живописнейшее горное озеро. Оно в пять раз больше Женевского, славится сорока породами ценных рыб, раз уж ты рыбак, и богатой, редкостной, нигде больше не встречающейся фауной.
– Не будьте фауной, берегите флору! – опять засмеялся Моня.
Его неунывающий одесский говор резко контрастировал с обреченными голосами окружающих. По его виду нельзя было сказать, что ему предстояло провести в заключении долгих пятнадцать лет.
– Баргузин был основан в 1648 году, – продолжил Павлов. – Когда я протирал штаны на школьной парте, мне учителя вбили в голову дату разгона Кромвелем английского парламента и окончания Тридцатилетней войны. Правда, я понимал, что между такими историческими событиями в Европе и основанием Баргузина нет никакой связи, тем более, что Баргузин был основан, как острог, первым в цепи укрепленных пунктов, созданных для взимания ясака, дани, которой облагались народы Поволжья и Сибири в Московской Руси. Вместе с тем остроги служили и местом тюремного заключения, и на языке того времени выражение „сидеть в остроге“ означало сидеть в тюрьме…
Его слушал уже один Игорь, да еще изредка подключался Коростылев. Остальные заключенные отвернулись, и нее смотрели на медленно проплывающий противоположный берег реки и на спокойную полупрозрачную воду, думая каждый о своих делах, о прошлой жизни. А Игорь заставлял себя не думать о прошлом, чтобы не вспоминать Лену.
Но старик Павлов говорил больше для самого себя. Он погрузился в воспоминания, словно предчувствуя, что ему осталось совсем немного дней для разговора. Болезнь уже давно подтачивала его, но когда были лекарства и хорошая пища, еще можно было надеяться победить ее. Теперь надежда угасала с каждым километром реки. Выдержать строгий режим трудно даже здоровому человеку, а больному невозможно.
– Красота природы, чистый сухой воздух и синева прозрачного неба очаровали даже Кропоткина, известного революционера и теоретика научного анархизма, который объездил эти места еще совсем молодым армейским поручиком и назвал эти горы в своей классической монографии, посвященной географии и геологии этого района, „баргузинскими Альпами“. Баргузину с его волшебными окрестностями куда больше подходит быть летним курортом, чем местом поселения политических ссыльных, – заметил он. – Курортный сезон здесь короток, не успеешь оглянуться, как нагрянет долгая суровая зима, но все же странно, что политических преступников отправляли на курорт. Франция отправляла их на Мадагаскар и Чертов остров, а Великобритания в Ботани-бей в Австралии, где климатические условия несравненно тяжелее. А в России, по понятиям прошлого века, наказание в виде ссылки в Сибирь считалось особенно жестоким. Официально эта кара была введена в 1729 году. Первыми ссыльными были приговоренные к пожизненной каторге бунтовщики. Позже к ним присоединились гулящие девки и женщины, приговоренные к смертной казни. В 1800 году за ними последовали евреи, просрочившие на три года уплату налогов. Смертность среди ссыльных была чрезвычайно высока, до Сибири доходила едва ли четвертая часть, да и в той все были совершенно сломленными. Да и как иначе? Путь из Москвы в Баргузин, а это шесть тысяч километров, ссыльные проделывали пешком. Через каждые двадцать километров этап загоняли в пересыльную тюрьму или крепость. Длился этот поход года четыре. На телеги сажали только больных. Два дня шли, третий отдыхали. Кормились из расчета десять копеек в день, в местах ночлега покупали себе еду. В политическую каторгу Баргузин превратился с 1826 года, когда Николай Первый сослал сто шестнадцать участников декабрьского восстания 1825 года. Первую партию долго держали в селе Петровский Завод Забайкальской губернии, граничащей с Баргузинским уездом. Непосредственно в Баргузин были отправлены братья Кюхельбекеры – Михаил и Вильгельм, лицейский друг Пушкина, которого он звал Кюхля. Позже Вильгельма переправили в другое место, а Михаил так и остался жить в Баргузине, не уехав и после помилования. Когда умер Николай Первый и на престол взошел Александр Второй, все декабристы были помилованы, но в живых их осталось к тому времени лишь двадцать пять человек. За тридцать лет ссылки все они так настрадались, что в большинстве своем предпочли остаться и окончить дни свои в Сибири…
Он умолк, углубившись в свои воспоминания, в которых места для остальных уже не было.
Но тут интерес к разговору проснулся у Пети Весовщикова. Хрупкий, как его сразу же окрестили в камере, обратился к Коростылеву, потому что Павлов закрыл глаза и, улыбаясь, что-то шептал неразборчиво.
– Слушай, Костыль! – спросил он. – А почему Сибирь Сибирью прозвали?
– „Не назвать ли нам кошку кошкой…“ – ухмыльнулся Коростылев. – Видишь ли, Петенька, история завоевания Сибири тесно связана с двумя именами, известными любому сибиряку: это – Ермак Тимофеевич, атаман разбойничьей шайки волжских казаков, грабивший и убивавший русских и персидских купцов, бравший на абордаж под клич „сарынь на кичку“ даже царские суда, второй – это Строганов, его семья в шестнадцатом веке обосновалась в Европейской части Урала. Строгановы пользовались громадными привилегиями еще со времен Ивана Грозного. На своих землях они сразу же заложили шахты, где добывали соль и железную руду. Им было даровано право завести собственное войско и свою полицию. И Ермак Тимофеевич двинулся за Урал во главе пятисот казаков, вооруженных и оснащенных на деньги Строгановых.
В 1581 году Ермак начал завоевывать Сибирь и годом позже захватил уже столицу местных татар – город Сибирь. Хан татар Кучум бежал на юг, но через два года устроил ловушку Ермаку, когда его дружина была пьяна, и напал на нее. Дружина Ермака была перебита, а он сам, как гласит легенда, бросился в Иртыш и утонул, поскольку тоже был в нетрезвом состоянии. Однако по его картам другая казацкая дружина, уже усиленная царскими войсками, захватила город Сибирь и сравняла его с землей. А это название и унаследовала вся огромная территория к востоку от Урала.
– Обязательно надо русских пьяницами обозвать? – нахмурился Пан.
– Так с относительно трезвыми никто не мог справиться: ни Кучум, ни другие царьки! – огрызнулся Коростылев. – А от пьянства все наши беды. На этой барже едут почти все, первопричиной бед которых явилась водка. Или скажешь нет? – ехидно добавил он.
Пан отрицательно покачал головой.
– Нечего все сваливать на водку! – заявил он решительно. – Пьют все, а преступников меньшинство. И пьют, идя на преступление, а не идут на преступление, выпив.
– Хочешь сказать, что преступники будут всегда? – сыронизировал Коростылев.
– А ты вглядись в себя! – порекомендовал Пан. – Умный человек, ученый, занимал хорошее положение, зарабатывал неплохо, но что-то тебя все время толкало к преступлениям. Я про тебя давно слышал: девочек несовершеннолетних совращал, наркотой торговал, а потом притон организовал с сауной и массажным кабинетом…
Коростылев не успел ответить. Объявили обед и стали разносить воду. В трюмы просто спускали бадьи с водой, кружка была у каждого своя, чтобы не разносить инфекцию.
– Что там творится в трюме! – вздохнул Пан. – Не приведи господь.
– Интересно посмотреть! – ухмыльнулся Игорь.
– Ничего интересного нет! – злобно оборвал его Пан. – В конце путешествия оттуда достанут не один труп. И не одного успеют опустить. Там страшные люди сидят: безжалостные к себе, а уж других они тем более не жалуют.
– Хочешь сказать, что эти преступления не расследуются? – не поверил Игорь.
– А кому там расследовать? – удивился Пан. – Мы с тобой почти двое суток будем плыть. А те – неделю. Трупы сгниют, расследовать нечего. Или ты думаешь, что из этих кто-нибудь в свидетели пойдет?.
И он весело захохотал, представив себе такую несуразность.
– И что, просто списывают? – не поверил Игорь.
– Проще некуда, проще простого! – недовольно пробурчал Пан. – Многие вскрывают себе вены, чтобы только не плыть в ад. Так хотя бы есть надежда, что их спасут в больничке. А здесь ты обречен, если ты один. Редкий силач справится с волчьей стаей. Разорвут на части. Волки, одним словом.
Он умок и стал уничтожать свои запасы, жадно запивая водой. Предложить поделиться ему даже не пришло в голову. Да здесь это и не было принято. Другое дело, если ты в „семье“. Тут уж все общее. И друг за друга стоят горой. Обидеть одного – значит обидеть всех. И пощады не жди.
– Неужто не пытаются бежать? – удивился Игорь. – Все же шанс!
– Пуля догонит! – ухмыльнулся Пан. – А потом: куда ты денешься в тайге, если места не знаешь. Будешь ходить по кругу, как заведенный, пока бензин не кончится. А потом или поймают, или сам сдохнешь. Ты у доцента спроси! Он тебе все расскажет про цветочки-ягодки, про пестики-тычинки…
– Не только! – прервал его прислушавшийся к разговору Павлов. – Я, брат, знаю, в какое время что цветет и созревает в тайге, какой зверь и какая птица водится, какое время самое теплое в тайге…
– И какое? – нетерпеливо перебил его Пан.
– Вторая фаза лета: с четвертого июля по четвертое августа, – пояснил Павлов. – Это самая теплая часть лета, когда созревают плоды черники, морошки, голубики, смородины, малины. Правда, в некоторые годы возникает дефицит влаги, в лесах усиливается возможность пожаров.
– Это самое светлое время года? – допытывался Пан.
– Нет! – улыбнулся Павлов, понимая, что интерес Панжева вызван совсем не природным любопытством, а чем-то другим. – Наиболее светлое время года с десятого июня по третье июля, в первой фазе лета.
Пан молчал. Всем было ясно, что он первым задумался о побеге. То ли слова Игоря подхлестнули естественную тягу к воле и свободе, то ли в неволе у человека всегда возникает мысль о побеге, но Константин Иванович серьезно стал подумывать о том, чтобы при первом удобном случае смотаться в тайгу с концами. Только, по его мнению, надо было делать это умно, не с кондачка, не пацан ведь. Предварительно надо хорошенько обдумать, а уж потом и действовать.
– В побег идут с „бараном“! – ухмыльнулся Пан.
– Это больше разговоры! – подключился Моня. – Не каждый сможет есть человечину.
– Почему человечину? – искренно удивился Игорь, не усмотревший в слове „баран“ двойного смысла.
Все расхохотались. Такая наивность без пяти минут служителя закона, хотя и несостоявшегося, умиляла. Становилось понятно, почему судебная система страны настолько беспомощна, откуда полный отрыв от действительности, неумение применить закон в жизни, а может, и нежелание, если не разрешают сверху.
– В побег берут лишнего человека не из компании блатных, – охотно пояснил Моня. – Если продукты кончаются, а тайга все еще не кончается, то этого лишнего убивают, а его мясо жарят на костре и едят какое-то время.
– В тайге можно прожить и без человечины! – вмешался Павлов. – В тайге обитает около девяноста видов млекопитающих, среди них: лось, кабарга, кабан, косуля, заяц-беляк. Птиц семьдесят видов: тетерева, глухари, рябчики. Лови и ешь!
Павлов увлекся и стал рассказывать про таежные леса, состоящие из сибирской ели с примесью сибирского кедра и пихты, про восточносибирские леса, светлохвойные из лиственницы Гмелина, в основном, а на северо-востоке из лиственницы Каяндера. Он говорил о мощных эдификаторах, создающих под кронами своеобразную среду со слабой освещенностью и бедной минеральным питанием. Он хвалил лучше освещенные лиственные леса, где хорошо развит подлесок из ерника, душеки и кустарниковых ив, кедрового стланника, даурского рододендрона, багульника и толокнянки с брусникой и голубикой. Он рассказывал о пожарах и о гарях, на которых вновь и вновь возрождала свою жизнь лиственница.
Но его уже никто не слушал. Вернее, делали вид, что слушают, но опять каждый думал о своем. Под умные речи хорошо думается именно о своем, непонятные слова обтекают сознание, не задерживаясь, лишь создают журчащий фон, под который так хорошо спится и думается.
Павлову тоже не нужен был слушатель. Он спешил выговориться, словно предчувствуя, что ему немного осталось времени на разговоры. Павлов любил Читать лекции и как член общества знания часто разъезжал по маленьким городам и еще меньшим весям, неся в народ знания. На лекции приходили, в основном, бабуси, изнывающие от безделья, у которых дети выросли и разъехались кто куда, вот они и маялись от одиночества. Но Павлову и тогда не нужна была большая аудитория. Он с удовольствием читал лекции и для одного слушателя, будучи самодостаточным человеком.
Багровый закат выглядел живописно на фоне стройных сосен и пихт, зубчатые тени которых достигали почти середины спокойной и широкой реки. Впереди, пока невидимо, глухо гремел перекат, где обкатанные булыжники базальта терлись и перекатывались, создавая вечный звуковой фон реке в этом месте.
Павлов выговорился и замолк, закрыв глаза и углубившись в самого себя.
Игорю пришла в голову интересная мысль, и он просил у Панжева:
– А на ночь нас тоже загонят в трюм?
– Нет! – сразу ответил Пан, даже не подумав. – Но друг к другу браслетами сочетают, это уж как пить дать. Козлы вонючие! – добавил он злобно.
– Зато на свежем воздухе! – иронично добавил Моня.
– Чем нюхать вонь и срань! – встрял Хрупкий. – Ночи здесь холодные, надо одеться потеплее.
– Климат резко континентальный! – подтвердил косвенно Павлов, очнувшись от своих грез. – Градусов пятнадцать-шестнадцать, впрочем, при этой температуре начинается развертывание хвои и рост побегов у ели и пихты, а затем у сосны и сибирского кедра.
– Привыкай к кандалам, юноша! – не обращал на Павлова никакого внимания Пан. – На строгаче без них не обходятся.
– А чем отличается строгач от усиленного режима? – поинтересовался Игорь. – Только дачками и свиданками?
– Ишь, – усмехнулся Пан, – уже понахватался. Строгач – есть строгач. Сам увидишь. Лагерь разделен „колючкой“ на зоны по отрядам. Те, кто будут пилять лес снизу, в одних бараках, чтобы с другими не общались; а те, кто на швейке и в механическом, в других бараках; те, кто на стройке, в третьих. Это я тебе к примеру. В этой зоне я не бывал еще, чем они там занимаются, кроме лесопилки и сплава, не знаю, но везде одно и то же. Где потруднее работа, где полегче. Не от этого зависит жизнь. От внутреннего распорядка. Есть „давиловка“ – считай тебе хана, парень, двужильные ломаются. Нет „давиловки“ – жизнь ништяк. Болтают, здесь „санаторий“, куда нас везут бесплатно.
– Они будут нас исправлять! – с одесским акцентом сыронизировал Моня. – Чтоб им так жить! Хотят, чтобы мы раскаялись.
Эти слова привели всех в такой восторг, что хохот разнесся над рекой на многие километры, и в чаще леса наверняка застыли в недоумении многие звери, замерли многие птицы, услышав впервые в своей жизни столь необычные звуки.
– „Раскаиваться надо лишь однажды, никто не принимает яда дважды“, – прочитал наизусть Игорь.
– Среди нас поэт! – насмешливо произнес Моня. – Омар Хайям.
– Нет! – улыбнулся Игорь. – Я прочитал из Абу Шукура.
– Будешь в лагерной самодеятельности участвовать! – насмешливо произнес Пан. – Лишнюю пайку заработаешь, студент.
– Да какой он студент? – попытался возразить Моня. – Он – поэт!
– Его уже окрестили в тюрьме! – утвердил кличку Игоря Пан. – Студент – понятно всем. А поэт, еще что подумают. Мало кто знает это слово.
– Омуля бы поесть! – мечтательно протянул Павлов. – Самая моя любимая рыба из породы лососевых. А еще я помню, как мы в детстве ходили заготавливать чернику и голубику. Она росла коврами, и мы собирали и бочками заготавливали на зиму впрок. Витамины все-таки.
Его изборожденное морщинами старое лицо сразу помолодело. Игорь не в первый раз замечал, как у людей, уходящих мыслями в далекое прошлое, в детство или в юность, сразу же молодеет лицо и загораются глаза. Видно, есть что-то, возвращающее человека в то состояние.
– Солененького омуля и я бы не прочь отведать под водочку! – неожиданно поддержал Павлова Панжев.
– А я больше любил копченого! – признался Павлов. – А еще я помню, как в юности ходил за соболем, драгоценным темным баргузинским соболем, за шкурками которого в Иркутск съезжались меховщики крупнейших фирм Лейпцига, Лондона и Парижа. Здесь были торговые экспортные базы. В сейфах Лондона, Парижа и Нью-Йорка и сегодня хранятся отборные шкурки темного соболя с клеймом, свидетельствующим о месте добычи – Баргузине. Шкурки держат в темноте, чтобы солнечные лучи, не дай Бог, не повредили тончайшие переливы цвета драгоценного меха.
На палубе, возле группы заключенных, появилась охрана с автоматами на изготовку с лейтенантом во главе.
Лейтенант минут пять смотрел на вверенных его попечению людей, осужденных за свои преступления на муки земные, но тоже почти вечные. Он внезапно позабыл, зачем он здесь появился, многодневное пьянство начинало сказываться.
Но наконец он вспомнил:
– Эй, шантрапа! – заорал он. – Сейчас все пойдете в гальюн на корме. Кто попытается бежать, сразу прошьем очередями. Предупреждаю заранее!
– Вот и архангелы! – констатировал Пан. – Скоро ночь!
Единственный гальюн располагался на корме, и Игорь с усмешкой представил себе, как в него выстраивается очередь заключенных под дулами автоматов.
Пан сразу уяснил значение этой усмешки.
– Напрасно ты думаешь, что сейчас туда выстроится очередь! – ехидно заметил он. – Все проще и страшнее.
И действительно!
Конвоиры отводили к гальюну по пять человек, и сия процедура затянулась надолго, пока последний луч заката не погас на чистом летнем небе.
После этого конвой натянул перед каждым рядом сидевших на грубых скамьях заключенных толстую стальную проволоку, на которую были нанизаны цепью наручники, и быстро и ловко сковали попарно всех заключенных. Теперь помимо того, что они скованы правая рука одного к левой руке соседа, оба были прочно прикреплены к стальной проволоке.
– А как спать в таком положении? – поинтересовался Игорь.
– Ты еще спать хочешь? – сыронизировал Моня. – Скажи спасибо, что одеться дали потеплее, а то воспаление легких было бы тебе обеспечено.
Конвоиры не только дали заключенным одеться, они категорически этого потребовали: рабы должны быть здоровы, чтобы было кому работать.
– Что-то нас маловато! – заметил Игорь. – Я имею у виду этап в этот лагерь.
– Таких этапов будет еще не один! – успокоил его Пан. – Мы навигацию открываем, а кто ее закончит, один Бог знает. Лагерей много, убыль тоже огромная, так что…
– Освобождают много? – не понял Игорь.
Его слова вызвали бурный всплеск хохота.
– Бабуся освобождает! – заметил Моня. – Безглазая, с косой ходит и, в покрывале, чтобы раньше времени ее не рассмотрели. Смерть называется! Не знаешь такую?
И все сразу стало грустно. Теплый вечер располагал к мирной жизни, а тут смерть встряла в разговор.
– А спать будем в положении сидя, друг на друге! – сообщил Пан, удовлетворяя любопытство Игоря.
– Друг на друге не получится! – засмеялся Игорь, все еще не веря в то, что с ним происходило. – Вы же все к проволоке прикованы, друг на друга не ляжешь.
– Ты как-то однозначно понял! – усмехнулся Пан. – Друг на друге – это когда спят приткнувшись друг к другу: голова одного на плече у другого, а голова второго на плече первого.
– И можно спать в таком положении? – удивился Игорь.
– Когда спать хочешь, то заснешь в любом положении! – ответил Пан и сразу потерял интерес к Игорю.
Его тоскливый взгляд устремился к темному лесу, бесконечным морем разлившимся по обе стороны реки.
– Слушай, доцент, – внезапно встрепенулся Пан, – а в этих лесах болота есть?
– Обширные лесоболотные урочища! – обрадовался сразу Павлов. – Долгомошные, сфанговые, болотнотравянистые…
– Ясно, глохни! – оборвал доцента Пан. – У меня нет настроения слушать твою очередную лекцию. Загнул бы ты веселенькое, для души, спать веселее будет!
– Да что у меня в жизни-то было веселого? – задумался Павлов.



![Книга Убийство в морге [Ликвидатор. Убить Ликвидатора. Изолятор временного содержания. Убийство в морге] автора Лев Златкин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ubiystvo-v-morge-likvidator.-ubit-likvidatora.-izolyator-vremennogo-soderzhaniya.-ubiystvo-v-morge-250833.jpg)




