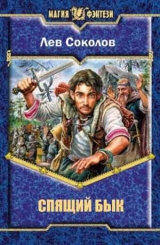
Текст книги "Спящий бык"
Автор книги: Лев Соколов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Я всегда считал это нормальным. Нормально, это ведь то, что привычно. А что может быть привычнее того, что с тобой с самого детства? Я никогда не болел. Да, но ведь бывают люди с идеальным здоровьем. Их рождается все меньше в нашем мире отравленной природы и постоянного стресса, но они есть.
Это правда, – сказал внутри какой то холодный неприятный голос. – Но не подменил ли ты понятия? Есть люди родившиеся здоровыми. Но есть ли люди которые никогда ничем не болели? На гриппом, ни простудой, ни расстройством желудка, ни чем иным? Вот так как ты?
Это ведь ничего не значит, – сказал я сам себе.
Ты сирота, – продолжил холодный голос не обращая на меня внимания. – Вырос в детском доме. У тебя нет родни… И даже отчество и фамилию тебе дали там.
Это ничего не значит.
Ты выжил в ледяной реке.
Я выжил. Это ничего не значит.
Парень-то пахнет как и должно. – Вдруг сказал мой собеседник, сменив голос, и вбросив мне в уши недавние слова Бьёрна – А от тебя запахи идут как из запертого сундука. Что-то я чувствую, да только не могу поднять крышку. Я сказал тебе, кто я Димитар. А кто же ты сам?
Это ничего не значит!!!
…Ты и сам забыл, как поднять крышку своего сундука…
Я почувствовал панический страх. Это невероятно, но он был еще сильнее, чем когда ко мне приближались лротты Эйнара. Словно кто-то надвигался на меня, откуда-то из темноты, из глубины. Я будто стоял на поверхности темного ночного снежного озера. И лед был тонок, и под ним ходил кто-то неведомый, огромного размера. И чем пристальней я вглядывался под лёд, тем больше он истончался, каждой неосторожной мыслью, каждым словом. Еще немного, и лед не выдержит, треснет, и я провалюсь в темные бездонные воды. Мне надо было отвернуться, перестать думать в этом направлении, убежать ото льда к спасительному привычному берегу. Мне надо было. Потому что на меня напирала первобытная жуть, и в ней на поверхности льда шевелились неясные образы, чужие картины и странные полувоспоминания, которые становились тем отчетливее, чем лед становился тоньше. Мне надо было лишь отвести взгляд от этих картин. Я почти смог, почти отбросил мысли. Но тут какая-то часть меня, сходящая с ума от неясной тревоги, и вопящая от ужаса перед будущим, вытолкнула на поверхность простую мысль – если я сейчас «побегу», то Лейву перережут глотку… С этой мыслью я замешкался, и опоздал. Лед не выдержал.
Я провалился с головой.
* * *
Вода, которой не было ожгла меня. Я падал с нарастающей скоростью, не имея тела, летел сверкающей искрой, кружась вокруг гигантского костра. Вокруг была звенящая пустота, и только где-то далеко впереди мерцала как путеводная звезда яркая булавочная головка переливающегося света. Она летела навстречу мне, все увеличиваясь в размерах, полыхая темным косматым сиянием. Мы врезались друг в друга как две кометы. И я увидел перед собой лицо. Я знал его, это было как смотреться в чистейше зеркало. Это был мой дух-двойник, в которых верил народ Лейва. Он был одновременно ужасающим и прекрасным. Он посмотрел на меня глазами тысячелетнего старца, и я смотрел на себя с двух сторон, и плотины пали, мои запоры открылись, и распахнулись врата. Я закричал, завопил, забился, и воспоминания захлестнули меня, как океанская волна, как сель, как обвал. Я слышал странные слова на языках, которых не знал, я видел картины для которых нужны нечеловеческие глаза, я видел тысячелетнее движение звезд и дрожание мировых струн. Песчинками фрагментов. Эти фрагменты влетали в меня, как злая зимняя вьюга в распахнутое окно, они рвались, они хотели сложиться в целое, а я был былинкой, и не мог вместить этого, потому что человеческий крохотный мозг не имеет для этого размера, и память его не может быть в тысячи световых лет. И я, Дмиттрий, Дима, Димка начал расползаться под этим потоком как старая картонная коробка. Я разваливался, таял как снег под кипятком, трещал и рвался. И я заорал от беззвучного ужаса и восторга, уходя в небытие, чтобы освободить место большему. И тот, кем я становился, открыл вместе со мной свои тысячи ртов, разделяя мои последние чувства. Капля моей жизни растворялась в океане, песчинка теряла себя в пустыне, камешек в горах. Я исчезал, вливаясь в огромное как нечто несущественное, что не имеет почти никакого веса, и никак не может ни на что влиять. Мою жизнь не стирали мокрой губкой с доски, просто поверх её строк проступали миллионы знаков, иероглифов, и строк на разных языках, и письмена моей жизни уже не читались. Я растворялся с легким сожалением, и древняя память расправляла в крылья, смахивая песчинки моих дел и желаний с полузасыпанной древней могильной плиты. Вот отлетела работа, интересы, неудачи, успехи, друзья, любимые, Настя…
Настя, она тоже рассыпалась. Я не хотел этого. Я помнил тепло её рук, цвет её глаз, запах волос. Но на это место тут же яростно вплеснулись тысячи женских рук, мне в глаза смотрели тысячи красивых глаз, и мелькали водопады волос. И с каждой из этих женщин у меня что-то было, и чем больше их было, тем меньше ценности было в них, потому что я уже знал все, видел, все пробовал все, и нельзя любить в тысячный раз как в первый. И тысячи теплых прикосновений мазали по щекам, тысячи – очей черных как смоль, синих как небо, зеленых как молодая трава – разбавляли друг-друга в бесцветную муть, и брюнетки, блондинки и рыжие сливались волосами в какую-то пегую гриву. Среди них было больше красавиц, и меньше просто миленьких. Я знал их. И среди них были те, что были безмерно красивее Насти. И были мирами умнее Насти. И лучше нравом, и манерами, и далее, далее. И они стирали мою Настю, отбрасывая её в ничтожность, потому что они копились тысячи лет, и накопленный опыт коллективного идеала убивал живого человека сравнением. Настя становилась едва ли не глуповатой дурнушкой со скверным характером, и я понял, что еще мгновение, и я останусь без уничтоженной сравнением Насти, наедине вот с этим коллективным выверенным миллионом сравнений идеалом, который пожрал своей долгой памятью тысячи столь же хороших и добрых девушек, как она. И единственное, что могло утешить, мне недолго было бы находится с этим идеалом, потому что он, как и все прочее, что лезло в меня, был слишком огромен, чтобы я удержал его в своей крохотной человеческой памяти, и крохотной своей личности. Еще какое-то время, и распадусь на атомы, влившись в огромный опыт и память иного. Но унижая мою Настю, оно, растущее, унижало и меня, мою к ней любовь, и мой выбор. И я, еще не до конца растворившийся взвыл. Потому что в отличие от прочего в этом был только страх и не было восторга. И может быть, я защищал не только Настю, но и мое отношение к ней. Потому что девушки лучше её, у того, Иного возможно и были, но вот предложить мне одну любовь, знавший сотни – не мог. В этом он был беднее меня, именно за счет опыта. И я заслонил Настю, не девая на ней писать письмена лучших дев, что когда-то с гордостью отдавали мне племена. Я закрыл её, но это теряло смысл, ибо я защищал её для себя, а ведь я растворялся, и значит скоро её защитить будет некому. И тогда я начал собирать и куски себя, вопя от ужаса и непомерной натуги, закрываясь от идущего на меня вала, отвоевывая кусочки слов и строк о Диме, у чужих писмен других стран и времен. Я лепил из осколков свою скорлупу, и уже проросшая часть иного я, гудела обрывками миллиардов мыслей и памятных сцен. А я все сжимал свою скорлупу, все затыкал щели в своем батискафе, на который давили толщи стремившиеся внутрь тонн воды.
Двойник поглядел на меня глазами терпеливого вечного Будды, и отодвинулся, и прикрыл веки, и меня будто катапультой швырнуло верх, наружу, вовне, к яркому свету.
Вспышка!
Передо мной стоял застывший Гест, приставив к шее Лейва клинок.
* * *
То что случилось, я воспринял гораздо спокойней, чем можно было ожидать. Один был неправ. Я не воспринимал его как себя. Скорее уж, как какого-то засевшего внутри паразита. И ведь я смог одолеть его, и загнал джинна обратно в бутылку. Я бы смог с НИМ жить, пусть он так и оставался подо льдом.
Смог бы…
Я еще раз поглядел на Лейва.
Тот, что был скрыт подо льдом, сумел бы все разрешить здесь в секунду. Вот только выпустить его, означает для меня, как личности – смерть. И если я его не выпущу… Возможно та ЕГО часть, что пробивается сквозь меня, действительно не даст мне умереть. Но Лейв… Лейв глядел мимо меня, и от лицо его свело судорогой; он ждал когда придет боль.
Так что же? Если я пущу время не выпустив джина из бутылки, то Лейв покойник. А возможно и я вместе с ним. А если выпущу, – скрытый внутри парень быстро во всем разберется. И скорее всего он все же не тронет Лейва, ведь и песчинка моей памяти будет в нем. Так что, выходит арифметика простая? Надо выпускать. Немногим предоставляется перед кончиной сделать доброе дело. А моя кончина, плюс ко всему, будет и не совсем полной. Ах, почему я не буддист? Или как их там, которые верят, что после смерти вольются в божество? Уж их бы мой конечно не испугал, а наоборот, обрадовал. Какое странное все-таки существо человек. То что для одних ужас, для других желанная цель и блаженство…
Бьёрн остался на мосту, и прикрыл нас с Лейвом. Куда-то направилась его душа?.. Направилась ли? Он не сомневался. А ведь он нас едва знал, всего несколько часов. А я знаю Лейва несколько месяцев. И он славный парень. И если ты даже останешься жить, не выпустив джина. Как ты будешь вспоминать Лейва? Как будешь жить сравнивая себя с Бьёрном. А? Друг Димитар? Значит надо спускать с цепи моего пса. Засиделся он там. в моей голове. И если хоть часть меня сохранится в его сознании, то Эйнар и его люди пожалеют, что знали Димитара.
Так что, ныряем?
Я приготовился снова пройти по льду. Наверно можно привыкнуть даже ходить на гильотину.
Поехали…
Стоп!
Я ведь смог отделиться от своего «джинна». Причем не глухой стеной. Сперва я отвоевал у него Настю. Потом, всего себя по частям. По частям… Нельзя сказать, что я победил его. Мы ведь, по сути, части целого. Я всего лишь преобладающая тенденция. Я не захватчик. Я его создание.
Так что если мне не спускать пса с цепи, – это-то всегда успеется – а попробовать управлять им? Те его крохи, что я вынес случайно из его сознания, кое-что мне рассказали. Я помнил урывками и отрывками кем ОН был. Ему поклонялись. И вот вопрос, на который я бы хотел знать ответ. Чьим же богом он был? А конкретнее…
Поклонялись ли ему хоть когда-то воины?
Жил был парень Митя, мальчик в душе. Он очень любил нырять в темное бездонное озеро, заполненное корягами и хищной прожорливой рыбой. Каждый раз, когда он нырял, он не знал удастся ли ему вынырнуть.
Ну так что, нырнем?
* * *
Это опять вползало в меня как змея, вливалось могучей рекой. Перед этим напором я был как плотина из веточек. Слишком маленькой, слишком человеческой была моя личность, и она трещала под напором, трепетала как осенний лист в ураган, грозя слететь с меня, как маска, грозя открыть мне кто я такой… И все же я держал её, вцепившись в неё как в спасительный круг, хватался за неё как альпинист над пропастью. И отсеивал из потока то, что нужно было мне, идя по ниточке. Мизир, Митра, Сол Инвиктис, и прочая-прочая луковичная шелуха, мои путеводные маяки… Я ухватился, не сходя с этого потока и отбрасывая остальное. Сотни, тысячи лет быть богом воинов… Они молились мне перед боем, они просили принять их павших братьев и упокоить их, воздать по справедливости. Они отдавали мне свою душу. Память, я пил память, и навыки этих миллионов, от простого крестьянина забранного от сохи и погибшего в первом бою, до задубевших в походах ветеранов, и подлинных мастеров меча. Они – я, были «бессмертными», гоплитами, легионерами, киликийскими пиратами… Их – мои ладони загрубели корой мозолей, отполировали дерево и кожу миллионов рукоятей, исщербили изломали миллионы лезвий, и пробили горы доспехов и щитов. Мелькали удары, гудели мышцы, терпко пах пот, сливались в сверкающий вихрь удары и уколы. И трещала расходившаяся под сталью плоть, хрустели кости, и чужая кровь забрызгивала глаза, попадала на язык, отдавая железистым вкусом, и сворачиваясь на коже застарелым запахом бойни. И сам я впрочем вспыхивал огнем ран, падал оглушенный болью, видел как отлетают мои конечности и умирал, иногда мгновенно, едва увидев блеск стали опускающийся на голову, иногда быстро, чуя впившуюся в грудь стальную змею, как раз в район замолчавшего сердца – тогда еще шесть-десять секунд… – а иногда медленно, о этот славный прокол в живот, от которого ты заживо сгниваешь за несколько дней, и рана смердит, и хорошо если товарищи столь решительны и милосердны чтоб добить тебя… И они – я не так уж редко встречался в бою сам с собой. Одна вспомянутая жизнь сталкивалась с другой, и один побеждал, а второй падал, а я одновременно проживал и победу и смерть, глядя в свое торжествующее лицо, глядя в свои угасающие глаза… Я трясся от липкого ужаса, и был спокоен как лед. Я гневался за погибших товарищей и жаждал славы. Я шел завоевывать мир, и стоял за родной дом, за тех кого оставил за своей спиной. Я бился в тяжелом доспехе, как ожившая несокрушимая крепость, и я скакал перед врагом в одной набедренной повязке гибкий и опасный как гепард. Я знал школы всех стран, знал все защиты, знал все удары, и все мыслимые и немыслимые подлости. Я взрывался сериями, заманивал, жалил как змея. Я рубил разваливая врага как трухлявую колоду от плеча до седла, и пронзал пробивая насквозь с доворотом в ране… И жизни, чужие жизни бились во мне как пульс, подрагивая своим опытом, и взлетая высочайшими кривыми истинных мастеров. Я сражался с детства и до кончины, разным оружием, раз за разом, нескончаемую вереницу жизней, которые складывались в миллионы лет фехтовального опыта. Опыта некогда молившихся мне убийц.
Спасибо вам, воины.
Знак мой на ваших лбах!
Правит вашими стонами непобедимое Солнце!
Все это пронеслось ураганом.
И улеглось.
…Статуей застыл передо мной с мечом в руке Гест, и коленопреклоненный Лейв ждал свою участь…
Один, я готов.
* * *
Задрожала струна. И я увидел, как медленно, постепенно ускоряясь к нормальному течению времени, Гест рванув Лейва за волосы, запрокинул ему голову назад.
– Стойте! – надрывно проскулил я. – приподнялся с четверенек. – Пожалуйста, добрый дроттин… храбрые воины… у меня здесь серебро… много…
Я споро развязал кожаные тесемки мешочка, и сняв его с пояса протягивал Эйнару и остальным, с трясущимися руками, умоляющим взглядом, и пришибленный к земле полусогнутым хребтом и ногами – обезьяьия поза покорности низшего в иерархии самца. – Пощадите…
– Твое серебро мы с тела возьмем, – ухмыльнулся Хросскель.
В эту ухмылку Хросскеля я отправил увесистый мешочек взрывным движением руки. У Хросскеля была отличная реакция, он отдернул голову мгновенным движением корпуса изгибаясь назад. Он разорвал дистанцию за пределы досягаемости моей руки Только вот не было ему времени сообразить, – я не бил, а метал, отпуская мешочек в полет, не боясь потерять его из-за кожанной тесьмы намотанной на ладонь. Сколько сотен лет я нескончаемо метал вот так кистени, импровизированные и сделанные специально, укушуйная моя голова… Хросскелю бы стоило уходить боксерским нырком, в сторону вниз, тогда бы он ушел от этого первого удара. Впрочем и это бы его конечно не спасло…
Мешочек с тяжелым стуком влетел Хросскелю в лицо, расквасив губы. Я рванул к нему догоняя, прошел вниз, растопырив пальцы коршуньей лапой, дуговым ударом снизу вонзил раскрытую ладонь Хросскелю между ног, в мужское естество, сжал так чтобы выдавить весь его поганый сок, а второй вцепился ему в одежду на груди, и волной не отпуская перебросил через себя, переворачивая с ног на голову – принимай мать-земля! Да, все-же Хросскелю нельзя было отказать в реакции. Несмотря на оглушающую боль в выкорчеванном детородном месте, он смог кое-как подставить одну руку вошел в землю не макушкой, а исхитрился отвернуть голову в сторону. Поэтому верхний позвонок не вошел ему в череп как кол, но хрустнул его позвоночник в районе подвернутой головы сухо как ломающаяся ветка. И все же он был еще жив, захрипел, как раздавленный мелкий зверек, валясь бесформенной кучей, там же где я его уронил, и не шевелясь телом, которым он, видимо, разучился владеть навсегда.
Остальные были опытные воины. Но даже они на какой-то момент застыли. Их осталось двенадцать. Шесть волков-мечников, трое с луками, двое с копьями. И Эйнар. В быстром наклоне я поднял меч Хросскеля, – поганую на мой новый взгляд железку, грубо откованную и с паскудным балансом – вполне достаточную для работы. Взял в левую, мне без разницы, – им неудобно. На правой ладони у меня все еще болтался намотанный ремешок мешочка с серебром. Я сделал шаг к Хросскелю, и позволив ремешку соскользнуть бросил мешочек на его тело. Горолвина расползлась, и грубой формы кусочки серебра рассыпались по хрипящему Хросскелю, частью заскользили на землю.
– В обмен. – Буркнул я.
Через мгновение они должны были прийти в себя, и надо было их брать. Но вот Лейв…
Я повернулся к держащему его дротту и пошел к нему.
– Отпусти парня, Гест, дерись со мной как мужчина. Отпусти его, ты безбородый! Ткач! Баба с вырезом рубахи ниже сосков!!!
Глаза Геста подернулись поволокой, он взревел как бешенный бык. На какое-то мгновенье я подумал, что он все же полоснет Лейву по горлу, Но он просто отбросил его так, что Лейв с колен влетел в землю лицом, а Гест наступил на него и попер на меня. На первом его замахе я ввел ему меч в правый бок, и не снимая с клинка, не давая упасть протащил его назад и уронил на барахтающегося на земле Лейва. Гест был крупным, и тяжело охнул Лейв, когда на него упала мертвец. Так-то мне будет спокойнее…
Свистнула серой молнией стрела. Я выхватил её из воздуха и метнул обратно в лучника. Они стояли кругом. и я пошел по кругу, прорежая их, не давая перестроится, сводя на нет их численный перевес, сперва по месту, а потом окончательно. Лучники были в приоритете, сумей они отойти, пока я занимался остальными, они стали бы серьезной угрозой. Нельзя отбить все стрелы летящие с разных сторон… Я не дал им отойти. Оставшиеся пытались окружить, – я кружил вокруг них. Потом оставшиеся пытались встать стеной, – я сломал их стену. Волки пели в свои щиты – я отнял у них глотки. Сперва я работал одним мечом. Потом двумя. Потом, когда один лучник все же отскочил я показал ему, что и меч можно метать, – снова остался с одним… Странное у меня было состояние… Агрессия очень часто бывает лишь обратной сторона страха. А я их уже не боялся. Какой может быть страх у мясника с многолетним опытом, перед тушами для разделки? Я ненавидел их, но без страха. Это было похоже… Я просто гадливо давил их как смрадных тараканов. И я хотел, чтобы они знали за что я их потрошу, пусть это и снижало скорость работы. Тот, кому я это кричал, чаще всего уже не слышал. Но остальные слышали. Конечно я не мог давать каждому именно за его дела. Но никто не отменял такую штуку, как коллективная ответственность.
Жúла внутри бедра – За Виги, что не ожидал…
Клинок под подбородок – За Хари, что не бросил…
Вспоротая брюшина – Это тебе за Гроу, что кормила меня…
Сломанный хребет – За Халлу, что выхаживала меня…
Укол в центр грудины – За Халльдис, что не успела стать женой…
Расколотый череп – За Астрид втоптанную в дворовую грязь…
Отрубленная кисть – За Торви, что не разжал руки…
Удар ниже живота – За Ингибьёрг, что узнала хлев…
Из одного двоих – За Иллуги, что не боялся волков…
Все же они были храбрецы. Никто из них не убежал. И это не потому, что они не успели сообразить, что сегодня двенадцать не справятся с одним, что сегодня на одном двенадцать закончатся. Я дал им время понять, да и трусы почему-то обычно чуют такие вещи мгновенно. Ни один не ушел. Все они до конца пытались убить меня. Перли, рыча, захлебываясь собственной кровью, зажимая раны, размахивая обрубками конечностей, пытались вцепиться хоть зубами. Это было поганое – но братство До конца они прикрывали собой порывающегося прорваться ко мне Эйнара.
Поэтому Эйнар и остался последний.
Мы стояли друг напротив друга. Теперь торопиться уже было ни к чему. Даже Лейв застыл, перестав возится под трупом Геста.
– Страшно, Эйнар? – Спросил я.
– Я не ведаю страх. – Спокойно сказал он.
– Все братья-волки лежат. Горько, тебе?
– Они в славной битве ушли.
– Надеешься победить?
– Надеюсь сегодня славно попировать в Вальхалле. – Весело засмеялся он.
– Вспомни Вермунда и его семью, что были добры со мной. Их убив, ты сам позвал свою смерть.
– Я свою смерть с детства зову. Хватит трепать языком. Надоел.
– Ничем тебя не проймешь. Ну так и сдохни.
Всё-таки спешить было некуда, и я сперва положил на Эйнара несколько несмертельных ран. Максимально болезненных, а уж я-то знал в этом толк… Слезы выступали у него на глазах, но это не мешало ему до конца наступать на меня и при этом весело смеяться. Чем больше я его ранил, тем больше он хохотал. Его действительно было не пронять.
И я снял с него голову.
Когда он повалился, я еще некоторое время смотрел на лежащее передо мной тело. Незаурядный, но никчемный человек… Он убил семью Вермунда, а я убил его. И справедливость восстановилась, а равновесие нет. Так-то…
Я оглядел поле боя. Шевельнулось внутри сожаление эстета, ностальгия по идеальной кривизне персидской сабле, или длинному узкому римскому кавалерийскому мечу, которыми я владел сотни лет, и никогда не держал в руках. Да, ими бы я смог сработать более изящно… Более изящно… Аккуратнее был бы взрез на животе, вываливший кишки вон тому?.. Или ровнее был бы спил на лишенной головы шее вот этого?.. Мне Мите – городскому асфальтовому мальчику ХХI го века, стало дурно.
Я услышал за спиной сопение. Лейв застывши на время поединка снова пытался вылезти из под тела Геста. Я подошел, отвалил труп в сторону и помог Лейву подняться.
Лейв со всей силы ударил меня в лицо. Я почувствовал во рту кровь. Моя единственная рана за весь бой.
– Ты!.. – Яростно крикнул Лейв. – Ты их всех!.. А чтож ты тогда?!. Чтож ты тогда просто смотрел?!
– Прости, Лейв. – Мне стало горько, и я запнулся, пытаясь понять, как бы это ему объяснить. – Я тогда не умел так. Не знал что умею. Когда в реку упал, память отморозило.
Лицо Лейва оплыло гримасой.
– Если бы ты раньше вспомнил… Если бы ты только…
Он сел где стоял, обхватил голову руками, и зарыдал, отчаянно и безутешно.
* * *
Лопнула струна…
– Что-же, – Спросил меня Один. – Значит ты так и не проснулся.
– И что ты будешь со мной делать? – Спросил я.
– Пока не знаю, – он покачал головой. – А что будешь делать ты?
Это похоже у него был фирменный конек, переадресовать тебе же твой собственный вопрос.
Я кивнул на застывшего Лейва.
– Отведу его на побережье, и посажу на корабль. Пусть плывет к родственникам. Хоть Эйнар и умер, делать парню здесь одному все равно нечего.
– А потом?
– А потом хочу поговорить с тобой, Один… Насчет того, как мне вернуться домой.
Он взглянул на меня своими странными глазами.
– Домой… Это мы еще очень поглядим. Что с тобой теперь делать я еще не решил. Ну да ладно. Отведи парня, потом потолкуем.
– Надо ли мне для этого будет плыть на твой остров?
– Ведешь парня на побережье? Вот там и встретимся.
И мир снова ускорился.
– Лейв, – я положил руку на плечо. – давай-ка собирается. – собери серебро обратно в мешок, а я попробую отловить пару дроттских лошадей.
* * *
Что здесь можно сказать. Мы поймали лошадей. Я снял с дружинников деньги, и забрал мечи. Это было мое право. Мечи я завернул их в тюк на отдельную лошадь. Потом мы вернулись к реке и сделали погребальный костер для Бьёрна. Надеюсь, что этим мы не нарушили каких-то его медвежьих традиций. И только потом мы пустились в путь, искать дорогу к побережью. Мы нашли дорогу, и встретив на ней редких прохожих узнали куда нам ехать. Через две недели я увидел здешний океан. Он лежал до горизонта, покуда хватало глаз. Его белая пена накатывала на черный каменистый пляж, что широкой полосой шел вдоль всего берега. А из воды поднимались тут и там редкие прибрежные скалы огромного размера, некоторые конусообразные, другие похожие на гигантские обломки, и несколько даже с арками. Еще какое-то время мы шли по берегу, пока не добрались до защищённой со всех сторон скалами бухты. Вся пристань здесь состояла только из нескольких вкопанных в землю деревяных столбов, к которым привязывались корабли. Но когда мы приехели туда, кораблей не было. Еще там был деревяный ангар в котором хранился корабль дроттина Эйнара. При ангаре было двое человек хранителей. Я подумал было отобрать у них корабль, по праву эпохального победителя, но потом подумал, что Лейв все равно не сумеет в одиночку им управлять. Весть о кончине Эйнара слуг конечно ошеломила, и они долго охали и бормотали, что же теперь будет.
– Не тревожьтесь, – сказал я им. Найдется скоро на место Эйнара другой охотник, и ему так же бует нужен и корабль, и тот кто его хранит. Дроттины приходят и уходят, а сторожа остаются…
С тем хранители корабля и дали нам крышу над головой до прибытия кораблей. Тратить серебро не пришлось, напротив они еще доплатили нам, хоть и денег у них было немного. Это не был грабёж, Я в обмен отдал им взятых нами лошадей, и сделка была здорово им в пользу. За это они кормили нас пока не прибыл корабль с нужным нам маршрутом. Сообщение здесь было не ахти каким оживленным. Корабль, идущий к острову, где жили родственники Лейва, пришел только через восемнадцать дней. Пока мы ждали, я уже успел повидать местные корабли, и они меня пугали. Это были какие-то одномачтовые беспалубные баркасы, метров хорошо если пятнадцать в длину и бортами едва поднятыми над водой. И идея плыть на них куда-то далеко от берега представлялась мне весьма тревожной. Впрочем, ходил они ходко, и под парусом и на веслах. Капитана нужной нам посудины звали Бейнир. Он разгрузился здесь, привезенный им товары уже ушли на телегах от берега, и обратно он должен был идти налегке. Я разузнал о нем, у ангарщиков, выяснил, что репутацию он имеет человека честного и надежного, и столковался насчет перевозки Лейва. В оплату я дал Бйниру тесак одного из дружинников Эйнара, отобрав тот, что похуже. Судя по лицу капитана, я понял, что все равно здорово переплатил.
Я поинтересовался у Бейнира, точно ли тот не заблудится и доставит Лейва? На что капитан тщательно скрывая пренебрежение к богатой береговой крысе сообщил, что заблудиться в море невозможно, так как ночью светят звезды, а днем дорогу укажет солнечный камень. Он был прав, в своем легком презрении, так как мой вопрос был глуп и от нервов. Деньги мы с Лейвом разделили так: те что я взял с дружинников – напополам. А тот мешок что дала Оса я оставил себе, и сказал Лейву, что попробую вернуть его, чтобы жизнь Осы не была слишком тяжкой. Мечи и тесаки я все кроме одного отдал Лейву, упаковав их в тюк из шкуры, а перед этим предварительно густо смазав купленный у барачников жиром, чтобы их не съела ржа в морском пути.
Мы стояли у корабля.
– Ну что, Лейв, – пора прощаться, сказал я. – Приедешь на остров, найдёшь родню. Думаю даже дядя не станет сердится на тебя, когда ты покажешь ему сколько мечей привез с собой – я кивнул на уложенный на корабле тюк – с этаким-то богатством… Так что не позволяй ставить себя в бедные приживалы. А как заручишься поддержкой родни, так приезжай сюда с верными людьми, и требуй обещанную тебе Осу, если еще будет желание.
– Мы еще увидимся? – спросил Лейв.
– Кто знает… Возможно я когда-нибудь приплыву к твоему дому примёрзшим к коряге. Прислони меня тогда к очагу.
– Ты уж лучше своими ногами приходи, – улыбнулся он. – Как бы ты не пришел, мой очаг будет твоим.
– Спасибо, Лейв. Коль жив я буду, чудный остров навещу…
Бейнир, сидевший на рундуке и раздававший команде ценные указания повернулся к нам.
– Давай на борт, парень. – Сказал он Лейву. – Мы идем в море.
Мы крепко обнялись, и Лейв полез на невысокий борт. Я слишком близко подошел к местному "морскому коню", и в нос мне шибанул ошеломляющий запах какой-то дряни промазывающий обшивку.
Люди Бейнира оттолкнули корабль от берега, налегли на весла, и он ходко пошел от берега.
– Удачи тебе, Димитар! – Крикнул Лейв.
– И тебе удачи…
Бейнир обладал завидной глоткой. Я слышал его когда корабль уже основательно отошел от берега, и вышел из маленькой бухты.
– Отличный ветер! – Заревел капитан. – Оседлаем его, и просушим весла! Кнут, Стейнар – спустить парус!
Над кораблем развернулся парус, туго надулся, поймав ветер, и вскоре весла поднялись на борт.
Я сидел на поваленном бревне и смотрел, как корабль уходит в море.
* * *
– Позволишь? Сзади раздался знакомый голос. Я обернулся. Высокий старик в суконной шляпе стоял сзади, опираясь на посох.
– Разве хозяину в его доме указывают, где садиться? – Я приглашающе показал рукой рядом с собой.
Старик перешагнул через бревно, опустился и со вкусом устроился, положив посох себе на колени. Ветер овевал наши лица и шевелил бороду моего соседа. Мягко шумел прибой, покрикивали птицы. Было свежо.
– Рассказать ли тебе сказку, высокий? – Спросил я.
– Староват я уже для сказок. – Посмотрел на меня старик. Но впрочем, послушаю. О чем будет сказка?
– О сотворении мира.
– О, ну такую не грех и послушать. Сколько уже я их наслушался от людей. Отчего бы не послушать и от тени.
– Верно, высокий. Я лишь тень… Даже для того, чтоб одолеть Эйнара, я взял совсем чуть-чуть. Заглянул в закрытую дверь сквозь замочную скважину. Так что если я в чем ошибусь и скажу неправильно, ты поправишь меня.
– Тогда начинай свою сказку, ты, осколок, ребенок по собственному желанию.
– Так слушай же. В начале существовал тот, который был всем, но у кого не было ничего. От такой ситуации рано или поздно загрустит любой. И тогда он создал вселенную. Но поскольку у того который был всем не было ничего, то и мир ему пришлось творить из себя, ну или по крайней мере из какой-то своей части. Тот у которого не было ничего, таким образом стал Творцом. Но никто не знает, какую цену пришлось ему за это заплатить. Стал ли он миром, породив его и полностью растворившись в нем, пожертвовав собой ради своего главного творения? Или же он остался, но мир оказался для творца закрытой коробкой, запущенными часами, в которых он не может тронуть ни колесика, дабы не остановить весь механизм? Этакой чашкой Петри, в который ученый поселил колонию организмов, и теперь может только наблюдать, ибо все его инструменты слишком огромны и грубы для прямого воздействия? Точно этого внутри самого мира никто не знает. Потому что после сотворения, Творец себя уже никак не проявлял, по крайней мере, явно. Люди до сих пор помнят о Творце. В той местности, из которой я к сюда попал, люди называли его Род. Персы звали его Зерван Акарана – Бесконечное Время. Были и другие имена, свои у каждого народа. Но это не суть. Как говоришь ты, высокий, шелуха имен.








