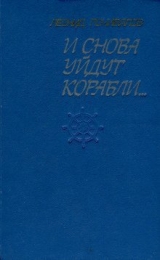
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Еловая ветка
…Всю ночь бушевала непогода. Тропический дождь шрапнелью бил по палубам, и шум его порой заглушал утробный грохот корабельной машины. На всякий случай «Витязь» временами давал гудки, предупреждая о себе встречных и поперечных. Да какие здесь встречные! Кругом открытый океан. Где-то на западе, за сотни миль от нас лежала Австралия.
Давно отзвенели в машине полночные склянки, затих вечерний гомон в жилых отсеках. Я заглянул в радиорубку. В ней по-мышиному пищала морзянка. Шел прием запоздавших по причине длинной очереди новогодних радиограмм. Склонив оседланную наушниками голову над столом, радист торопливой рукой бросал на бумажный лист слова, которые долетали до нас из далекого далека. «Люблю, целую, жду…» Почти для каждого одинаково, но для каждого – свое. «Мне нет?» Он кивнул головой, улыбнулся одними глазами: «Пишут!»
В полумраке кают-компании холодно поблескивала серебряной мишурой елка. Прошло уже пять дней, как отпраздновали мы в океане нашу неяркую моряцкую новогоднюю ночь, а елка все стоит, и боцман не решается поднять на нее руку. Удивительная елка! Мы получили ее в порту Ванино, два месяца она пролежала в судовой холодильной камере, потом неделю, сгибаясь под пышным праздничным нарядом, стойко переносила тропическую духоту и вот целехонька – ни иголочки не обронила. Пушиста, зелена, духовита, отсюда, из кают-компании, до многих дверей доносит она запах родных лесов.
Я поднялся на мостик. На штурманском столе была расстелена карта, совершенно голубая, только в углу листа одиноко зеленело круглое аккуратное пятнышко. Норфолк! Уж больно мал! «Не промахнемся?» – спросил я штурмана. Он весело отозвался: «В море всякое бывает…»
Утром я выбежал на палубу и увидел над ней солнце, отполированный до блеска присмиревший океан и в нем Норфолк. Это была одинокая глыба серого камня в неправдоподобно-театральной синеве водного простора, отороченная зеленым пушком леса.
«Витязь» бросил якорь на рейде. Скалистые берега острова в лихой крутизне срывались к океану, прибрежные рифы клыками торчали из молочной кипени прибоя.
Норфолк словно заблудился в океане – от Австралии в полутора тысячах километров. С континента прилетают на островок любители охоты на акул. И еще почитатели экзотики: на крошечном клочке тверди, остатке некогда погибшего континента, растет необыкновенный красоты дерево, похожее на сосну, которое встречается только здесь, на этих тридцати квадратных километрах камня. Есть здесь экзотика и другого рода – когда-то на острове была британская каторга, и мрачные стены старинных казематов, могильные камни над прахом казненных и тоскливые ночные крики странных птиц в лесных чащобах будоражат фантазию туристов.
Далеко же нас занесло! Край света! Вступив на берег, я отправился куда глаза глядят по каменистым тропам, и не прошло и часа, как очутился на противоположной стороне острова. Невелика земля! Маленькими редкими группками по горным тропинкам, по кромке берега бродили туристы-австралийцы в пестрых панамах и белых шортах. Стрекотали кинокамеры.
Я познакомился с ними на главной улице крошечного поселка. Мужчина средних лет, худой, долговязый, с сухим, костистым, рассеченным глубокими морщинами лицом, тронул меня за плечо и, обнажив желтые от табака зубы, сказал по-русски с заметным акцентом:
– Простите, сэр, вы с русского корабля?
Получив подтверждение, предложил:
– Не соблаговолите ли испить в нашей компании чашечку кофе?
И снова улыбнулся. Рядом стояла невысокая круглолицая женщина с мягкими тихими глазами.
– Татьяна Георгиевна! Моя жена! – представил мужчина спутницу и, вытянувшись, подобрав плечи, уронил подбородок на грудь в коротком и четком по-офицерски поклоне, представился сам: – Геннадий Жеромский. И поспешил добавить: – Геннадий Стефанович, если угодно.
За чашкой кофе сообщил:
– Все обитатели острова взволнованы заходом вашего корабля. Русские корабли здесь никогда не бывали. А мы с Таней взволнованы особенно.
Я поинтересовался:
– Как понимаю, вы – русские?
Мужчина весело блеснул блекло-голубым глазом: Таня – россиянка, а я – поляк. Жеромский. Может, слышали? В начале века был у нас такой классик Стефан Жеромский.
– Слышал и знаю. Читал.
– Так вот – я его потомок. По прямой линии, – сообщил мой собеседник.
Бывают же неожиданности! Когда-то, много лет назад, я впервые приехал в Польшу в качестве корреспондента московской газеты. В первый месяц жизни в разрушенной послевоенной Варшаве меня представили замечательному польскому писателю Ярославу Ивашкевичу. «Чтобы о поляках писать, их надо изучать, – сказал он. – Очень вам советую читать побольше Жеромского. Простой народ он знал лучше многих». И Жеромский стал одним из первых польских писателей, с помощью которых я стал познавать поляков.
Какими же судьбами занесло потомка польского классика на этот тихоокеанский островок? Живут в Австралии. Геннадий Стефанович – техник. Татьяна Георгиевна работает на фабрике фруктовых соков в Мельбурне. Оба выходцы из старой, давно натурализировавшейся в Австралии эмиграции – польской и русской.
– Вот однажды встретил поляк кацапку и понял, что быть им до конца дней вместе, – со смехом пояснил Жеромский.
У них двое детей, они сейчас тоже на острове – в кино пошли. А на Норфолк прилетели, чтобы провести здесь свой отпуск. Это первый вояж за пределы Австралии. «Дорога сюда самолетом – разорение».
– А в Европу не собираетесь? – спросил я.
Жеромский вскинул свои длинные костлявые руки:
– Да бог с вами, какая там Европа! Мы не из бедняков, но чтоб всей семьей в Европу!.. Много лет копить надо.
Татьяна Георгиевна с грустью прищурила глаза:
– Мне бы когда-нибудь хоть глазом взглянуть на Житомир.
Геннадий Стефанович кивнул:
– А мне на Кельце. Род-то ведь наш – келецкий, добираться бы нам с Таней пришлось, в сущности, в один край. Мы по карте линейкой мерили: от Житомира до Кельне по прямой не больше четырехсот километров. Рукой подать!
Жеромский расплатился с кельнером и вдруг предложил: «Не хотите посмотреть остров? У нас машина». Машина оказалась старенькой, скрипучей, как телега, с жгуче-желтыми фарами. Жеромские взяли ее на Норфолке в аренду на три дня. Меня возили по острову и демонстрировали его достопримечательности: на высоком берегу обелиск в память высадки в 1769 году капитана Кука, старинный «кровавый мост», окропленный кровью восставших каторжан, рощи норфолкской сосны…
Расстались мы у пристани – мне пора было на «Витязь». Подошел катер с нашего судна, доставил новую партию уволенных на берег. Я представил своим коллегам Жеромских.
– Проше бардзо, господа-товарищи! – Геннадий Стефанович протянул руку к машине. – Садитесь. Покажу вам остров!
Татьяна Георгиевна осталась на пристани:
– Пусть лучше лишнего человека возьмет.
В солнечный простор океана четко вписывался силуэт стоявшего на рейде «Витязя».
– Мы завтра уходим, – сказал я. – Приезжайте перед отходом в гости. И детей берите. У нас на борту елка есть.
Она изумилась:
– Настоящая елка?!.
Мне хотелось, чтобы визит на «Витязь» им запомнился. На камбузе как раз пекли ржаной хлеб – я выпросил для Жеромских две буханки. Забежал в радиорубку: «Коля, сделай одолжение… Понимаешь, поляк…» Радист набычился: «Мне это на час возни. Вы на острове экзотикой любовались… а я работал. Обойдется твой поляк без музыки». Радиста можно было понять – работы у него всегда невпроворот.
Жеромские прибыли с последним катером, наряженные, как на великосветский прием. Когда поднимались по трапу, их приветствовали многие. Оказывается, все эти два дня из трех, отпущенных на аренду машины, они возили по острову витязян. Приехали вместе с детьми – четырнадцатилетней Аллой и десятилетним Жоржиком, худющим и длинноногим – в отца, густо забрызганным веснушками – в мать.
Мы водили гостей по судну, показывали машину, мостик, научные лаборатории. Потом пригласили в кают-компанию: «Вот наша елка! Прямо из Сибири». В широко раскрытых детских глазах золотыми искрами дрожали елочные огни. Я оторвал от елки по ветке и протянул ребятам: «Вам на память. Понюхайте. Это запах родины ваших предков». Жеромский им пояснил: «Такие елки растут и в Польше, и в России».
Я пригласил гостей в свою каюту. Дети тут же потянулись к книгам, которые стояли на полке, весело галдели. По-русски.
– Они и по-польски говорят, – объяснила Татьяна Георгиевна. – Дома то на одном, то на другом языке. А уж за пределами дома, разумеется, по-английски.
– Уж такая у нас сборная семья, – вставил Жеромский. – И обстоятельства жизни такие.
Я заранее приготовил для Жеромского сюрприз. Открыл тумбочку, вытащил книгу, положил перед гостем на стол. Это был томик рассказов Стефана Жеромского, изданный в Москве.
– Чудеса! Откуда это? – поразился гость.
– В судовой библиотеке отыскал.
Жеромский повертел в руках потрепанный томик.
– Читают… – сказал он. Осторожно полистал хрупкие, желтоватые от времени страницы, покачал головой: – Подумать только!
На одной из страничек его взгляд задержался, зрачки поострели. Он прочитал вслух:
– «Стоит сильный мороз. В зимнем воздухе, мешаясь с ледяными искрами, носятся мелкие снежинки… Над безбрежными просторами заснеженных полей стелются белесые, прозрачные, сыпучие, как песок, дымы поземки…»
Прочитал и замер, подняв светлые глаза над книгой и взглянув через иллюминатор в темень за бортом.
– Боже мой! – вздохнула Татьяна Георгиевна. – Неужели где-то на свете есть снег? И поля пуховые, и хаты под снежными шапками, и желтый свет вечерних зимних окон…
Когда настала пора гостям отправляться на берег и мы вышли на палубу, боцман, увидев нас, махнул кому-то на верхней шлюпочной палубе рукой и крикнул: «Давай!» Щелкнул репродуктор, пошипел немного, и вдруг раздались звуки рояля. Над палубами «Витязя», над жаркой гладью ночного тропического океана звучал вальс Шопена.
У трапа Татьяна Георгиевна целовала провожающих, и, прощаясь с ней, мы чувствовали влажность ее щек. Жеромский, прежде чем ступить на трап, неуклюже размахивал своими длинными худыми руками и, неожиданно перейдя на польский, кричал:
– Дзенькуемы бардзо! Дзенькуемы! Вшнескего неилепшего! До спотканя!
Когда катер скрылся во мгле, держа курс к проколотой вечерними огнями черной горбине острова, наружные судовые динамики голосом капитана приказали: «Палубной команде на подъем якоря!» Коротко прогромыхала якорная лебедка, вздрогнула под ногами палуба – это пустили судовую машину, – и «Витязь» стал медленно разворачиваться, целясь носом во тьму открытого океана. Вот развернулся, вот заплескалась у форштевня волна, ударил в лицо тугой ветерок – дали ход.
Я стоял на крыле мостика и глядел на удаляющийся остров. Вдруг среди белых фонарных огней, рассыпанных по склону горы, ближе к ее вершине, там, где шоссе забиралось на перевал, резко вспыхнули две желтые автомобильные фары. Вспыхнули и погасли… И так снова и снова. Я подошел к капитану: «Разрешите, Анатолий Степанович?» Он кивнул. Я потянулся к рычагу на стенке рубки, «Витязь», покорный моей воле, забасил и, казалось, сотрясал гудком висевшие над его трубой чужие незнакомые звезды. Один гудок, второй, третий… Так положено кораблю при прощании.
Мрак за бортом тут же ответил нам новыми торопливыми всплесками света. Сперва двух желтых огоньков, потом они слились и вскоре исчезли, захлестанные ночью.
Рядом со мной прислонился к поручню радист. «Спасибо!» – сказал я ему. Он посопел:
– Да что там! Раз нужно так нужно. Правда, пришлось повозиться: пленка оказалась оборванной. – Помолчал. Я не увидел, а скорее почувствовал во тьме, как он улыбается: – Смешной этот ваш поляк. Руками размахивает, вроде бы на митинге. А что он такое кричал: «До спотканя»?
– До свидания, – пояснил я.
Радист опять посопел:
– Да где там – до свидания! Разве встретишься? Океан велик.
Мы опять помолчали. Скулы легких волн отражали трепетный звездный свет.
Прямо по курсу
Чьи имена дают кораблям?
Мы волновались все больше. Где они запропастились?! До отхода судна всего два часа, а их нет! Может, раздумали? По судовой радиотрансляции в который раз объявили, чтобы все посторонние, не уходящие в рейс, немедленно покинули борт судна – начинался пограничный и таможенный досмотр. «Михаил Лермонтов» уходил в свой первый рейс в Америку, открывая постоянную пассажирскую линию из Ленинграда в Нью-Йорк.
Я пошел проводить Эллу до трапа.
– Уж не случилось ли что с ними? – волновалась она.
Простившись со мной, моя жена спустилась вниз по трапу, но через минут десять снова оказалась на судне.
– Где здесь майор? – взволнованно спрашивала она моряков. – Найдите майора!
Супруги Капицы ступили на борт через полчаса. Увидев меня, Анна Алексеевна сообщила:
– Похоже на то, что мы были задержаны властями. И нас выручила ваша Элла.
Случилась история прямо-таки анекдотичная. Все, кто отправлялся в этот престижный рейс – журналисты, советские и иностранные, кинооператоры, представители фирм, – считались гостями Морфлота. На них были общие списки – на листе ставили очередную галочку – проходи! И вдруг в пропускном павильоне Ленинградского торгового морского порта, откуда отходил в рейс лайнер, позже всех остальных объявилась весьма странная пожилая пара – скромные, вежливые, говорят не громко, права не «качают», вид такой, будто не туда попали.
– Вам, собственно, куда, папаша? – строго спросил дежурный пограничный старшина.
– Нам в Англию… – ответил «папаша».
– Тогда ошиблись! Судно идет в Америку.
– Но у нас билеты именно на это судно, – попытался настаивать пожилой мужчина. – А Англия как раз по пути…
– А кто вы?
– Пассажиры…
Подозрения старшины росли с каждой минутой.
– Пассажиры? На этом лайнере нет сейчас пассажиров. Здесь все гости.
– Но мы все-таки пассажиры! – продолжал настаивать мужчина. – Вот наши паспорта, билеты… Взгляните!
На помощь старшине пришел дежурный таможенник. Он внимательно просмотрел предъявленные документы. Лицо его посуровело.
– М… да… – обронил таможенник, значительно покачав головой. – Что-то здесь не то…
И еще раз критически, с головы до ног оглядел странную пару. Среди десятков отбывающих они только двое пассажиры, все по списку, а эти с билетами, купленными за деньги. И паспорта озадачивающие – для пограничника и таможенника торгового порта непривычные, первый раз видят: в зеленой корочке! Оказывается, дипломатические. Но на дипломатов старики никак не похожи. И вообще, дипломаты с торговых причалов не отбывают.
– Придется вам потерпеть, папаша! До выяснения, – вынес окончательное решение старшина. – Вот придет майор…
Как раз в этот момент в пропускном павильоне и появилась Элла. Быстро разобравшись в происходящем, попыталась разъяснить:
– Это академик Капица с супругой!
Сделанное представление впечатления не произвело. Ну и что – академик!
– Член президиума Академии наук!
Тоже не прозвучало убедительно.
– Ученый с мировой известностью! Неужели никогда не слышали?
Нет, старшина и таможенник о такой знаменитости не слышали.
– Дважды Герой Социалистического Труда!
Вот это, кажется, подействовало. Озадачились: дважды Герой! Стало быть, фигура! Но на всякий случай поинтересовались:
– Но почему все отправляются в Америку, а они в Лондон?
– Потому что им нужно не в Америку, а именно в Лондон, – Элла теряла терпение.
– Придется вызвать майора, – сдался старшина.
Трагикомическая история посадки супругов Капиц на борт «Михаила Лермонтова» завершилась быстро и благополучно. Подтянутый вежливый майор от имени погранслужбы принес извинения за досадную «накладку», а поднявшимся по трапу старшине и таможеннику сделал публичный выговор:
– О таких людях вам следовало бы знать! С такими людьми даже постоять рядом – великая удача! Именами таких людей корабли называют!
Уже потом, во время рейса, Петр Леонидович, вспоминая слова майора, посмеивался:
– Оказывается, имею право на собственного имени пароход! Вот уж не думал!
Я уверен, Петр Леонидович и вправду о таком думать не мог. Его мысли были далеки от подобных пустяков, не до тщеславия, не до заботы о собственном престиже. Мысли были о другом, значительном. А престиж создается сам по себе, вроде бы независимо от воли ученого.
Была середина мая, ветры Балтики еще хранили ледяное дыхание зимних штормов, но когда лайнер выходил из Ленинградского порта, все его пассажиры высыпали на палубы. Как-никак момент торжественный: первые часы существования первой советской трансатлантической пассажирской линии в США! Стрекотала камера кинооператора, щелкали затворы репортерских фотоаппаратов. Ко мне подошел молодой человек в морской командирской форме.
– Я из экипажа! – представился он. – Но здесь, на теплоходе, внештатно представляю газету «Водный транспорт». Не подскажете, кто из гостей, по вашему мнению, больше всего подходит для интервью. Так сказать, в нашем морском ракурсе.
Я кивнул на стоящих у борта Анну Алексеевну и Петра Леонидовича. Кутаясь под холодным ветром в плащи, они, как и все остальные, прощались с уходящими за горбину волн берегами Родины.
– Только это не гости, а пассажиры!
– Но ведь академик Капица – физик, к морю вроде бы прямого отношения не имеет.
– Напрасно так думаете! – возразил я. – Вся эта семья имеет самое прямое, даже родственное, отношение к морю. Анна Алексеевна – дочь знаменитого русского кораблестроителя академика Крылова.
Я показал глазами в забортное пространство.
– Видите там темное пятнышко? Это Кронштадт. Так вот, оборонительную фортификацию для русского флота строил на этом острове инженер Капица, отец Петра Леонидовича.
Супруги Капицы сразу же стали центром внимания всех, кто был на борту лайнера. Понятно, моряки проявили интерес прежде всего к Анне Алексеевне – еще бы, дочь академика Крылова! Пришла к Анне Алексеевне метрдотель судового ресторана, молодая милая женщина: «В Америке предстоят на борту банкеты. Хотела бы посоветоваться, как правильнее сервировать столы». Иностранные журналисты атаковали Петра Леонидовича. Вопросов было много, он охотно отвечал на все и на четырех языках, в зависимости от того, на каком языке к нему обращались – русском, английском, французском или немецком. «Куда направляетесь?» – «В Англию». – «Зачем?» – «Получить почетную научную медаль». – «Много ли их у вас?» – «Не помню». – «Что вы думаете о современной международной обстановке?» – «Она мне внушает надежды». – «Как вы полагаете, возможно ли избежать новой войны?» – «Вполне возможно». – «Что для этого надо делать?» – «Быть благоразумными». – «Верно, что вы отец советской атомной бомбы?» – «Не верно. Я отец двух сыновей». – «Но ваши работы способствовали ее созданию?» – «Ее созданию способствовали даже работы Галилея». – «Резерфорд говорил о вас, что вы неистребимый оптимист. Согласны ли вы с этой оценкой?» – «Резерфорду виднее, ведь я был его учеником. Но я уверен, что будущее можно создавать только на базе оптимизма, иначе будущего у нас не будет».
В тот рейс Петр Леонидович был в годах уже немалых, но даже намека на увядание нельзя было подметить ни в его фигуре, ни в его движениях и тем более в его мыслях. Он всем внушал бодрость, так же как много лет назад внушал ее коллегам и даже самому своему учителю Резерфорду в Кавендишской лаборатории в Англии, в стране, на встречу с которой он снова стремился.
По утрам вставал раньше всех пассажиров «Михаила Лермонтова» и бодро расхаживал по палубам. Стучал в окно моей каюты: «Леня! Просыпайтесь! Солнце встало. Пора в путь!» Пешеходные, в хорошем темпе прогулки были его страстью. На Николиной горе он разработал четко вымеренный трехкилометровый маршрут – вдоль излучины Москвы-реки. Я не раз ходил с ним по «его» тропе. Петр Леонидович неизменно повторял: «Когда человек идет, ему лучше думается. Вполне объяснимо биологически…» И подробно объяснял, почему именно.
Это было главным требованием ученого к любой обстановке – иметь возможность думать. Во время таких прогулок как много неожиданного, необычного узнавал я от Петра Леонидовича. Он был превосходным рассказчиком, его мысль касалась не только научных проблем, но самых житейских, была всегда оригинальна, неожиданна. Однажды во время прогулки я что-то сказал о том, как чист и свеж сегодня воздух здесь, в полях, вдали от людской скученности. А он в ответ заметил: «Знаете ли вы, что в глотке воздуха, который мы с вами только что вобрали в себя, есть атомы, присутствующие в последнем выдохе, ну, например, Ньютона?» И посмеявшись над моим удивлением, добавил: «У нас у всех один довольно тесный дом – наша маленькая планета».
Когда «Михаил Лермонтов» пришел в Лондон, на причале Капиц встречали несколько почтенных седовласых джентльменов. Меня представили им, а потом, улучив момент, Анна Алексеевна тихонько пояснила: «Это люди с мировыми именами». В лицо я не знал никого, но в их сухоньких головах, сединах, сдержанных жестах и сдержанных улыбках, в скромной неброской одежде было что-то трогательно старомодное и в то же время значительное. Они сели в старомодные автомобили и укатили вместе с супругами Капицами в свою Англию, а я, глядя вслед, подумал, что, наверное, именно вот таким старцам и дано нести зерно высшей мудрости человечества, очищенной от шелухи житейского вздора и пустяков.
Но мудрость к ним пришла, когда они еще были молоды. Мудрость не накапливается с годами, как соль в суставах, она дар природы, так же как и талант.
В доме Петра Леонидовича в гостиной я видел картину, на которой были изображены два молодых человека, рассматривающих рентгеновскую лампу. Картина написана много лет назад, но без труда узнаешь в ее персонажах Петра Леонидовича Капицу и Николая Николаевича Семенова, двух академиков. Петр Леонидович рассказал мне историю создания полотна. Случилось это в двадцатом году. Шагали по Петрограду два университетских выпускника. Где-то заработали превосходный для того времени харч – полмешка гороха и петуха. Проходили мимо старого дома в Петрограде: «Здесь живет Кустодиев». Другой предложил: «Зайдем?» Сказали Кустодиеву: «Нарисуйте нас!» Художник удивился: «Почему именно вас? Вы еще никому не известны». Они ответили: «Станем известными!» Художник рассмеялся, усадил самоуверенных молодых людей и принялся за работу. Она завершилась созданием одного из лучших его полотен. В благодарность натурщики оставили художнику полмешка гороха и петуха. Мог ли тогда предполагать Кустодиев, что ему позируют два будущих Нобелевских лауреата?
На плите над могилой Ньютона в Лондоне высечена фраза: «Пускай каждый из живущих поздравит себя с тем, что существовало на свете столь великое украшение рода человеческого». Это прекрасное мудрое изречение можно отнести и к наиболее выдающимся последователям Ньютона, а академик Капица относился именно к ним. Портрет английского ученого на многие годы занял почетное место в его кабинете. Каждый, знавший лично Петра Леонидовича, может себя поздравить с редкой удачей общения с человеком поистине необыкновенным – об этом хорошо сказал пограничный майор в Ленинградском порту перед отходом в рейс «Михаила Лермонтова». История знает крупных ученых, сделавших немалое в науке, но знает лишь как ученых, подробности, создающие их личность, история забыла – не столь уж яркие были эти подробности. Не каждый талант многогранен, как алмаз. Академик Капица был не только выдающимся ученым, но и выдающейся личностью – разносторонней, неповторимой, самобытной. И сейчас, когда я пишу эти строки, когда заглядываю в свои старые и не очень старые дневники, то на каждой странице обнаруживаю нечто такое, о чем хочется непременно рассказать другим – интересно, необычно, поучительно. Передо мной яркие крупинки богатства его личности. Ведь и уйдя от нас, человек продолжает делиться с нами этим богатством.
У него завидная судьба. Он стал заметным сразу же с молодых лет. В 1922 году вместе с другими учеными его послали в Англию закупать научное оборудование, но вскоре оставили там для стажировки. Молодой Советской республике нужны были современные кадры для предстоящего научного броска в будущее. Оказавшись в знаменитой Кавендишской лаборатории в Кембридже, Л. Л. Капица стал учеником выдающегося английского физика Нобелевского лауреата Э. Резерфорда. Молодой русский быстро обратил на себя внимание, сделался одним из самых близких сотрудников Резерфорда, провел блестящие исследования по изучению альфа-лучей, свойств металлов и различных явлений в условиях сильных магнитных полей и низких температур. Его статьи охотно печатали самые крупные научные журналы разных стран. Уже через два года после приезда в Англию он с успехом защищает здесь докторскую диссертацию. Знакомится со многими выдающимися учеными того времени. Его опыты, проведенные в Англии, сыграли большую роль для дальнейшего развития ядерной физики. Академик Ю. Б. Харитон, который проходил в те же времена стажировку в Англии, рассказывал, что в Кавендишской лаборатории о Капице говорили, что он «делал то, что не могли сделать другие, даже сам Резерфорд».
Он вернулся в СССР в 1934 году ученым с мировым именем и стал директором им же созданного Института физических проблем Академии наук СССР. Возглавлял институт до последнего своего часа.
Нет нужды подробно говорить о сделанном им в науке – об этом в разные годы немало писалось в газетах, журналах, в книгах. Он внес большой вклад в развитие физики магнитных явлений, низких температур, электроники и физики плазмы. Его исследования и разработки привели к созданию новой отрасли промышленности, связанной с производством жидкого кислорода. Последние годы жизни он посвятил поискам решения проблемы управляемого термоядерного синтеза, столь важной для человечества. А сколько новых идей поддержал, сколько молодых вдохновил на дерзания, скольким в трудный момент протянул руку и помощи и поддержки. Академик Федосеев заметил, что в конечном счете центром всех научных исследований Капицы был человек – потому что для него, человека, Капица жил и трудился. И недаром к нему так тянулись люди. Как-то мне довелось увидеть записную книжку Анны Алексеевны с адресами и телефонами знакомых. Это был целый том, в котором сотни фамилий. И всем Капица был нужен, и все они были ему нужны. В его доме можно было встретить выдающихся научных светил нашего времени: Королева, Семенова, Келдыша, Харитона, Ландау, Тамма, Туполева, Лаврентьева. Многие видные иностранные ученые считали своим долгом нанести визит прославленному советскому физику.
Мне не раз доводилось наблюдать Петра Леонидовича во время его встреч с коллегами-учеными. К нему приезжали не только физики. Он уверенно толковал о вроде бы сторонних для него проблемах и с биологом, и с химиком, и философом, и геологом. Был притягательной силой не только для ученых. Дружил с Алексеем Толстым, Пришвиным, Довженко, Чуковским, Маршаком, Коненковым. В его доме я встречал Любовь Орлову и Святослава Рихтера, Ираклия Андроникова и Владимира Тендрякова, Екатерину Максимову и Владимира Васильева, Ию Саввину и Бориса Ливанова, Василия Смыслова и Виталия Севастьянова.
Я всегда задумывался: что же привлекает к нему людей столь разных? Его мировая слава, его блестящий ум? Несомненно и это. Но не только. Дом Капицы олицетворял собой лучшее, что несла в себе с давних времен отечественная интеллигенция – глубокий интеллектуализм, широту взглядов, благородство целей, демократичность и, конечно же, истинный патриотизм, его дом был вроде бы островком, шагнув на который ты оказывался в мире, где высокие нравственные ценности прошлого становятся достоянием нынешнего дня, твоим достоянием – черпай полной мерой!
Мне навсегда запомнятся беседы за длинным, сколоченным собственноручно хозяином дома обеденным столом в гостиной дачи на Николиной горе – их стиль, тональность, напряженность и даже горячность. Эти беседы никогда не были благодушными, поверхностными или салонными, обстановка, в которой они велись, и люди, в них участвующие, порой вызывали у меня ощущение, что я нахожусь в окружении хрестоматийно знакомых мне лиц, вдруг вошедших в эту гостиную из времен Пушкина, Герцена, Достоевского, Менделеева, Павлова. И о чем бы ни говорили – все увлекательно и значительно. Как-то я слышал замечание: «На Николиной горе, у Капицы, можно пройти университетский курс по всем дисциплинам».
В экспедиции на научно-исследовательском судне «Витязь» в Средиземное море и Восточную Атлантику участвовал крупный советский ученый, академик Евгений Михайлович Крепс. Зашел острый разговор о том, что у некоторых современных молодых ученых обозначилось стремление к полному и безраздельному сосредоточению на своей науке. Какой, мол, там театр, концерты, выставки! Главный их аргумент: в наше время каждая отрасль науки несет такой объём информации, что Ничто другое в голову уже не вмещается. Крепс, человек широко образованный, решительно возражал. Глубокое заблуждение, говорил он. Узконаправленный ум не способен на широкие обобщения! А без широких обобщений нет теории. «Во время научных сообщений на заседании президиума Академии наук, – рассказывал Крепс, – я всегда с нетерпением ждал, какой же вопрос на этот раз задаст академик Капица. У Петра Леонидовича неизменно имелся в запасе вопрос – по какой бы теме разговор ни шел. Однажды после доклада академика Бориса Александровича Рыбакова по истории славян Капица вступил с ним в дискуссию, заставив кое над чем задуматься нашего крупнейшего историка. Капица – физик. Кажется, при чем тут история народов? А при том, что все это – знания о нашем мире. И без них нам не обойтись, если мы хотим познать мир во всей его полноте и взаимосвязях».
Капица был насыщен столь разнообразной информацией, что мне казалось, ее хватило бы с избытком для многих незаурядных умов.
Однажды я привез к нему на Миколину гору известную французскую журналистку и писательницу, героиню Сопротивления Мадлен Риффо. Капица говорил с ней по-французски и поразил гостью знанием современной французской литературы. В другой раз я познакомил с академиком двух известных чехословацких путешественников Иржи Ганзелку и Мирослава Зикмунда. Они уезжали от него пораженные: «До чего же хорошо знает историю Чехословакии!» В Театре имени Моссовета, куда мы пригласили супругов Капиц на спектакль, я был свидетелем примечательной встречи за кулисами во время антракта. Главный режиссер театра Ю. А. Завадский вел неторопливую беседу с академиком П. Л. Капицей о проблемах современного театра. Со стороны можно было подумать, что разговор идет между людьми одной профессии.
Разговор был сдобрен юмором, и два корифея то и дело похохатывали. Я привык к тому, что в любом разговоре академик прибегал к юмору. Он не мог без него обойтись, как не может обойтись повар без соли. Петр Леонидович как-то сказал: «Тот, кто не понимает юмоpa – безнадежный человек. От него нельзя ждать ничего серьезного». Он с благодарностью воспринимал веселые истории, анекдоты, шутки, а в ответ расплачивался с вами тем же и вдвойне. Когда рассказывал о своих встречах с примечательными людьми, то непременно выделял в этих встречах те детали, которые вызывали улыбку.







