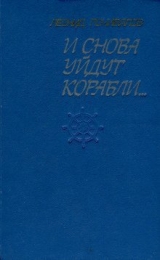
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Последняя ступенька трапа
Над асфальтовой лентой шоссе висит тяжкое марево. Оно ощущается даже на глаз: струи раскаленного воздуха, вытянувшись вверх, покачиваются, как прозрачные, еле видимые морские водоросли в потоках воды. Лохматые головы придорожных пальм равномерно клонятся под ветром из стороны в сторону, будто опахала, поставленные здесь для того, чтобы защитить плавящийся асфальт от зноя.
Сидя за рулем, я держу путь вдоль берега Атлантического океана на юг, к экватору. Передо мной город, который я должен миновать. В этих краях я уже много месяцев, и город этот знаком до мелочей.
На его окраине торговый порт, за частоколом забора торчат мачты, грузовые стрелы и дымовые трубы стоящих у причалов судов. Я бы проехал мимо – все привычно. Но вдруг, среди этой сумятицы портового пейзажа, мимолетный взгляд зацепил мощно скошенную к корме с элегантным козыречком широкую, как крепостная башня, дымовую трубу с красным околышем, и изящный абрис высоко вознесенной кормы над причалом. И надпись на корме: «Одесса». В этом порту редко швартуются советские торговые суда, а пассажирских еще не довелось видеть.
Я не тороплюсь на юг, к экватору, где сейчас самое пекло, кручу руль вправо, и машина покорно сворачивает на шоссе, ведущее к порту. И вот передо мной крутой и могучий, как склон утеса, борт огромного лайнера. На причале у трапа молодой парень в белой морской фуражке с крабом в кокарде бросает взгляд на мой паспорт: «Свой?»
– Свой! – И вот ступаю на первую поблескивающую алюминиевым ребром ступеньку широкого трапа. Я – на Родине. Перешагиваю порог распахнувшейся двери, и моего лица мягко касается кондиционированная прохлада, мне кажется, что вхожу в давно позабытую весну. Сверкающий, как зеркало, пластик стен, мягкие паласы под подошвой, за витринным стеклом ларька под названием «Березка» таращат глаза брюхатые матрешки, на стенах надпись по-английски: «Майн дек» – главная палуба, в расщелине потолка хрипнул динамик: «Дамен унд херрен! Битте гейнзи…» Туристская Россия, приспособленная под заграничные вкусы. И все-таки – Россия!
Первый помощник капитана, неторопливый в движениях, в речи, узколицый, черноволосый, смуглый, как итальянец, такой эффектный в своей ладной униформе – ну прямо на заграничный огляд, – водил меня по судну, показывал его обустройство – салоны, каюты, кафе, бассейн, сауну, спортивные залы и каждый раз добавлял: «Почти на уровне мировых стандартов». Мне правилось это осторожное «почти»– моряки попусту слов не роняют – казалось, намекал: вот завтра мобилизуются, «примут нужные меры», и это последнее «почти» будет преодолено.
Павел Иванович объяснил, что судно совершает круиз по европейским и западноафриканским портам, что в этот раз на борту одни немцы из ФРГ, возят и итальянцев, и французов, «валюту выбиваем», а вот с немцами подряд третий рейс, как пассажиры немцы подходящи, к отходу не опаздывают, свои паспорта на берегу не теряют, на палубах не галдят, в еде непривередливы, хотя едят много и требуют только немецкое пиво.
Я оказался на борту лайнера в тот час, когда большинство пассажиров было на берегу – туристские автобусы увезли их за сорок километров от города к озерам, где обитают якобы вольные и дикие крокодилы, а на самом деле давно прирученные и обленившиеся от безделья – разве что не в клетках. Я бывал на этих озерах. Непосвященные белые туристы с «риском» для жизни осторожно подбираются к лежащим на берегу, похожим на старые гнилые бревна тварям и издали мужественно щелкают затворами фотокамер. Сейчас испытывали свое бесстрашие и на озерах и пассажиры нашего лайнера.
Воспользовавшись их отсутствием, в салонах судна матросы делали уборку – прежде всего пылесосили ковры и паласы.
– Из глубин континента дует дряной ветер, – объяснил мне Павел Иванович. – Кажется, хроматаном называется. Песок из Сахары несет. Спасу от него нет.
Он прав, спасу нет, я-то знаю, что такое хроматан – каждый вдох с песком, каждый кус хлеба со скрежетом зубовным, каждым глотком воды горло обдираешь, кажется, сам набит песком, как мешок.
На палубе матросы с брандспойтами в руках под руководством усатого боцмана окатывали водой деревянные настилы спортивных площадок. Кроме боцмана матросами командовал еще один человек. Он стоял поодаль и, покашливая в кулак, давал распоряжения:
– Не забудьте, хлопцы, про бассейн! Там сейчас не йода, а суп из цикад, мух и пыли. Вы слышите, это говорю вам я.
– Слышим, слышим, Моисеевич! – сдержанно улыбнулся в усы боцман. – Не беспокойся. Воду будем менять.
– Вот, вот! Меняйте! А то эти чистюли носы станут воротить. Им, видите ли, нужно, чтобы все как в больнице, ни пылинки, ни соплинки. Они, видите ли, деньги за это заплатили.
Последнюю фразу человек утопил в стариковском ворчании, в тоне его сквозила неприязнь к «чистюлям», к которым, судя по всему, относились пассажиры судна.
Странная личность! Кто это? Неужели из экипажа? Староват, пожалуй, для моряка, на вид за семьдесят, невысокий, щуплый, худосочную фигурку безуспешно пытается прикрыть модный, в крупную клетку канареечного цвета, с прямоугольными, набитыми ватой плечами пиджак, из-под пиджака торчат широкие, как юбка, непомерно просторные для тощих стариковских ног штанины белых брюк. На тонком стебельке пупырчатой шеи покачивается, будто давно перезрелый плод, сухонькая голая голова в крапинках веснушек, выпуклые под широкими птичьими веками глаза, наверное, когда-то были голубыми, сейчас размыты временем, и зрачки в них, как давние выцветшие чернильные пятнышки. Человек был похож на постаревшего Остапа Бендера.
– Добрый день, Борис Моисеевич! – поприветствовал старика первый помощник. – Все воюете?
Старик театрально раскинул руки и сделал поклон:
– Мoe почтение, начальник! – Тут же смешно выпятил грудь – Да, воюю! А что, разве нельзя? Разве вы хотите, чтобы я сидел у борта, смотрел на эти пошлые пальмы и вздыхал: «Ах, как прелестно!» Вы этого хотите? А? Нет, извините, пожалуйста. Мне эти пальмы – тьфу!
И закашлялся, прижав ладонь ко рту.
– Занятная личность! – заметил Павел Иванович, когда мы пошли дальше. – Настоящий одессит.
– Неужели из экипажа?
Первый помощник рассмеялся:
– Вроде бы. Ходит по судну, высматривает недостатки и указывает. Его здесь народным контролем прозвали. То огнетушитель не так повешен, то на шлюпке где-то краска облупилась, то официантка в ресторане не по правилам положила пилку. Он с нами уже в третьем рейсе. Вроде своего стал.
История старичка примечательная. Коренной одессит, даже прадеды из Одессы. Дочь вышла замуж за гражданина Израиля, увезла отца с собой за границу. А ему в Израиле не по себе – все чужое. Зять его человек со средствами, так вот старик и заявил: хочу путешествовать! Пожалуйста, говорят ему, куда именно? «Мне все равно куда, мне важно с кем». И потребовал, чтобы ему купили турпутевку на круиз советского лайнера. Но поставил непременное условие: лайнер должен быть одесской приписки. С тех пор каждый год летит в Европу, в тот порт, куда заходит наш круизный, обслуживающий иностранных туристов лайнер, и с легким чемоданчиком поднимается на его борт по трапу, торжественно, как по потемкинской лестнице в Одессе. Улыбается знакомым из экипажа: «Как дела, хлопцы? Что там слышно на Дерибасовской? На месте ли мой друг Дюк Ришелье?»
С пассажирами не общается, особенно с немцами, во время заходов в другие порты на берег не сходит. «Зачем мне глазеть на все эти храмы и крепости, на все эти старые камни? Я сам старый булыжник». Разговоры ведет в основном с теми, кто из экипажа.
– Потребовал, чтобы его пускали в нашу судовую библиотеку для команды. Желает смотреть советские иллюстрированные журналы, особенно предпочитает «Огонек», – рассказывал мне первый помощник. – Пустили. В порядке исключения. А однажды прямо-таки ввел меня в смятение. В столовой команды проводили профсоюзное собрание, обсуждали вопросы производственной дисциплины. Вдруг вижу в заднем ряду среди чубов, бобриков и перманентов знакомую лысую голову с оттопыренными ушами. Ну, думаю, и сюда проник старый лазутчик. Спрашиваю сидящего рядом за столом президиума капитана, что, мол, делать? Как-никак иностранец! Капитан поначалу нахмурился: «Надо бы повнимательнее быть, – выговаривал мне, – здесь не место пассажирам». Потом махнул рукой: «Пускай сидит! Секретов у нас нет. Не выводить же старика из зала. Обидим». А у меня новое сомнение: «А если выступать вздумает?» Капитану эта мысль даже понравилась: «Пускай выступает! Глаз у старика цепкий, все сечет, наверняка полезное скажет». Но нет, не выступил. Удержался, хотя все время, пока шло собрание, нетерпеливо ерзал на месте.
После полудня Павел Иванович пригласил меня как гостя пообедать с ним в ресторане для пассажиров:
– Советую поглядеть на публику, которую мы возим. Да и меню у нас сегодня для пассажиров знатное: день грузинской кухни!
Публика оказалась в основном не первой молодости, а те, кто сидел за столами недалеко от нас, вообще в летах, – пестрая, раскованная, типично западная и, наверное, типично немецкая – в клетчатых ковбойках, плотные, уверенные в себе, бодрые, с шуточками и прибауточками, старики, аккуратно завитые, уютные старушки, поблескивающие модной подсиненной сединой. Все только что вернулись с экскурсии, полные впечатлений, шумные, оживленные и голодные. Грузинское харчо и шашлык вызвал энтузиазм, о чем свидетельствовали веселые вскрики и дружное позвякивание ложек и вилок.
Нас устроили в конце зала за резервным столиком. Поглядывая в зал, Павел Иванович пояснил:
– В основном вполне подходящая публика. С интересом приглядываются к судну, к нам. Кино наше ходят смотреть. Кто они? Полагаю, вышедшие на пенсию клерки, зубные техники, владельцы бензоколонок, поездные кондукторы, заводские мастера… В таком роде. Народ не шибко денежный. Богатые на советских судах не путешествуют. – Он улыбнулся одними глазами. – Ведь у нас пока «почти» международный уровень обслуживания.
Зал постепенно заполнялся, шум в нем усиливался. По решительным жестам сидящих за столом в клетчатых ковбойках бывших поездных кондукторов и бывших зубных техников, по их молодецки поблескивающим глазам, выпяченным грудным клеткам было ясно, что речь, конечно, идет о поразительной отваге, которую выказали бьющиеся под ковбойками старые сердца во время встречи один на один с диким крокодилом, когда в руках у тебя всего лишь фотоаппарат.
– А вот и Борис Моисеевич, собственной персоной, – сказал первый помощник и глазами показал на недалекий от нас стол, который тоже стоял в сторонке от других в конце зала.
За столом Борис Моисеевич восседал в полном одиночестве. Стоило мне бросить взгляд в его сторону, как я тут же понял: и он проявляет к нашему столу повышенный интерес: шею вытянул, яблоки глаз вращаются, как шарниры, а детские оттопыренные уши ощупывают наши лица, будто локаторы, пытаясь уловить слова, слетавшие с наших губ. Разве не интересно, почему это первый помощник капитана вдруг решил сегодня пообедать в пассажирском ресторане и что это за новенький в его обществе? Борис Моисеевич был сейчас похож на любопытного мальчишку, который исподтишка подглядывает за взрослыми. И, конечно, догадывается, что минуту назад за нашим столом говорили именно о нем.
Мне захотелось с ним пообщаться: судьба старика о многом заставляет подумать. Вот бы за обедом и потолковать!
Но Павел Иванович покачал головой.
– Не стоит! Тут, видите ли, политика. – И снова еле заметно улыбнулся, теперь уже самыми уголками губ. – Он у нас числится в хулиганах.
И поведал о случившемся с Борисом Моисеевичем – истории, одна хлеще другой, тянутся за ним, как хвост. Оказывается, недавно старик доставил судовому начальству очередную заботу. Сидел полрейса за столом с какой-то пожилой немецкой парой. Вроде бы все было тихомирно, и вдруг – драка! Настоящая, с мордобоем. Борис Моисеевич встал и наотмашь саданул по скуле своего соседа-немца, такого же старика, как и он. В ресторане поднялся гвалт: виданное ли дело, чтобы в столь приличном обществе, которое отправилось за свои деньги путешествовать и отдыхать, публичный мордобой. Немец немедленно отправился прямо к капитану с протестом: «Ваш советский гражданин оскорбил меня действием». Ему объяснили, что его сосед по столу не советский гражданин, он бывший советский гражданин, а сейчас подданный другой страны. Все равно, настаивал немец, пусть и бывший, но все-таки к вам имеет отношение. Примите меры! Вызвали Бориса Моисеевича. Тот охотно, даже с удовольствием подтвердил: да, ударил. И за дело! «Представляете, этот недобитый фриц нехорошо отозвался об Одессе. Во время войны пришел в нашу Одессу в гитлеровском мундире и, понятно, вел себя в ней, как разбойник. Он так и сказал, мол, уже тогда терпеть не мог видеть ваши одесские хари. Вы слышите, что он сказал? Вот и получил по собственной харе – уже сегодня. Разве я не прав?»
Немец написал капитану официальный протест. Пришлось Бориса Моисеевича пересадить за другой стол. И даже высказать ему суровое порицание: драться нехорошо!
– Если пригласим за стол, политику нарушим, – сказал первый помощник. – Драчунов на наших судах поощрять негоже. Рейсы коммерческие. Все пассажиры для нас одинаковы.
Но Борис Моисеевич сам пришел к нам.
– Не помешаю? – положил пергаментной желтизны костлявые пальцы на спинку свободного стула, и на одном из пальцев сверкнул золотой перстень – печатка с вензелями. – Я бы хотел с вами…
– Конечно, Борис Моисеевич! Садитесь! – судя но всему, особого восторга первый помощник не испытывал.
Устраиваясь на новом месте, старик взял со стола торчком стоящий кулек жестко накрахмаленной салфетки, с хрустом развернул, вздохнул с осуждением:
– Ах, зачем, зачем столько крахмалу? Это, простите, салфетка, а не кровельное железо. А? Сколько раз я говорил метрдотелю! – он с огорчением покачал головой. Поднял на меня глаза – Простите, мужчина, вы тоже одессит?
Пришлось признаваться: увы, нет!
Старик коротко хохотнул, снова прокашлялся, потом, обнажив хорошо сработанные, не по возрасту свежие – тоже денег стоило – фарфоровые зубы, тут же вроде бы в ужасе округлил жидкие старческие глаза.
– Боже мой! Он – не одессит! Как же вы можете так запросто жить? Нам с помощником капитана вас жалко. Вы, простите, человек второго сорта – раз не одессит…
Конечно, это была бравада, старик неумело наигрывал, дешево петушился, но за всем этим невинным шутовством угадывалось что-то сокровенное, глубоко упрятанное где-то там, в его впалой, полной хрипов и кашля груди, прикрытой не по возрасту нелепо броским пиджаком в клетку.
Лицо его с голубоватыми прожилками вен на щеках мне показалось знакомым, даже привычным.
На кого же он похож? Впрочем, сколько таких лиц видел я в своем окружении с детства!
Пожалуй, больше всего Борис Моисеевич похож на дядю Яшу. Дядя Яша жил в нашей многонаселенной квартире в старом московском доме на Трубной площади, был человеком преклонных лет, вдовцом и самой примечательной фигурой в квартире – артистом. В маленькой комнатушке он обитал вдвоем с дрессированным пуделем по имени Пуфи – оба работали в Московском цирке. Раз в году, в декабре, в день своего рождения, дядя Яша водил всю ребятню квартиры в цирк – впереди шел Пуфи, потом дядя Яша, потом мы гурьбой, и нам доставляло особое удовольствие входить в здание цирка через служебный вход.
Борис Моисеевич почти не ел, лишь отведал две-три ложки харчо, медленно пожевал кусочек шашлыка и отпил глоток сока из фужера. Отпил и поморщился:
– Очередная кислятина. Тьфу! Скажите, зачем все ахают – соки, соки! Пейте соки! В Тель-Авиве на каждом углу: «Пейте соки!» Можно подумать, что в соках спасение человечества!
Он сердито отодвинул тарелку с шашлыком и фужер в сторону, подальше от себя, будто они раздражали его взгляд. Пояснил:
– В старости теряешь аппетит, как теряешь кошелек на рынке – безвозвратно. И не только на еду. На все!
После обеда Павел Иванович решил мне показать еще и машинное отделение лайнера, огромное, как заводской цех, поднялись мы с ним также в святая святых корабля – в ходовую рубку, где мне продемонстрировали навигационные приборы, помогающие кораблю держать верный курс.
– Еще три захода, и домой! – сказал молодой вахтенный помощник, дежуривший в рубке.
– Надоело?
– Да уж пора! Четвертый месяц…
На кормовой палубе я вдруг снова встретил Бориса Моисеевича. Несмотря на густеющую к вечеру тропическую жару, он был по-прежнему в клетчатом пиджаке с мощными, как у богатыря, плечами, закинув руки за спину, внимательно наблюдал, как трое матросов чинят лебедку грузовой стрелы. И наверняка давал им советы.
Увидев меня, торопливо выбросил вперед руку:
– Минуточку! Я бы хотел вам кое-что показать. А? Вы не можете заглянуть в мою каюту?
В каюте деловито кивнул на кресло:
– Присядьте!
Подошел к письменному столу, достал из пиджака связку ключей, стал выбирать нужный, продолжая ворчать:
– Вы представляете себе, велят мне каждый день пить по утрам стакан гранатового сока. Вы когда-нибудь пили гранатовый сок? А? Это же хуже соляной кислоты. А Сонечка: пей, и все! Оказывается, полезно для здоровья. А я глотну и дергаюсь, как припадочный.
Наконец, он отыскал нужный ключ, собрав на лбу озабоченные морщины, осторожно повернул ключ в замке, чуть приоткрыл ящик, но не до конца, снова взглянул на меня сбоку, по-птичьи наклонив голову с острым носом.
– Они хотят своим гранатовым соком заменить то, что отобрали у меня. А знаете, что они отобрали у меня? Они отобрали мое прошлое. Отобрали последнее, что оставалось в жизни. Они отобрали у меня мой старый двор на Молдаванке, где растет старый каштан, где но старым щербатым плитам ходят куры и прыгают дети, разбивая о плиты носы так же, как разбивал свой нос в детстве я – именно на этих плитах. Скажите, разве можно отбирать у старика его прошлое? Нет, вы скажите мне, разве можно? А?
Словно окончательно осердясь, он рывком выдвинул ящик письменного стола, извлек оттуда небольшую красную коробочку, деловито протянул мне:
– Вот!
Я приподнял крышку коробочки, и на темном бархате торжественно блеснула бронза. «За оборону Одессы», – прочитал я на медали.
Он выдержал долгую паузу, предоставляя мне возможность по достоинству оценить то, что лежало у меня на ладони. И снова повторил:
– Вот! – И в этом коротком из трех букв слове было все его прошлое, человека, которое у него так и не отобрали.
Теперь говорил уже тихо, без бравады, без нарочитой экзальтации, словно сам с собой:
– Меня предупреждали, что вывозить за границу правительственные награды запрещено. А я провез. Я сказал: это мое! Оставьте мне мое! И они оставили.
Он взял у меня коробочку, сунул в ящик, задвинул его, замкнул на ключ. При этом у старика был такой вид, будто после всего, что сейчас я увидел, у меня уже не может, не должно быть к нему вопросов, кто он и зачем на этом свете.
– Вы хотите знать, за что я это получил? Пожалуйста, скажу: когда немцы подходили к городу, я на Пересыпи рыл окопы. Под бомбежкой. Вы понимаете? Вокруг рвались бомбы, а мы рыли.
Мне пришлось провести на лайнере еще несколько часов: пригласили выступить перед экипажем, рассказать об Африке, где я тогда работал, моряки интересуются, что здесь и как. Покидал борт судна уже после захода солнца. Немного грустно было расставаться с соотечественниками и снова мерить чужие жаркие километры. Подходя к трапу, я увидел Бориса Моисеевича. Облокотившись на планшир борта, он болтал с вахтенными. Заметив меня, блеснул белым фарфором зубов:
– Отправляетесь в свою Африку? Ну, ну! А вот я – остаюсь здесь. – Подмигнул стоявшему рядом с ним усатому боцману. В тоне старика снова была бравада. И я подумал, что она ему нужна для того, чтобы постоянно все видели и чувствовали: он, Борис Моисеевич, здесь свой в доску, подлинный, одесский. Замечал ли старик своими увядшими глазами, что в ответ на его шуточки в других глазах вместе с улыбкой проступает порой грусть?
– Ты, Моисеевич, сам бы прошелся по Африке чуток, – простуженно прогудел боцман. – Два дня здесь стоим, а ты ни шагу по твердой земле. Нехорошо. Ноги послабеют.
– Послабеют! Ноги послабеют! Вы слышите! И он о моем здоровье! Может, мне еще выпить стакан гранатового сока? А? – с шутливым гневом воскликнул старик и даже замахал руками. – Ну, ладно, ладно! Пройдусь по вашей разлюбезной Африке, раз сам боцман приказывает. Боцман здесь начальство.
Он взглянул на меня:
– Можно я вас провожу до портовых ворот?
Мы спустились по трапу на замусоренный асфальт пирса. Несколько шагов отошли и оглянулись на судно – оно густо сияло огнями, и казалось, что сегодня на нем праздник. Прошлись вдоль борта. С верхней палубы доносилась музыка, в открытые иллюминаторы нижнего ряда было слышно, как на камбузе гремят посудой.
– Красивый пароход! – сказал Борис Моисеевич и сам себя поправил: – Лайнер!
Помолчал.
– Помню, как в Одессе в наш порт пассажирские приходили. Они были похожи на утюги и дымили, как самовары. А мы, мальчишки, мечтали проскользнуть на борт мимо вахтенного у трапа и уплыть куда-нибудь далеко-далеко…
На корме крупными рельефными позолоченными буквами был обозначен порт приписки: «Одесса». Мы молча постояли у кормы. Пахло морем, было слышно, как поскрипывает на причальной тумбе петля нейлонового швартового конца.
– Хотя вы и не одессит и в этом ваш недостаток, но вы в любую минуту можете взять и поехать в Одессу. Когда вам только вздумается… В любую минуту!
Он опять шутил, но шутил тихо и грустно и глядел при этом куда-то в сторону, словно говорил вовсе не мне, а какому-то другому, должно быть, придуманному им оппоненту, с которым давно вел нелегкий спор.
Не торопясь снова прошлись вдоль борта, но теперь уже направляясь к портовым воротам, возле которых стояла моя машина. Когда поравнялись с лежащей на асфальте пирса огороженной веревочными леерами нижней площадкой трапа, Борис Моисеевич вдруг сдержал шаг, быстро обернулся ко мне:
– Вы знаете, что такое последняя ступенька трапа? А? – и сам себе ответил убежденно: – Нет, вы не знаете, что такое последняя ступенька трапа! И не приведи бог вам это узнать!
В тот же вечер лайнер ушел в море, к другим берегам, а я отправился дальше к югу, к экватору, в другие страны, где ждали меня мои дела.
Только через три месяца настал день, когда я сел в самолет, который летел на Родину. Полет был долгий – через весь Африканский континент, над его холмами в жесткой шкуре джунглей, над уныло-однотонной саванной, над бескрайней в мертвящей желтизне Сахарой, потом над синью морей и серо-зелеными гранями скал Европы, потом снова было море. Вдруг щелкнули репродукторы над нашими головами, и свежий, словно и не испытавший тягот долгого пути голос стюардессы сообщал:
– Наш самолет подходит к Государственной границе Советского Союза. Через двадцать минут минуем Одессу…
Я глядел в иллюминатор на белые облака, простиравшиеся до самого горизонта, как снежная антарктическая пустыня. Через какие-то минуты там, под облаками, будет Одесса с ее длинной, как струна Дерибасовской, с похожей на каменный водопад потемкинской лестницей, с корабельными дымками над портом, со старым двором на Молдаванке, где растет старый каштан, бродят куры и на щербатых от времени плитах девчонки прыгают через веревочку. И я подумал, что сейчас там, в Одессе, на том дворе, должно быть, не хватает старика с голубыми выцветшими глазами.








