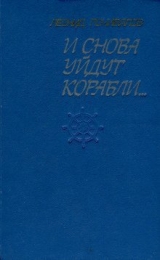
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Я вздрогнул от неожиданности, вскинул глаза вверх к борту кормовой палубы и уперся взглядом в широкую, рассеченную голубыми полосами тельняшки грудь, потом коснулся знакомых усов, из-под которых выпадали громоподобные слова:
– Так иди же к нам, скорей! У нас через час отход. Я уже давно заказал обед! Суп остынет! Скорее!
Надо же! Вот неожиданная встреча! – И где – в Марокко! Впрочем, ничего неожиданного нет. Григория Поженяна можно встретить либо в Переделкино под Москвой, либо в каком-то иностранном порту. Плавающий поэт. На «Азербайджане» в должности дублера старшего помощника, благо, что есть законный диплом мореходки.
– Плаваю. Гляжу на мир. Собираю материал для книжки.
Он тащит меня по палубам судна в столовую команды:
– У нас сегодня на обед роскошный украинский борщ. Такого у вас на «Витязе» и не снилось. И пельмени! Какие пельмени!
Я доедал вторую порцию пельменей, когда по спикеру объявили по-итальянски, по-английски и по-русски – наверное, специально для меня одного, – что через десять минут судно отправляется в рейс. Всем посторонним немедленно покинуть борт.
– Какой ты здесь посторонний? Ты здесь бывалый, – смеется Поженян. – Но, наверное, тебя могут хватиться на «Витязе». Так что прощай!
– До свидания! – говорю я. – В Переделкино. Или?..
– Или где-нибудь в Австралии.
– Как там поется в известной песне?
Его не надо просить ни о чем,
С ним не страшна беда.
Друг мой третье мое плечо
Будет со мной всегда…
Он с удовлетворением кивает:
– Помнишь? Неужели еще поют?
– Еще бы! У нас на «Витязе» у молодежи эта песня в самом ходу. Значит, и ты на «Витязе» не посторонний.
Когда «Азербайджан» уходил, многие витязяне собрались на причале – проводить соотечественников. Мы махали руками, нам с борта лайнера отвечали тем же, даже выкрикивали что-то приветственное. Особенно пассажиры-итальянцы. Они любят сентиментальные сцены. На крыле мостика «Азербайджана» я увидел знакомую исполосованную тельняшкой грудь, знакомые казацкие усы, под которыми плыла задорная мальчишеская улыбка. Поженян только на миг поднял руку, прощаясь. Бурное выражение эмоций в минуту прощания морякам не положено, тем более старшему помощнику капитана, пусть даже дублеру.
Недалеко от меня стоял Володя Савельев. Я подошел к нему.
– Видишь, на крыле мостика человека? Не в кителе, а того, крупного, в тельняшке? Так это он написал слова твоей любимой песни.
Володя бросил на меня быстрый взгляд:
– …А за волной волна?..
– Вот-вот! – подтвердил я. – А за волной волна…
Идем по широченному проливу, разделяющему два материка. Налево Европа, направо Африка. Будто входим в ворота нашего прошлого – налево островерхая крутобокая скала Гибралтара, направо округлая, в мягкой шкуре лесов, высвеченная утренним солнцем гора Сьерра-Бульонис. Это и есть Геркулесовы столбы, о которых мы узнавали еще в детстве из первых учебников истории. Наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. До Отечества уже рукой подать, именно отсюда начинается наша общая европейская земля, тянется далеко-далеко на восток к скалам Урала, но и за ними простирается на новые тысячи километров все та же единая неделимая твердь континента, только название имеет другое. И в каждом из нас – в нашем облике, образе мышления, обычаях, нравах, в нашей культуре и образованности так или иначе присутствует эта единая, эта неделимая, которая начинается здесь.
Сейчас по левому борту лежат берега древней страны Португалии. Самая западная ее оконечность мыс Кабо да Рока есть самая западная точка Европы и всей Евразии. Я побывал на ней однажды. Наша машина долго пробиралась по извилистой горной дороге, но вот старые придорожные деревья вдруг разом раздвинули свои густые ветви, и нам в лица ударил торжествующий свет океана. На мысу притулился небольшой поселок, поодаль от него возвышалась белая каланча старинного маяка, а у самого берега мы увидели главную здешнюю достопримечательность – невысокий обелиск из потемневшего под дождями камня. Надпись на обелиске подтверждала: здесь самая западная точка континента. Поверх этой надписи на цоколе обелиска несмываемой белой краской размашисто была выведена еще одна надпись: «Смерть фашизму!» Ее буквы поблекли, она была сделана давно, еще в те времена, когда в Португалии властвовал Салазар и власть его распространялась и на Анголу. И все-таки его не побоялись ни здесь, ни в Анголе – как раз в это время Луис прикрепил на стене своей комнаты вырезанную из журнала фотографию русского летчика.
Всего несколько шагов от монумента по мягкой, мясистой, напоминающей морские водоросли траве, и перед нами уже действительно сам край. Нога замирает перед глубоким провалом. Внизу узкая полоска каменистого пляжа в пенной бахроме волн. Океан! Сделаешь глоток его влажного ветра, и кажется, сил прибывает.
Вот я и добрался, наконец, до точки, о которой мечтал! Мог ли надеяться когда-нибудь на нее вступить? Однако судьба была милостива: ступил! Теперь у меня дубль. Подогреваю самолюбие: мало найдется таких!
Мы идем к туристскому коттеджу. За столом сидит немолодой сеньор со скучающим чиновничьим лицом. За определенную мзду он выдает свидетельство о том, что ты действительно побывал на мысе Кабо да Рока. Рука чиновника, который выписывал мне это нарядное, похожее на почетную грамоту, свидетельство, была решительна, деловита и бесстрастна, как у хирурга.
– Давно вы здесь работаете? – спрашиваю я.
– Давно! – он бросает на меня мимолетный, ничего не выражающий взгляд. Давно работает, и, конечно, ему давно обрыдли бесчисленные туристы со всего мира со своими дурацкими вопросами.
– Сколько вы таких свидетельств уже выписали?
– Миллион, – он в драматическом жесте вскидывает руку, и в жесте молчаливая мольба: отвяжись!
Сопровождавший меня что-то говорит ему по-португальски.
В глазах чиновника медленно пробуждается мысль. Вдруг он вскакивает и с неожиданной ребячливой восторженностью хлопает в ладоши.
– Наконец-то! Наконец-то я вас дождался! Почему же вы заставили себя так ждать! – он обращался ко мне, как давнему знакомому, с упреком, будто я его в чем-то подвел. – Да, здесь бывали и русские. Мало, но бывали. Однако ни одного из тех, кого я ждал. И вот наконец…
Оказывается, ждал он того, кому довелось побывать на мысе Дежнева, на противоположной оконечности континента.
– У вас, конечно, есть диплом с мыса Дежнева?
– Нет. Там не выдают дипломов.
– И там нет туристского агентства? Туда не ездят туристы?
– Туда не так-то легко добраться. Это суровый и малообжитой край. Чукотка!
Слушая меня, он значительно кивал головой.
– Понятно! Россия. Да! Она так велика!..
В лице его было разочарование. Оказывается, я ненароком нанес удар по грандиозным планам пожилого сеньора. Он намеревался наладить контакт с туристским агентством на мысе Дежнева, чтобы организовать обмен туристами. Бесспорно, выигрышное предприятие: две крайние точки Евразии в одном туре! Желающих будет навалом.
– Подскажите своим на Чукотке. Выгода стопроцентная.
Сеньор Лара имел весьма приблизительные представления о нашей стране.
Брать деньги за диплом с меня он не захотел. Более того, достал из укромного ящичка стола какой-то особый диплом, подписанный самим мэром Кабо да Рока, объяснил: такой выдают лишь почетным гостям. Вписал в него мою фамилию необыкновенно выразительным почерком и торжественно, как награду, вручил лист мне. Так я стал счастливым обладателем пышного почетного диплома с мыса Кабо да Рока, а мыс этот получил взамен мою скромную подпись в какой-то тоже почетной книге. Возле подписи сеньор Лара сделал ремарку: «Представитель мыса Дежнева в Кабо да Рока».
Это случилось четыре года назад. Может быть, как раз в эти минуты сеньор Лара, постояв чуток на берегу океана, входит в свой кабинет и кладет на стол стопку свежих дипломов и смотрит на часы. В десять начнут прибывать туристы.
Идет судно курсом на восток, проплывают по его бортам берега двух великих континентов, на берегах теснятся страны – одна к другой, будто выставлены напоказ. И все разные. Но какие бы ни были, они не могут быть для нас безразличными. Многим из тех, кто сейчас на борту «Витязя», берега этих стран дают повод для воспоминаний.
Вот сейчас по левому борту за горизонтом лежит Испания… «Витязь» однажды швартовался в Барселоне. В день отхода к нам на борт пришел пожилой мужчина и молодая женщина. Мужчина сказал:
– Как раз у этого причала в тридцать шестом стоял ваш пароход «Зырянин», который доставил детям Барселоны продукты из Советского Союза. Я разгружал ящики.
– А когда победил Франко, дедушка много лет провел в тюрьмах, – добавила женщина. – Но мою маму он назвал Ольгой в честь судового врача с вашего судна. Они были знакомы…
– Ольга помогала нашим раненым, – сказал старик. – У нее были красивые русые косы…
А по правому борту тоже за горизонтом лежит берег Ливии. И на нем стоит большой белостенный город Триполи.
Когда-то я часами бродил по набережной Триполи. Ее окаймляют высокие королевские пальмы, в жаркий день хорошо укрыться под их ажурной влажной тенью и смотреть в просторы Средиземного моря. Отсюда, с африканского берега, оно такое же доброе, умиротворяющее, как и с той европейской стороны. В Анголе еще шла война за освобождение. Редакция меня послала туда. Мне предстояло добираться из Лагоса, столицы Нигерии, в Луанду, тогда сделать это было непросто, пришлось с западного берега Африки лететь на ее северный, в Триполи, а уже отсюда с оказией через весь континент снова на атлантическое побережье, только значительно южнее экватора – в Луанду. Из Лагоса в одном со мной самолете летел ответственный сотрудник МИД СССР Анатолий Николаевич Николаев. Я с ним был знаком давно. В начале шестидесятых он был советским послом в Таиланде, мне приходилось временами наведываться в Бангкок, и я всегда встречал там добросердечие и гостеприимство посла – в тамошней маленькой советской колонии рады каждому соотечественнику, они прибывают туда редко.
Получилось так, что все мои поездки через Бангкок были связаны с войной. В столице Таиланда я останавливался, когда летел в Индонезию, которая вела войну против голландцев за освобождение Западного Ириана. В другой раз оказался в Бангкоке проездом – когда добирался из Лаоса в Индию. В Лаосе шла война – правые, поддержанные американцами, подняли мятеж против законного правительства, захватили власть в столице страны – Вьентьяне. Мы, трое советских журналистов, были посланы в горы, где действовали партизанские отряды Патет Лао, противостоящие мятежникам, оттуда нам удалось перелететь через линию фронта во Вьентьян, в противоборствующий лагерь, а затем переправиться на тот берег Меконга и поездом через весь Таиланд добираться до Бангкока. Вся эта длинная поездка была непростой – война есть война, мы навидались разного, и было что рассказать, когда в советском посольстве попросили выступить перед коллективом. Помню, слушая нас, посольские женщины ужасались: вроде бы на планете мирное время, а повсюду от пуль умирают люди…
Много лет прошло с того времени, как я в последний раз встречался в Бангкоке с Анатолием Николаевичем. И вот встретились снова в салоне самолета, летящего над просторами Африки. И наш разговор в пути был опять же о войне – она, треклятая, неизменно о себе напоминает. Незадолго перед этим полетом я был в Котону, главном городе Народной Республики Бенин. Прибыл туда сразу же после того, как бенинцы отбили налет белых наемников, которые под покровом ночи высадили здесь воздушный десант. Выполняя волю своих нанимателей, десант головорезов намеревался свергнуть правительство молодой африканской республики. Едва я сошел с трала самолета, как мне в грудь наставили дуло автомата: документы! Каждый белый был под подозрением! Возле дворца президента валялись осколки мин, пустые автоматные гильзы и битое стекло из окон. В домах трудового люда города оплакивали погибших.
И вот из одной африканской страны, где только что отгремели выстрелы, я направлялся в другую, где выстрелы еще продолжаются.
– Мы надеялись, что они отгремели окончательно в сорок пятом, – говорил мне в самолете Николаев. – А они продолжаются. И будут продолжаться. Так уж устроен наш мир. И правое и неправое дело защищается пулей.
В Триполи мы встречали Первомайский праздник. А третьего мая я улетал с побережья средиземноморского снова к атлантическому. На праздничном вечере в саду посольства ко мне подошел Николаев.
– Значит, послезавтра?
– Послезавтра.
Он помолчал, опустив голову и насупившись:
– Вы там поосторожнее! Пуля всюду дура – что в Лаосе, что в Анголе, – задумчиво взглянул на меня. – Слава богу, хоть здесь, в Ливии, тихо! Вроде бы отвязались от них. Им бы с десяток спокойных лет, чтобы подняться в рост!
И вдруг оживился:
– Как преобразился Триполи! Вам удалось его осмотреть?
– Побродил по набережной немного.
– Немного не годится. Надо посмотреть все самое примечательное в городе. Я попрошу, чтобы завтра вам дали посольскую машину. Да и отдохните под здешним мирным небом перед поездкой на войну. Быть в Триполи и не осмотреть город! Так нельзя! Вам как журналисту такая поездка обязательно когда-нибудь пригодится.
И вот сейчас, когда я пишу эти строки, то вспоминаю слова Анатолия Николаевича «когда-нибудь пригодится». Пригодилась для того, чтобы написать эти страницы. Посольский шофер меня возил как раз в те районы Триполи, которые семь лет спустя будут подвергнуты бомбардировке с американских самолетов, прилетевших со стороны моря. Тогда оно мне казалось таким мирным.
Корабельный шлях густ – суда идут в «затылок» друг другу. И каких только флагов не увидишь на мачтах! Встретил даже судно под флагом Ганы. А ведь, кажется, недавно в ганском порту Тема присутствовал на подъеме флага на первом торговом судне, ставшем ганской собственностью. Оно было небольшим и отваживалось ходить лишь в недалекие от Ганы африканские порты. Это, встреченное у берегов Италии, тоже не великан, но вполне солидный сухогруз. Шел впереди нас и вдруг стал менять курс, поворачивая влево. Должно быть, во Францию. Может быть, в Марсель? Марсель… Где-то тут не так уж далеко этот приветливый французский город.
И вдруг вспомнилась его набережная, темные стены старинного форта, прикрывающего вход в старую гавань, отданную под катера и яхты, по берегам гавани великое множество кафе, ресторанчиков, магазинов. В одном из книжных магазинов с обложки книги на прилавке взглянуло на меня милое лицо женщины, такое знакомое, что я вздрогнул. Мадлен Риффо! Ее книжка! Я полистал странички и поскорбел: не знаю французского! О чем очередная книга Мадлен? Может, об ее удивительной юности? В оккупированном гитлеровцами Париже она на велосипеде подъехала к резиденции гитлеровского генерал-губернатора в тот момент, когда он выходил из дома, и разрядила свой пистолет ему в грудь. Ее приговорили к смерти. Перед казнью она бежала из тюрьмы и снова в подпольных отрядах франтирьеров сражалась с врагом. Она стала героиней Франции. Пабло Пикассо нарисовал ее портрет и под ним сделал надпись: «Мадемуазель де Франс», – отважная девушка удостоилась великой чести – стать олицетворением своей родины. Когда оасовцы, правые французские экстремисты, подняли в Алжире мятеж, Мадлен Риффо, корреспондентка «Юманите», оказалась их пленницей. Ее снова приговорили к смерти. Она снова бежала. Когда во Вьетнаме началась война за освобождение от французского колониализма, корреспондент «Юманите» Мадлен Риффо оказалась в отрядах народно-освободительной армии Вьетнама, и тогда в Париже ее объявили государственной преступницей – за поддержку «врага».
Впервые я познакомился с Мадлен Риффо на фотографии, которую мне в Ханое показал боевой вьетнамский генерал. «Это мой друг!» – сказал он. Несколько лет спустя я встретился с Мадлен воочию в Москве. Была осень, был холодный ветер, а Мадлен упорно не признавала ни платков, ни беретов, невысокая, складная, девичьи хрупкая, женственная, с прекрасным открытым лицом, она шла по московским улицам в плаще нараспашку с развевающимися черными волосами, и прохожие оборачивались ей вслед. Шла по Москве Мадемуазель де Франс. Однажды я отвез ее на дачу к академику Капице. Петр Леонидович хорошо говорил по-французски и поразил Мадлен знанием современной французской литературы. Выдающийся ученый и героическая дочь Франции подружились с первых минут знакомства.
Когда я отправлялся в это путешествие, Петр Леонидович мне сказал: «Увидите во Франции Мадлен, передайте ей привет от ее поклонника из Москвы». Но во Франции в этот раз я увидел Мадлен лишь на портрете в книге в марсельской книжной лавке. Сама она была в Париже. А что, если позвонить ей в Париж? Немолодой хозяин магазинчика говорил по-английски. «Пожалуйста! Я мигом вас соединю, – заулыбался он. – Услышать голос такой женщины – великая честь». Не прошло и пяти минут, как в его руке уже был листок с номером домашнего телефона Мадлен. Но нам не повезло: ее аппарат не ответил. Я попросил хозяина попробовать позвонить в Париж Мадлен Риффо попозже и, если она ответит, передать ей привет от ее московских друзей. Хотел оставить деньги за междугородный переговор, но хозяин наотрез отказался их брать. Больше того, отказался брать деньги и за книгу Риффо. «Мне приятно оказать маленькую услугу другу такой замечательной француженки. Ведь мой отец когда-то тоже сражался в отрядах маки».
Вдоль набережной гавани тесно, корма к корме, стояли яхты. Названия на их бортах были самые неожиданные – «Сатурн», «Афродита», «Гамлет», «Торнадо», «Полярная звезда» и даже «Почему бы нет?». И вот среди них я увидел изящную, с узким стремительным корпусом яхту. На ее корме прочитал: «Мадлен».
Мадлен – имя во Франции популярное, но я почему-то подумал, что яхта названа в честь нее, Мадлен Риффо, в честь Мадемуазель де Франс.
И сейчас, стоя у борта идущего к родным берегам «Витязя», я всматриваюсь в горизонт. Там в утренней дымке трепещут острые, как крылья чаек, паруса спортивных яхт. Одна, вторая, третья… Может быть, среди них «Мадлен»?
Привет тебе, Мадлен!
Проходит день за днем, а по обоим бортам все вода, вода – берегов и не видно. Кажется, что ты не в обжитом Средиземном море, которое уже в своем названии таит недалекое присутствие берегов, а в океанских просторах. Л сейчас они действительно не такие уж далекие. Справа – Тунис. Слева – Сардиния. Тунис… Когда я летал с атлантического берега Африки, самолет, прежде чем перепрыгнуть через Средиземноморье и оказаться над Европой, неизменно совершал посадку в аэропорту Туниса. И мне запомнился высокий юноша, который в зале ожидания на подносе разносил транзитным пассажирам бутылочки с холодной кока-колой. Он был в белом кителе с золотыми пуговицами, и белизна костюма подчеркивала смуглость его молодого красивого и улыбчивого лица. Он ставил перед каждым на столик бутылку, делал легкий поклон и говорил: «Шукрун!» Это значило «спасибо» – он благодарил нас за то, что мы принимали от него воду. Вода в арабском мире – великое благо, дающий ее и принимающий должен произносить неизменное «шукрун». Так мне объяснил однажды мой попутчик по самолету, который знал арабский мир. Оказывается, и сладкая вода, которая в бутылках, и соленая, которая вон там, в недалеком от аэропорта море, все «шукрун».
Когда самолет снова взмыл в небо и взял курс в сторону Европы, я прислонился щекой к стеклу иллюминатора и смотрел на нежную голубизну, которая полыхала под крылом самолета. Какая же она добрая, ласковая, животворная эта морская голубизна – казалось, наполняет твои глаза животворной силой, вселяет надежду, веру в чистоту и ясность завтрашнего дня. Если бы сейчас наш самолет превратился в космический корабль и взмыл бы ввысь, выйдя за пределы земного притяжения, то Земля в окошке иллюминатора постепенно превратилась в шарик, потом в звездочку, и сияла бы звездочка прекрасным утренним светом, потому что умыта паша планета волнами Мирового океана. И вдруг вспомнился утренний час в Тихом океане. Наше судно подходило к архипелагу Самоа. Как раз в это время сравнительно недалеко от нас приводнялись американские космонавты, возвращавшиеся с Луны. Их встречало множество кораблей и самолетов США, однако и наш маленький кораблик решил сообщить о своей готовности в случае необходимости немедленно прийти на помощь астронавтам. По радио мы слышали переговоры Земли с аэронавтами. И запомнились слова одного из аэронавтов. Он крикнул в микрофон: «Идем! Идем! Вот она, родная, голубая, теплая!»
Из Туниса трасса самолета шла к Аппенинскому полуострову, к Риму, и слева по борту в сияющей голубизне проступил темный сгусток суши. Эта была Сардиния, большой итальянский остров.
Однажды этот остров вдруг надолго вошел в мое сознание. Наше судно проходило недалеко от Сардинии. И вот в тот вечер по транзисторному приемнику я поймал на английском языке передачу новостей из Рима, и среди прочих диктор сообщил, что в главном городе Сардинии Кальяри советская пианистка, приехавшая сюда на гастроли, с гнойным воспалением аппендицита в тяжелом состоянии доставлена в госпиталь. Я знал эту пианистку лично, а по имени ее знали многие – на борту нашего судна она музыкант известный. Пришел с горькой новостью к капитану.
– Давайте ее поддержим! – вдруг предложил он и потянулся к телефону, набрал номер: – Вася! Скажи, ты смог бы по радио напрямик соединиться с Кальяри? Это город в Сардинии. Очень нужно! Трудно, говоришь? А ты попробуй! Понимаешь, наш человек там! В беде! Слово поддержки передать. От имени всего экипажа. Знаешь, о ком идет речь?
Соединиться с Кальяри напрямик было действительно непросто. Но наш Вася был упорен. Он звал и звал этот самый Кальяри и только к середине ночи дозвался. Радист на Сардинии удивился столь странному и неожиданному вызову с моря, да еще с советского судна – первый случай в его практике. Но, узнав, о ком идет речь, проявил готовность сделать все от него зависящее. «У нас, в Кальяри, все о ней говорят. Я сам собирался на ее концерт. И вдруг такое!» Заверил, что, несмотря на ночное время, немедленно передаст прямо в больницу текст телеграммы. «Доброе слово – лучшее лекарство», – отстукал нам сардинец.
Потом, уже в Москве, моя знакомая рассказывала:
– …Я как раз не спала. Вдруг приходит сестра и говорит: «Вам телеграмма». – «Откуда?» – «С моря. С проходящего мимо советского судна». Я прочитала послание от незнакомых мне моряков, и вдруг показалось, что боль утихла. Телеграмма ваша была как глоток свежего воздуха.
Выходит, даже берег неведомой тебе земли не может быть чужим.
За Сардинией, за просторами Тирренского моря, за одиноко торчащей скалой хрестоматийно знакомого всем нам с детства острова Капри, на высоком берегу стоит в мягком полукружье томного залива красивый большой город Неаполь. Л в Неаполе на возвышающемся над заливом холме стоит старинный трехэтажный дом со стрельчатыми венецианскими окнами, на втором этаже этого дома есть окно с щербатым мраморным подоконником. Ранним утром я вскакивал с жестковатой койки, подбегал к окну, распахивал его во всю ширь и смотрел в розоватую ширь залива, в ней проступали силуэты уходящих и приходящих в Неаполь судов, позолоченные утренним солнцем лепестки прогулочных яхт и острые очертания недалекого от города острова Капри. И каждый раз, глядя в вольный простор залива, ждал, что кто-то вот-вот голосом Карузо вскрикнет звонко: О, мой Неаполь!
Светлые дали!
Потом я спускался вниз в холл и знал заранее, что там за старомодной дубовой конторкой сидит немолодой узколицый и черноволосый человек и читает утренние газеты. Я здоровался с ним, в ответ он коротко мне улыбался, вполне доброжелательно, но поначалу чуточку настороженно. Синьор Алдоне первые дни никак не мог свыкнуться с моим присутствием в отеле, столь для него неожиданным.
Все началось как в приключенческом фильме. Я сошел с трапа «Виктории» на причал неаполитанского морского вокзала и вместе со всеми вышел в город. Мне предстояло задержаться в Неаполе несколько дней. Куда идти? Где искать приют в чужом и незнакомом городе, в котором я никогда не бывал и никого не знаю. Остановил первое встречное такси. Шофер говорил по-английски, и я попросил его отвезти в отель, «недорогой, но приличный, и желательно с видом на залив». Наверное, требования мои были слишком уж высоки – ему пришлось минуту подумать. Подумав, он сказал: «Бене!» И повел машину в город.
Отель, куда он меня привез, отвечал всем моим требованиям небольшой, уютный, стоял на высоком берегу, и окна его свободно взирали в поэтические дали Неаполитанского залива. Номер оказался без санузла, но зато чистый, с высоким потолком, широким окном, всего за пять долларов в день – чего еще надо? Когда человек за конторкой в холле прочитал заполненную мной анкетку, его угольно-черные итальянские глаза, казалось, на мгновение остекленели.
– Русский?
– Да…
– Из России?
– Да!
– И у вас есть паспорт?
Я протянул паспорт в красной корочке с золотым тесненым гербом.
Он молча полистал его, медленно, страничку за страничкой, задержал внимание на той, где стоял небрежный отпечаток штампа итальянской визы, которую я получил в Дели. Чем-то озадаченный, с моим паспортом в руке, он удалился в соседнее помещение. Вернулся нескоро и в сопровождении немолодой, очень высокой женщины. Она была одета в длинное черное платье, голова ее была покрыта черным платком, а сухое гладкокожее лицо имело то постное выражение, которое неизменно завершает монашеский классический портрет.
– Вы непременно хотите остановиться именно у нас, сэр? – спросила она на превосходном английском языке.
– Если возможно… Здесь так мило… – подтвердил я. – А что, есть какие-то сложности?
Она пожевала узкими твердыми губами.
– Видите ли, сэр… – бросила быстрый взгляд на мужчину, как бы ища у пего поддержки. Тот в свою очередь спросил:
– Простите, сэр, вы христианин?
– Атеист.
В их лицах проступило замешательство. Длинные желтоватые пальцы женщины нервно перебирали тоже желтые косточки четок, свисавших с ее шеи, как бусы.
– Значит, коммунист?.. – почти прошептала женщина, и в бесцветном голосе прозвучали нотки паники.
– Да, коммунист! Разве все это так важно для вашей гостиницы?
Голос монашки снова вернул свою недавнюю твердость:
– Видите ли, сэр… Наш отель особый. Его содержит святейший престол специально для приезжающих в Неаполь христиан. У нас здесь еще никогда не бывали безбожники. Вы первый…
Напряженно сдвинув черные брови, мужчина бросил на меня задумчивый взгляд:
– Может быть, ваши родители принадлежали к верующим? – спросил он осторожно.
– Родители – нет!
– А… бабушки?
– Бабушки точно – были верующими. Одна православная, другая протестантка. В церковь ходили до последнего дня.
Лицо мужчины просветлело, он одобрительно кивнул:
– Это уже лучше! – и поспешил поинтересоваться: – Разве у вас в Советской России сохранились церкви?
Я молча открыл свой портфель н достал комплект открыток по Москве. Несколько таких комплектов захватил с собой в путешествие – для подарков, этот оставался последним. Отыскал открытку с изображением храма Василия Блаженного на Красной площади и протянул мужчине.
Он внимательно взглянул на открытку, потом на ее обратную сторону, где был пояснительный текст по-английски, потом снова на изображение храма. Передал открытку женщине. Та тоже ее рассматривала с таким видом, будто в ней таилось божье откровение.
– Это в Москве?!
– В Москве.
Я подарил им весь комплект, и они, коротко посовещавшись по-итальянски, сообщили свой приговор: в порядке большого исключения разрешают мне, атеисту, превратиться на несколько дней в их постояльца.
– В знак уважения к доброй памяти ваших бабушек-христианок, – подчеркнул мужчина.
На третий день былая скованность синьора Алдоне исчезла, мы разговорились, даже вроде бы подружились, потому что синьор Алдоне был любопытен и задавал немало вопросов, разумеется, о теперешней России, названия «Советский Союз» он избегал. Когда настал день моего отъезда, человек за конторкой сказал:
– Все мы, синьор, люди: и верующие и неверующие, а значит, все в божьей воле. Да будет она для нас с вами доброй!
– Да будет! – охотно согласился я.
В минуту прощания он снизошел даже до того, что протянул мне, безбожнику, руку. Больше того, заявил, что, если в следующий приезд в Неаполь у меня появится нужда в недорогой гостинице с безупречной репутацией, они снова попробуют сделать мне исключение – ради памяти моих бабушек.
…Сейчас утро, погода ясная, море спокойное, и окна той маленькой гостиницы согреты теплым праздничным светом Неаполитанского залива. И может быть, кто-то сейчас стоит у знакомого мне окна, опирается руками на холодный мрамор щербатого подоконника и, подставив лицо ласковому морскому ветру, наслаждается непроходящей красотой этого мира. А внизу в холле тихой, с безупречной репутацией гостиницы за дубовой конторкой сидит сухощавый строгий синьор Алдоне и не торопясь, с пенсионерской обстоятельностью знакомится с утренними газетами.
С того дня уже не приходилось бывать в Неаполе. Да и придется ли когда-нибудь? Но сейчас мне радостно сознавать, что где-то там, за этим чистым горизонтом, на знакомом мне берегу существует человек, который наверняка мне дружески улыбнется, если бы я сейчас перешагнул порог его гостиницы.
Морской горизонт ровнехонький, по линеечке, словно за ним опять все та же вода, все та же непотревоженная очертаниями суши линия горизонта. А на самом деле не так уж далеко от борта «Витязя» проплывают невидимые берега Сицилии, за ними носок Аппенинского «сапога» – на нем приютилась итальянская провинция с поэтическим названием Колабрия, потом вытянется в нашу сторону уже каблук этого старомодного «сапога», высокий и острый, с его похожей на подковку оконечностью, именуемой мысом Санта-Мария, – когда-то мне посчастливилось увидеть его с борта судна. Стоит миновать этот мыс, как берега Европы отстранятся от нашего маршрута, подадутся на сотни миль на север, образовав теплое, неподвижное, словно спящее в вечной неге Адриатическое море. Его берега тоже живописны, особенно восточные, балканские. Знакомы мне и они, и сейчас, стоя у борта «Витязя», я, глядя на север, тянусь мысленным взором туда, к этим памятным берегам.
Вспоминаю серпантин опасной горной дороги, которая, вписываясь в линию побережья, упорно пробивалась к северу, минуя белостенные городки со шпилями церквей и мечетей, с красивыми именами – Саранда, Гирокастра, Тепелена. Возле городков ласково мерцали серебристые оливковые рощи. Потом дорога вдруг стала спускаться все ниже и ниже к морю и привела нас во Влерский залив, берега которого были так красочны, что напоминали декорации. Я выскочил из машины, скинул одежду и нырнул в лазурь моря. Плыл, ощущая каждым своим мускулом бодрящий холодок тугих морских струй. Доплыл до скалы, торчащей из моря, забрался на нее и, передохнув, нацепил на лицо маску для подводного плавания. Тогда она еще только входила в моду, я приобрел ее в магазине в румынском порту Констанца и очень гордился покупкой. Через стекло маски я увидел удивительный подводный мир Адриатики – нежно-изумрудные водоросли, стайки ярких, как лоскутики, разноцветных рыбешек, темные таинственные горловины подводных пещер в скалах. Был момент, когда мое сердце похолодело – в зеленоватой толще воды из-за скалы высунулась голова огромной змеи, повернулась в мою сторону и блеснула хрустальными бусинками глаз. Я готов был удирать, когда змея стала выползать из пещеры, ее шея расширилась и вдруг превратилась в мощное, покрытое панцирем тело, из которого торчали перепончатые лапы. Морская черепаха! Такая на вид неуклюжая, она ринулась в сторону под защиту скалы со стремительностью дельфина.







