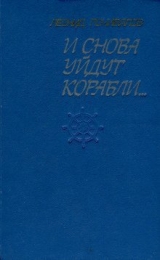
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
– Господи! Как мало мы о вас знаем! – призналась она. – Но мой дядя наверняка слышал и Шостаковича, и о его симфонии.
Ко мне вдруг обратились мои коллеги, приглашенные участвовать в первом рейсе «Михаила Лермонтова», западные журналисты, с просьбой. Меня, корреспондента «Правды», они считали вроде бы старшиной в нашей разноплеменной журналистской братии на борту лайнера. Потребовали: пускай Шостакович для них проведет пресс-конференцию. Капица-то отвечал на все их вопросы. У журналистов немало вопросов и к Шостаковичу. Я пошел к Дмитрию Дмитриевичу с уверенностью, что он откажет. И он отказал:
– Прошу вас, избавьте меня от подобного, – сказал он, и при этом вид у него был такой, будто с горечью вынужден принести мне большое огорчение. – Я так не люблю пресс-конференции!
А на другой день на палубе я встретился с Арамом Михайловичем Огановым. Он сообщил с явным удовольствием:
– А нам Дмитрий Дмитриевич не отказал.
Действительно, морякам не отказал. Одно дело – утомительные пресс-конференции с настырными журналистами, особенно западными, другое дело – встреча с моряками.
Это был не доклад, не лекция, это была просто беседа милого, доброжелательного, мягкого и интеллигентного человека о своей работе. В столовой команды сидели моряки, дорогие сердцу Шостаковича ленинградцы, и разговор с ними был легок и естествен. Зачем едет в Америку? Присвоили ему почетное звание доктора в одном из университетов, пригласили на вручение диплома и докторской мантии. Спрашивали о многом другом и, конечно, о Седьмой симфонии. Он сказал:
– Когда я узнал, что ее будут транслировать по радио отсюда, из моего осажденного Ленинграда, то подумал, что, может быть, и я хотя бы немного пособлю в спасении нашего города.
Гигантский город долго не обозначался там, где должен был появиться – прямо по курсу судна, хотя лайнер был почти у самого берега. Казалось, на Нью-Йорк было наброшено тяжелое ватное одеяло – города не было видно. Лайнер подходил почти к подножиям небоскребов. Город оказался погруженным в ядовитый нью-йоркский смог и раскален тропическим зноем.
Нас предупредили, что в порту антисоветчики намериваются устроить демонстрацию протеста в связи с прибытием в Нью-Йорк «Михаила Лермонтова». Но смог был таким тяжким, жара такой расслабляющей, что даже злой пыл ненавистников иссяк перед обстоятельствами. Погода оказалась не для митингов и протестов. В порту нас встречали только те, кто пришел приветствовать. Их было немного.
Перед швартовкой я обошел палубы лайнера. За полмесяца пути привык к нему, полюбил судно – уютное, удобное, красивое. Конечно, не такое большое, не такое респектабельное, как, например, «Франция» – не для миллионеров, – но таким, как Барбара, нравится. В тот год в советском пассажирском флоте оно было самым современным и считалось флагманом.
Мне было грустно расставаться с судном, которое на две недели стало моим домом. Вступлю ли когда-нибудь на его борт снова? Вряд ли. Из Америки на Родину мне предстояло возвращаться уже самолетом.
Я поднялся на мостик, куда меня временами приглашали вахтенные, и, придерживаясь старинного обычая прощания с судном, коснулся рукой отполированной ладонями вахтенных рукоятки штурвала:
– Прощай, Юрьевич!
У кораблей, как и у людей, заранее судьбу не предугадаешь. Знать бы. мне тогда, что пройдут годы и этот огромный красавец лайнер в недобрый час с распоротым скалами брюхом уйдет на дно возле берегов далекой Новой Зеландии. Был бы на нем капитан Оганов – такого бы не случилось, я в этом уверен. «Лермонтов» не вернулся. К сожалению, далеко не все корабли возвращаются к родным берегам.
Когда я узнал об этой горькой вести, в памяти всплыл облик задумчивого человека в очках, сидящего в шезлонге у борта, и его слова: «Все-таки океан лучше видеть в покое».
Но в тот год лайнер был молод, полон сил и надежд на будущее, его капитан предрекал ему большое плавание к самым далеким берегам на самых далеких широтах.
В Нью-Йоркском порту меня ждали, и я быстро прошел пограничный и таможенный контроль и, направляясь к выходу за огораживающим портовую зону барьером, увидел встречающих. В руках пожилой женщины был огромный букет алых роз. Он предназначался мне. Женщина издали улыбалась. Но в следующий момент я увидел, как ее широкая – от уха до уха – белозубая американская улыбка медленно сползла с лица, а глаза в удивлении округлились. Женщина смотрела куда-то поверх моего плеча. Я оглянулся и обнаружил, что за мной идет к выходу Дмитрий Дмитриевич. Узнала его – ведь она была американкой, родившейся в России. В тот же день в вечерней газете мне показали снимок Шостаковича, сделанный в порту. Композитор несколько напряженно улыбался, а в руке держал большой букет роз, тех самых. В подписи под снимком стояло буквально следующее: «Знаменитый русский композитор Дмитрий Шостакович прибыл сегодня в Нью-Йорк на советском лайнере «Михаил Лермонтов», открывшем постоянную пассажирскую линию между США и СССР».
Шостакович был поставлен по значению на первое место, а приход флагмана нашего пассажирского флота на второе, после запятой – так вроде бы, между прочим. У американцев свои критерии. Лайнеров в Нью-Йорк прибывает много, в том числе таких, как наш, а Шостакович на свете один.
Вечером я заехал в порт на «Лермонтов», чтобы проститься с Огановым и со всеми, с кем подружился в рейсе. Оганов только что провел пресс-конференцию для нью-йоркских журналистов.
– Жаль, что опоздали! – он был в добром расположении духа. – О чем только меня не спрашивали! Интересовались, кто такой Михаил Лермонтов – советский партийный вождь или министр. А один полюбопытствовал: верно ли, что лайнер прибыл в Нью-Йорк специально для того, чтобы доставить сюда композитора Шостаковича. И знаете, что я ему ответил?
Оганов со смехом откинулся в кресле.
– Я ответил: вы правы! Напишите, что нам выпала большая честь его доставить, а вам большая честь его принять.
Барбара пригласила меня в гости. Жила она в маленьком городке километрах в тридцати от Нью-Йорка в штате Нью-Джерси. Эндрю, ее муж, сам приехал за мной на машине. Он сообщил, что ради меня Барбара на обед позвала своего дядю, моряка, бывшего капитана. Он знает русских и даже немного говорит по-русски.
Домик у Куперов был небольшим, но приветливым. В маленькой гостиной на стене прикреплены открытки и цветные фотографии – свидетели поездок Куперов. Они большие любители путешествовать. На видном месте оказалась цветная фотография «Михаила Лермонтова» с чьей-то подписью в уголке.
– Это расписался сам капитан, – с гордостью сообщил Эндрю. – Очень любезный человек ваш капитан.
Дядя Барбары к обеду опоздал – на дороге образовалась автомобильная пробка из-за аварии. Это был морщинистый, худощавый, подвижный человек, полный оптимизма, об оптимизме свидетельствовала даже его лысина, которая бодро поблескивала в падавшем из окна луче солнца. Здороваясь со мной, он улыбнулся всеми своими морщинами и бодро заявил:
– До свидания!
Оказалось, что мистер Герберт Хьюз знает по-русски еще «на здоровье», «до дна», «полундра» и «Катюша». Этим его знания нашего языка исчерпывались.
За обедом мистер Хьюз был разговорчив, много курил и почти ничего не ел. Его обуревали воспоминания. Да, он знает русских, бывал в России, правда, всего один раз. Ходил в порт Полярный на транспорте «Лонг Айленд» в морском конвое.
– Это было настоящее дело, доложу я вам! – вскрикивал Хьюз. – Шторм, туман, холодища адовая. Германские самолеты липнут к конвою, как осы. Мы едва успеваем отплевываться зенитками.
Хьюз так разволновался, что даже привстал над столом, словно выступал перед многолюдной аудиторией.
– Вдруг вижу, из тумана два эсминца, как коршуны, аж пена у бушпритов. Прямиком на мою посудину. Докладывают на мостик: с кормы – третий! Ну, думаю, каюк! В клещи берут! И тут этот третий, будто тигр, бросается на первых двух и давай по ним палить! Смотрю в бинокль: на гафеле бело-голубой флаг с красной звездой, серпом и молотом. Русский! На борту его название. Но попробуй, прочитай! На моей посудине никто русского не знал.
Рассказчик опустился на стул, прикурил сигарету, медленно выпустил дым, давая себе передышку в стремительном потоке воспоминаний.
– …Ну, тут на помощь вашему эсминцу подоспел английский крейсер. Отогнали немцев. Потом этот эсминец всю дорогу шел недалеко от нас в конвое, мы поглядывали на него, и на душе становилось спокойнее.
Хьюз вздохнул:
– К сожалению, имя нашего спасителя не помню.
Полярном мне его называли, но оно такое сложное для нашего уха, что я тут же забыл. Запомнил лишь: «самый храбрый русский на Севере». Вы не слышали что-нибудь о самом храбром вашем корабле на Севере?
– Нет, не слышал!
Потом мистер Хьюз вспоминал дни, проведенные в порту Полярный, выгрузку судов конвоя, встречи в Полярном с русскими.
– Отличные парни! Совсем свои, и даже странно, что по-нашему не говорят. В Полярном мне рассказывали, будто к нашему каравану рвался немецкий крейсер, а его задержал какой-то ваш торговый кораблик: сам погиб, но флага не спустил.
– Это был «Сибиряков», – сказал я.
– Может быть. Ваши названия трудно запомнить. Главное, что он выручил конвой. Представляете? Прорвался бы немец в тот момент, когда его не ждали, и совсем с неожиданной стороны. Все равно что гангстер из-за угла. Сперва напал бы на ваш караван, потом на наш. И вполне возможно, не сидел бы сейчас перед вами Герберт Хыоз.
Глядя на кончик дымящейся сигареты, Хьюз задумчиво улыбнулся:
– Помню, решили организовать футбольный матч. Международный. Англичане сколотили команду, но у них не хватало форварда. Я и вызвался. Играли против ваших военных моряков…
Он вдруг ткнул вилкой в сардинку, отправил в рот, медленно пожевал.
– Ну и кто выиграл? – поинтересовался я.
Американец сокрушенно развел руками:
– Уж извините! Выиграли мы. Не помню, с каким счетом, но наши взяли верх. Это точно! И представляете, два гола забил я, Герберт Хьюз!
В Вашингтоне в нашем торгпредстве на стене я увидел портрет немолодого человека с высоким чистым лбом, в очках, за стеклами которых проступали твердые зрачки сосредоточенных думающих глаз. Лицо было незаурядным, принадлежало наверняка человеку в этом доме уважаемому – раз портрет висел на видном и почетном месте. Мне объяснили: это Ничков, один из тех, кто создавал и укреплял торговые отношения между нашими странами, отдал своему делу многие годы жизни, а в конечном счете и саму жизнь. Он прибыл в Нью-Йорк в первый год Великой Отечественной войны, участвовал в организации поставок из Америки оружия и техники, обратным рейсом караваны везли из северных советских портов в порты Англии и США лес, в котором они тогда так нуждались. Отправку леса для союзников обеспечивал Ничков. Он был не только деловым и самоотверженным в работе, но и мудрым человеком. Его высоко ценили и англичане, и американцы, называли «надежным в бизнесе русским».
– Ничков мечтал об этом дне, о дне, когда к берегам Соединенных Штатов прибудет первый лайнер нашей первой пассажирской линии, – сказал мне заместитель торгового представителя. – Говорил: подойду однажды к окну и увижу, как из океана направляется в порт стройный, красивый пароход под красным флагом. И именно на нем и вернусь на Родину…
Он был мечтателем. Однажды его сердце, перегруженное многолетним, не знающим меры трудом, не выдержало. Оно остановилось, когда он сидел в своем кабинете здесь, в Америке. Немного не дожил до того дня, когда ранним жарким утром у пассажирского причала Нью-Йорка пришвартовался «Михаил Лермонтов».
Только-только разговорились с Николаевым, как его срочно вызвали в дежурную комнату.
– Прибыла группа иностранцев. Ваша очередь вести!
Что ж, дело привычное. В музей немало иностранных гостей ходит. Не удивительно: один из лучших военно-морских музеев в мире! На этот раз оказалась группа английских военных моряков. Их корабль прибыл с дружеским визитом в Ленинград. Я присмотрелся к ним: рослые, подтянутые, такие элегантные в своей традиционно сдержанной, неброской морской униформе и молодые, не старше тридцати, войны не знают. Я следовал по залам за группой – интересно было послушать, как Николаев ведет объяснения. Он-то знает, о чем говорить, особенно когда перед ним стенды времен Великой Отечественной.
– Мистер Николаев, научный сотрудник музея, – представил его переводчик при знакомстве.
Офицеры кивнули.
Экспозиция у англичан вызвала интерес: с любопытством познакомились с основателем российского флота ботиком Петра Первого, моделями самых знаменитых российских кораблей. В зале Великой Отечественной задержались дольше. Особенно заинтересовал стенд, посвященный операциям Северного флота. Возле стенда, под стеклянным колпаком была модель боевого корабля.
– Это «Гремящий», – пояснил Николаев. – Участвовал в проводке английских и американских конвоев.
Он показал на фотографию морского офицера, помещенную на стенде.
– А это его первый командир. Турин.
– А это кто? – спросил один из англичан, разглядывая соседний снимок. На нем был изображен другой офицер. Опустившись на колено, он склонился перед флагом корабля в торжественный момент присяги.
– Это я, – сказал Николаев. – Командовал «Гремящим» после Турина.
– Мистер Николаев, который перед вами, награжден орденом Британской империи, – пояснил переводчик.
Два десятка молодых людей в форме, как по команде, замерли в положении «смирно» – будто перед ними вдруг предстал адмирал. И с этого момента обращались к Николаеву не иначе как «сэр». Еще бы! Скромный экскурсовод ленинградского музея вдруг оказался кавалером одного из самых почетных орденов Великобритании!
Всякий раз, оказавшись в Ленинграде, непременно выкрою час-другой, чтобы побродить по удивительному городу. В общении с ним неизменно становишься богаче и в мыслях и чувствах. Однажды остановился на набережной возле строго классического стиля здания, в котором расположен главный в нашей стране военно-морской музей. И вдруг вспомнилось путешествие в Америку, оно начиналось отсюда, из Ленинграда, на «Михаиле Лермонтове», и маленький городок в штате Нью-Джерси, и живое, полное энтузиазма лицо Герберта Хьюза. Кто же все-таки спас «Лонг Айленд»? И я перешагнул порог музея, в котором до этого бывал не раз.
Начальник музея сказал:
– Думаю, это был «Гремящий». У нас ему посвящен специальный стенд. И в архивах кое-что сохранилось.
Но лучше всего вам встретиться с бывшим командиром «Гремящего».
Он потянулся к телефону:
– Сейчас попрошу его зайти сюда.
От неожиданности я даже растерялся: сейчас увижу перед собой легендарного командира легендарного военного корабля!
Но как раз в это время на столе у начальника музея зазвонил телефон. Прибыли англичане!
И вот наконец все экскурсии завершены и мы с Николаевым одни. Он среднего роста, коренаст, голова слегка поседела, лицо неулыбчивое. И экскурсию англичан вел, не поззоляя себе никаких эмоций, просто излагал положенный материал, хотя во многих событиях, о которых повествовал, участвовал лично.
– То, что вам рассказывал американец, могло быть и с «Гремящим», и с «Сокрушительным», – сказал он, выслушав меня. – Морских схваток тогда случалось немало. Наша задача состояла в охране конвоев. Вот мы и охраняли. Как могли…
Как могли… Это были легендарные страницы истории нашего Военно-Морского Флота. Обстановка на Севере была тяжелая. Над конвоями постоянно висела угроза нападения гитлеровцев. Много мужества проявили наши моряки в защите конвоев. Особенно эсминцы «Гремящий» и «Сокрушительный» – провели под своей охраной десятки конвоев, сбили немало самолетов противника, потопили несколько вражеских подводных лодок.
Николаев командовал вначале «Сокрушительным», потом «Гремящим». В конце сорок первого, выполняя особое задание правительства, «Сокрушительный» при входе в Белое море встретил английский крейсер «Лондон». С крейсера на борт советского эсминца перешли представители правительств США и Великобритании: А. Гарриман, который вскоре стал американским послом в Москве, и английский лорд Бивербук. В Архангельск «Сокрушительный» шел под тремя флагами, и Николаев уверен, что на военном корабле это был первый случай такого содружества флагов держав антигитлеровской коалиции.
– Гарриман произвел на нас хорошее впечатление, – рассказывал Николаев. – Простой в общении, доброжелательный. Почти весь путь провел со мной на мостике, а когда прощались, каждому из нас пожал руку и сказал: «Спасибо, никогда не забуду эту встречу!»
Борис Дмитриевич помолчал, потом добавил:
– Я как-то сразу поверил в этого человека. И, кажется, не ошибся. Насколько мне известно, Гарриман остался верен добрым отношениям с нашей страной.
Я слушал неторопливый рассказ сидящего передо мной сурового человека и думал, что сейчас в Англии и Америке живут сотни людей, которые не ведают о существовании русского моряка Николаева. А он спас им жизнь. Может быть, именно ему, Николаеву, обязан жизнью и Хьюз?
– Особенно запомнился последний конвой. Это было уже в сорок четвертом. Шесть английских и американских транспортов, которые доставили военные грузы в Архангельск, отправлялись в обратный путь. – Николаев задумчиво скосил глаза к окну. – Что-то мне сейчас припоминается, что среди них вроде бы был большой сухогруз под названием «Лонг Айленд». Я тогда учил английский и запомнил в названии сухогруза этот «Лонг» – длинный. Возможно, и ошибаюсь.
Он, кажется, впервые улыбнулся и то как-то неуверенно, затаенно, словно улыбка была не положена при его должности.
– Впрочем, какое это имеет значение, кто именно выручал вашего Хьюза. Важно, кто-то выручил. И он живет и здравствует, – Николаев поднял на меня глаза. – Чаем хоть напоил вас там, в Америке?
– Напоил.
– И то ладно… – Помолчал и тем же негромким голосом продолжал – Ну, значит, накануне ухода последнего каравана наши моряки устроили для товарищей по оружию прощальный ужин. Поговорили по душам. Было что вспомнить. Конвои – дело опасное. Сколько и их и наших лежит на дне северных морей!
– Например, «Сибиряков»…
Николаев кивнул:
– И он тоже…
– А почему в вашем музее нет модели «Сибирякова»? Судно героическое.
Он слегка пожал плечами.
– Знаете, что я вам скажу. Это уж как повезет. Что в самом бою, что потом в истории – как повезет. О подвиге «Сибирякова» надо бы песни складывать, молодежь на его примере учить, а мы его задвинули куда-то на второстепенные полки истории. По недомыслию. По неумению пользоваться материалом, которому на самом деле нет цены, – помедлил, склонив голову над столом.
Во время нашего разговора Николаев вытащил стола альбом с фотографиями военного времени, чтобы проиллюстрировать свой рассказ документом – фотографии плохонькие, любительские, да и сделаны часто в условиях тяжких. Но как же в них отражено то суровое время!.. Вот длинный, острый, как лезвие, корпус «Гремящего» режет арктические волны – эсминец уходит в дозор… Темные силуэты транспортов союзников в открытом море… А вот этот снимок заставляет присмотреться повнимательнее: вокруг боевых кораблей вздымаются гейзеры воды – рвутся снаряды. Аверелл Гарриман вместе с советскими моряками… На мостике «Гремящего» английские офицеры связи. На площадке среди скал футболисты гонят к воротам мяч…
– С англичанами в Полярном играли… – пояснил Николаев.
Еще несколько фотографий, посвященных матчу… Видно, встреча для Николаева имела значение, раз так много снимков – должно быть, любитель футбола. Я повнимательнее пригляделся к снимкам – нет, лиц не разобрать, а если бы и разобрал, разве узнаешь – десятки лет миновали с того времени.
– Может, как раз в этой встрече и участвовал Хьюз?! – предположил я. – Как я помню, он рассказывал, что тогда они вроде бы выиграли у наших. А сам Хьюз забил два гола…
У Николаева недовольно скривилось лицо, он протестующе поднял руку:
– Нет уж! История есть история. Изменить в ней ничего нельзя! Конечно, парни они были отличные, по я точно помню: в футбол тогда выиграли мы.
Я приехал в Архангельск по командировке Союза писателей СССР. Мы проводили здесь семинар молодых литераторов-маринистов северных областей страны. Архангельские власти решили воспользоваться приездом московских писателей: «Надо обязательно встретиться с экипажами наших судов, выступить перед моряками, рассказать о своей работе», – попросил секретарь обкома. Семинаром руководил известный полярный капитан и писатель Бадигин. После первого дня заседания я пошел пройтись на набережную Северной Двины. Был ясный октябрьский вечер, на набережной под ногами шуршали пожухлые листья, с просторов реки несло холодной свежестью подступающей осени, крики чаек, которые носились над берегом, были печальными, казалось, чайки горевали по уходящему за горизонт солнцу.
Неожиданно на набережной я встретил Бадигина. Упираясь руками в гранит парапета, он смотрел в просторы Двины, по реке гуськом шли суда, направляясь в порт. Константин Сергеевич был без головного убора, и ветер трепал его седые волосы. Должно быть, вспоминал полярный капитан прошлое. Отсюда, из устья Северной Двины, не раз уводил он корабли туда, на север, ко льдам.
Кивнул приветливо, увидев меня, рукой показал на парапет, мол, вставай рядом, вместе полюбуемся Двиной, красива, могуча река.
– Ну, что вы думаете о нашем первом дне? – спросил меня.
Я ответил. Он долго молчал, продолжая глядеть в просторы реки. Вдруг ворчливо обронил:
– Столько маринистов понаехало, а где они, книги о море? Целина для нас нетронутая. Как много еще не рассказано! – и мне показалось, что в голосе его прозвучала обида.
Утром я поехал в управление пароходства – договариваться о предстоящей встрече с моряками. На верхнем этаже нового высокого здания на берегу Двины в одном из кабинетов меня познакомили с Георгием Ивановичем Голубевым, по шевронам на рукавах кителя мне стало ясно, что передо мной капитан. Он тоже ожидал одного из руководителей пароходства, тот запаздывал, и мы разговорились, бок о бок прохаживаясь но мягкому ковру кабинета. Разумеется, сначала о погоде – хорошая осень стоит, но зима не за горами, а вот в Роттердаме, откуда Голубев только что вернулся, осенью даже и не пахнет, да и зим суровых там не знают.
– А что привезли из Роттердама?
– Трубы для газопровода.
– А судно какое?
Он подошел к окну, кивком головы позвал и меня:
– Вон оно! Взгляните!
Как раз напротив здания пароходства посередине Двины, носом на течение, стоял на якоре солидный белобортный сухогруз, с чуть скошенной трубой, элегантным рисунком палубных надстроек.
– Приличный кораблик!
Моя похвала ему была по душе.
– Двадцать тысяч тонн! – сообщил капитан, и в тоне его проступали горделивые нотки.
– И как же звать?
– «Влас Ничков».
– Ничков? Ничков… Кто такой?
– Был такой примечательный человек. Работал в Америке…
– В Америке говорите?..
Ах, вот где я слышал о Ничкове! Все в той же Америке! И вдруг вспомнился его портрет на стене торгпредства – умные ожидающие глаза, вглядывающиеся сквозь стекла очков поверх твоей головы куда-то в далекую даль… Ждал Ничков пароход, стал Ничков пароходом.
– В Америку ходили?
– Сразу же, как только подняли на судне флаг. Сперва зашли в Англию, потом через океан к американцам. Памятный рейс был. И в Лондоне и в Нью-Йорке поднимались к нам на борт те, кто знал Ничкова, останавливались возле его портрета в кают-компании, клонили головы. И тогда мы поняли, что значил Влас Ничков, именем которого назван наш корабль. Вроде бы он, как капитан, продолжал водить сквозь вражду и непогоду отважные конвои, спасая проложенную когда-то дорогу между Западом и Востоком.
Я представил приход «Власа Ничкова» в Нью-Йорк. Столпившиеся возле берега, похожие на кладбищенские обелиски, коробки небоскребов… В одном из них на восемнадцатом этаже ничем не отличное от других, за зеленоватым солнцезащитным стеклом окно кабинета, в котором работал Ничков. Устав от дел, он временами подходил к окну, тянул взор к океанскому простору… Ждал белого парохода, который придет от берегов Родины: вот и пришел все-таки.
– Недолго довелось «Власу» стоять на вахте конвоев… – продолжал Голубев. – Наше судно было последним, которое зашло в американский порт за купленной нами пшеницей. Дорогу в Америку другим судам из СССР отрезало эмбарго на продажу пшеницы, наложенное президентом США.
Голубев, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.
– Глупость все это! Глупость и вздор! Расчет на слабонервных. А нас этим не возьмешь.
Я взглянул на литую капитанскую фигуру, на его крепкий подбородок, поймал прямой взгляд его спокойных светлых глаз. Л ведь действительно не возьмешь!
За окном в утреннюю осеннюю дымку, повисшую над рекой, впечатывались решительные очертания могучего судна. Казалось, что оно и его капитан сработаны из одного надежного и крепкого материала.
Пришел хозяин кабинета. С Голубевым разговор предстоял подольше, поэтому начал с меня:
– Значит, так… Одна ваша группа поедет на третий причал, там стоит лесовоз, другая на пятый…
Прощаясь со мной, попросил:
– Вы уж, пожалуйста, передайте товарищам писателям, чтоб они с морячками посвободнее. Морякам интересно увидеть живого писателя, послушать его. Расскажите что-нибудь такое, что они не знают.
Я попал в группу, которую направляли на только что вернувшийся из дальнего и долгого рейса большой морозильный траулер. В столовой команды собралось довольно много народу.
Прибывших усадили за накрытый красным сукном стол президиума.
– Товарищи! У нас сегодня дорогие гости, московские писатели, – сказал первый помощник капитана. – Попросим их, так сказать, поделиться…
– Но сперва вы сами расскажите немного о себе, – попросил один из нас.
– Ну, хотя бы, откуда сейчас пришли? Как проходил промысел? Было ли что необычного? Что-нибудь такое… – поддержал я.
В зале блеснули усмешки:
– У нас каждый день «такое-этакое».
– Ну, например? Что особенно запомнилось? Ну?!
Зал минуту посмеивался, шушукался, должно быть, удивляясь наивности наших вопросов.
– Ну, например, случилось в рейсе ЧП, – начал помполит. – Норвежский траулер в Атлантике спасали. И при этом сами чуть не хлебнули водички…
– Было дело… – сказал сидящий в первом ряду бородач, морща лицо улыбкой, выразительно почесал затылок.
– Расскажите!
Мы просидели в столовой команды до вечера. Это была памятная встреча – моряки разговорились, столько нам порассказали и «такого» и «этакого», что мы рты пораскрывали. И, честно говоря, не выполнил я данное в пароходстве обещание: рассказать морячкам «что-нибудь». Мы слушали и слушали, а на свои рассказы времени уже не осталось.
– Как же так… – встревожился помполит, – Выходит, «культурное» мероприятие у нас не состоялось.
– Состоялось! – заверили мы его. – Лучшего и не придумаешь!
С причала в город нас доставлял портовый катер. Молодой моторист по пути нам объяснил:
– Видите причал слева? Там во время войны швартовались суда конвоя, принимали танки. А вон там, за тем сухогрузом, был лесной причал. Союзникам нашу древесину отгружали…
– Откуда вы все это знаете?
– А мой отец в войну здесь крановщиком был.
От причала к гостинице мы шли пешком. Двина светилась огнями стоящих и идущих кораблей. Огней было так много, что казалось, будто там, на реке, начинались кварталы еще одного города.
Возле здания областной консерватории толпился народ. На афише мы прочитали: «Сегодня симфонический концерт. В программе Вагнер, Равель, Шостакович». В кассе билетов не оказалось. Попытались разжалобить администратора:
– Понимаете, мы в Архангельске на короткое время… Хотелось бы…
Администратор развел руками, недослушав, возразил:
– Здесь многие на короткое время. Город у нас портовый. Многим хочется…
Ничего не поделаешь, «культурного мероприятия» не состоялось и здесь! Что ж, погуляем по вечерним улицам Архангельска. Вечер сегодня вполне подходящий для этого.







