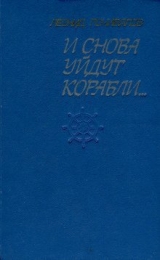
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Берег Маклая
Я стою на правом крыле капитанского мостика. В руках том из собрания сочинений Миклухо-Маклая. В этом томе множество маклаевских рисунков. На одном из них изображен мыс Уединения, названный так Маклаем, и на мысу хижина, над которой развевается русский флаг. В этой хижине и жил путешественник. Я смотрю на рисунок, потом на медленно приближающийся берег. Все удивительно совпадает: и ярко-зеленая бахрома рощ у моря, и безлесные прибрежные холмы, и густо-синие силуэты могучих гор в глубине острова. В бинокль замечаю проступающие за частоколом пальм контуры крыш деревушки. Наверное, это и есть Бонгу, в котором Маклай был своим человеком. Так много деталей совпадает с рисунком! Нет только хижины с флагом.
– Вроде бы никаких ста лет и не было, – улыбается помощник капитана. – Все как на этой картинке в книге. По крайней мере снаружи. А внутри посмотрим.
Шарю биноклем по берегу, с трудом в густой тени прибрежных мангровых зарослей различаю темные, почти сливающиеся с зарослями фигурки людей. Нас заметили!
Над палубами «Витязя» проплывают старинные русские вальсы. Наши радисты создают подходящий для случая «звуковой фон». Палубные динамики работают на полную мощность, и, может быть, вальсы слышат на берегу.
Вдруг музыка обрывается, и вахтенный помощник, по-левитановски напирая на гласные, объявляет по радио о том, что сейчас на корме у второго трюма состоится митинг и всей экспедиции и свободному от вахты экипажу предлагается собраться. И после паузы – уже с юмором: «Просьба прибыть в рубашках. Кинооператор будет снимать всех для истории».
К митингам мы привыкли, но сейчас испытываем необычное волнение. В эти минуты все кажется значительным и символичным. И каждую деталь хочется накрепко задержать в памяти… Два матроса, два самых статных и молодых парня на нашем борту, в парадной форме, в белых перчатках, ловко перебирая шнур, стремительно бросают в небо, к вершине мачты, алое полотнище Государственного флага пашей Родины и вымпел Академии наук СССР.
Капитан в белой тропической униформе, поднявшись на крышку трюма, привычно покашляв – так всегда, когда волнуется, ибо речи держать не мастак, – вдруг неожиданно просто, без всякой торжественности и поэтому-то так значительно для каждого из нас говорит:
– Ну вот, товарищи, и прибыл снова «Витязь» к Берегу Маклая спустя сто лет. Поздравляю вас.
Пока он говорит, от недалекого берега отделяется сперва одна, затем вторая, третья пироги, и этот маленький туземный флот устремляется к «Витязю». Мы спускаем нашу дорку. Как же печальны лица тех, кому не хватило места в первом рейсе дорки на берег! В первый рейс к берегу могут отправиться десятка два, не более.
Прибыли мы сюда за несколько дней до наступления юбилейного «маклаевского» года. Как раз в том, семьдесят первом году исполнялось 125 лет со дня рождения ученого и сто лет со дня высадки его на этом берегу. К тому же наше судно тоже «Витязь», прямой наследник русского корвета, «внук» его. Значит, заход «Витязя» в залив Астролябия будет иметь особое, символическое значение: спустя сто лет – снова «Витязь»!
Обелиск взялись изготовить на борту наши моряки. Понятно, весьма скромный – судно не завод, – но на лучший мы не могли и рассчитывать: бетонная плита со вставленной в нее пластиной из нержавеющей стали, на пластине текст по-русски и по-английски.
К бортам нашей дорки подходят туземные пироги. Папуасы – натуральные, из «глубинки», незнакомые с асфальтом и холодильниками. Обнажены, только кусок тряпки на бедрах – вся одежда. Кожа на плечах отливает бронзой. Широкие толстые губы чуть растягиваются в улыбке приветствия, обнажая неприятно красные от бетеля зубы. Только один из них в рубашке и шортах. Он меньше скован, чем другие, жесты его уверенны, первым пересаживается в нашу дорку и по-английски сообщает, что он местный учитель.
– Дед этого человека знал мистера Маклая и был его другом, – говорит учитель, показывая на сидящего в пироге пожилого папуаса.
Что он пожилой, свидетельствует только рассеченная глубокими трещинами морщин сухая, без блеска кожа лица. В густой шевелюре – ни одного седого волоса. Я где-то читал, что папуасы редко седеют. Облысевших встретить можно, а седых – исключение. У старика мощная, мускулистая шея, на которую красиво посажена крепкая, гордо откинутая назад голова. Взор мой с удивлением приковывается к его левому уху. Как давнишняя страшная рана, зияет дыра в ушной мочке, мочка превращена в петлю из живой плоти, на которую нанизано множество блестящих медных колечек. Еще Маклай писал об этом странном папуасском обычае: до неузнаваемости калечить ухо, вдевая в распоротую мочку тяжелые украшения – ракушки, огромные деревянные серьги, куски кораллов. Я оглядываю молодых папуасов, сидящих в пирогах, – уши у них в целости. Значит, древний обычай отмирает. Прикидываю в уме, сколько же лет может быть старику, если его дед был другом Маклая. Много, даже с учетом того, что дед и отец старика жили долго и дети у них были поздние. Наверное, лет под восемьдесят внуку друга Маклая, который сидит сейчас перед нами в пироге, важный, величественно-невозмутимый, будто хочет показать нам, что он – историческая фигура. Остальные сидящие в пирогах тоже невозмутимы: кроме короткой улыбки при встрече – никаких эмоций. Это отмечал Маклай: папуасы народ сдержанный; если их не знать, то можно подумать, что они суровы, замкнуты и необщительны.
Наша дорка, тарахтя, медленно идет к берегу. Моторист осторожничает; свесившись над бортом, внимательно вглядывается в близкое дно, на котором, как сказочные пышные дворцы, поднимаются к поверхности воды коралловые рифы.
На белизне коралловой полосы пляжа обнаженные фигуры людей, ожидающих нас, кажутся еще чернее. Издали поблескивают белки их глаз. Фигуры застыли, не шелохнутся. Лица спокойные и суровые. Вспоминаются строки из маклаевского дневника. Может быть, именно в этом месте и высаживался ученый? Он впервые подходил к берегу на лодке, спущенной с корвета. «…Между тем из-за кустов показался вооруженный копьем туземец и, подняв копье над головой, пантомимой хотел мне дать понять, чтобы я удалился. Но когда я поднялся в шлюпке и показал несколько красных тряпок, тогда из леса выскочило около дюжины вооруженных разным дрекольем дикарей. Видя, что туземцы не осмеливаются подойти к шлюпке, и не желая сам прыгать в воду, чтобы добраться до берега, я приказал моим людям грести, и едва только мы отошли от берега, как туземцы наперегонки бросились в воду и красные платки были моментально вытащены. Несмотря, однако, на то, что красные тряпки, казалось, очень понравились дикарям, которые с большим любопытством их рассматривали и много толковали между собой, никто из них не отважился подойти к моей шлюпке».
Вот какая сцена разыгралась сто лет назад на том самом месте, где мы должны причалить. Конечно, сейчас никто от нас в страхе не убегает, никто не ждет красных тряпиц. Но заход в залив Астролябия судна, конечно, событие здесь необычное. Вряд ли посещали этот залив большие суда. Что им делать в таком захолустье?
Дорка до берега не дотягивает – мешают торчащие со дна острые пики коралловых рифов. Первым прыгает в воду боцман, чтобы закрепить на берегу причальный канат.
Я прыгаю вторым и сразу же по горло ухожу в теплую зеленую воду. Вместе со мной ванну принимают два моих фотоаппарата и кинокамера. Барахтаясь в воде, содрогаюсь от мысли, что на Берегу Маклая теперь не сделаю ни одного снимка! Давя кедами хрупкие кораллы на дне, торопливо выбираюсь на сушу. Жаль испорченной съемочной аппаратуры.
Я на мысе Уединения! И у меня есть глаза! Разве этого мало?
Вслед за нами в воду прыгают остальные. Оглядываемся. Мы под густым тенистым шатром прибрежных мангровых зарослей. Под ним стоят почти голые – только тряпица на бедрах – черные люди, и в руках у них длинные, устрашающе поблескивающие остро отточенными лезвиями ножи. Вспоминаю запись Маклая о первой встрече с папуасами, которая не сулила ему ничего хорошего.
Ножи длинные, как мечи. Ими папуасы пробивают нам дорогу в заросли, в глубь мыска. Даже здесь, на обжитом берегу, без топора или ножа и шагу не сделаешь. На Новой Гвинее, как и на других меланезийских островах, чуть ли не главный враг человека – растительность. С пей нужно постоянно вести борьбу, иначе выкинет людей с острова.
Взмах вправо, взмах влево… Они напоминают рыцарей, сражающихся с неведомыми лесными чудовищами; мокрая от пота кожа на плечах отсвечивает бронзовым блеском лат, из черных, крепких и мощных, как шлемы, шевелюр воинственно торчат яркие перья.
Наконец, мы пробиваемся на небольшую полянку. Она огорожена бамбуковыми жердями.
– Здесь была первая хижина мистера Маклая! – говорит учитель.
Значит, папуасы знают, где стояла хижина. Значит, память о Маклае жива.
Матросы но пробитой в зарослях тропе на носилках переносят на площадку плиты для обелиска, цемент в бумажных мешках, в ведрах – пресную воду для цементного раствора. Лопатами быстро вскрывают дерн, обнажая близкое коралловое ложе, – крепко будет стоять на нем обелиск. Для фундамента нужен камень, и мы идем в глубь леса, находим небольшой ручеек – наверное, тот самый, о котором упомянул в своем дневнике Маклай, – и из желоба ручья выковыриваем тяжелые камни.
Все работают споро, с азартом; кажется нам – в том, что мы делаем, особый символический смысл, и поэтому каждому хочется положить в фундамент обелиска «свой» камень.
Наконец фундамент готов.
Почему у кинооператора странный, растерянный вид. почему не снимает момент сооружения обелиска, такой важный для его будущего фильма?
Кинооператор мечется по площадке с экспонометром в руках, и в его остекленевшем взгляде отчаяние.
– Что случилось?
– Темно. Для цветной пленки света нет!
Темно? Четыре часа пополудни. Вокруг площадки не джунгли, кустарник – все запросто щелкают фотоаппаратами. Но, оказывается, для цветной кинопленки света не хватает.
И вдруг кинооператора озаряет:
– Срубите это дерево! И это тоже! – Жест у него властный, генеральский, не терпящий возражений.
Боцман послушно направляется к дереву.
– Где топор? – кричит он.
– Топор! Ребята, поскорее топор!
– Топор! – вдруг громко и внятно повторяет молодой папуас, стоящий недалеко от меня, и показывает под куст. Там действительно лежит то, что мы ищем.
Мы изумлены. Изумлен и папуас нашему изумлению.
– Это же папуасское слово – то-пор! – утверждает переводчик, местный учитель.
– Папуасское?!
С помощью учителя наконец выясняем: на этом берегу топор папуасы действительно именуют русским словом. Ясно: пришло оно сюда вместе с Маклаем. Ведь он первым вручил здешним папуасам железный топор. До того у них были только каменные и назывались они иначе. Всего сто лет назад на этой земле был еще каменный век. «Металлов они не знали, даже не умели добывать огонь», – писал Маклай. Уже потом нам рассказали, что в папуасском языке сохранились и другие слова, которые местные жители переняли от русского путешественника вместе с понятиями, которые он для них открыл впервые: арбуз, кукуруза, тыква, гвоздь… Все эти слова сохранились до сих пор в местном диалекте.
Дерево срубили быстро – оно было невысоким, но с густой кроной, – и на площадку хлынул с моря поток голубого света. Стрелка экспонометра радостно дрогнула:
– Внимание! Начинаю съемки! Не разбредайтесь! Ближе, ближе к обелиску! Еще ближе!
А обелиск уже готов. И часа не прошло, как мы высадились. Вот что значит вдохновение!
На пластине из нержавеющей стали слова по-русски и по-английски:
В память высадки на этом берегу в 1871 году с корвета «Витязь» русского ученого
Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
от моряков и ученых «Витязя»
Декабрь 1970 год.
Минуту молча стоим у обелиска, склонив головы. Вспоминаю могилу Миклухо-Маклая на старинном кладбище в Ленинграде. Когда увидел ее впервые, была зима, и на могилу падали тяжелые и влажные хлопья снега. И там, на зимнем ленинградском кладбище, я пытался представить далекий жаркий берег, вот этот берег, которому Маклай отдал столько сил, столько здоровья, а значит, и саму жизнь. Он умер молодым – сорока двух лет. Удивительным человеком был Миклухо-Маклай.
Мы знаем немало великих имен, которые стали известны, потому что в основе их поступков было честолюбие, стремление к славе, к утверждению своей личности. Поступками Маклая руководил прежде всего интерес ученого: он задался целью узнать нечто новое, важное для науки, сделал все, что было в его силах, для этого, не рассчитывая на славу.
…Мы идем за папуасами по узенькой тропинке, которая тянется по пальмовой роще. Из маклаевского дневника мне помнится, что на этом мысу пальмы первым посадил он. И вот сейчас шелестит над нами жесткими, будто жестяными, листьями, бросает нам под ноги влажные мохнатые тени старый пальмовый лес. Неужели так разрослись маклаевские посадки? Где-то здесь, на этой земле, впервые сажал Маклай тыкву, арбуз, кукурузу, отсюда и пошли в путешествие по деревням завезенные сюда русские слова.
Пальмовый лес прекрасен. В отличие от джунглей он сух, чист, светел, по нему идешь, как по огромному храму, где много воздуха, простора, света, – толстые голые стволы пальм будто колонны, которые где-то высоко над головой поддерживают легкую, ажурную, ярко-зеленую кровлю.
«…Лучи заходящего солнца освещали теплым светом красивую листву, в лесу раздавались незнакомые крики каких-то птиц. Было так хорошо, мирно и вместе чуждо и незнакомо, что казалось скорее сном, чем действительностью». Эти слова записал Маклай в дневник 20 сентября 1871 года, в первый день своей первой высадки на Новой Гвинее. Ему здесь сразу же понравилось, едва он сделал первые шаги по этой земле. Она действительно благодатна fra первый взгляд. Справа, за темными стволами пальм, за причудливо изогнутыми ветвями прибрежного кустарника, стелются розовые шелковистые пески пляжа, блещет жаркое золото водной глади залива. Наступающий тропический вечер исполнен сладкой истомой, зовет к покою, к тихому созерцанию мира.
Тропинка узкая, и наш отряд вытянулся длинной цепочкой по всему лесу. Мы идем вслед за проводниками-папуасами к ближайшим деревням. Под пальмами в разных местах навалены кучи расколотых кокосовых орехов, от них тянет сладковатым гнилостным запахом.
Во времена Маклая туземцы копру не заготавливали в больших количествах. Копра им была нужна только для личных нужд. А сейчас уже трудятся на вывоз – новые времена подключили захолустный Берег Маклая к системе мировой экономики; может быть, эта посаженная Маклаем роскошная пальмовая роща принадлежит давным-давно какому-нибудь плантатору-чужеземцу, и папуасы, вольные и независимые при Маклае, теперь уже обязаны работать на кого-то.
Тропинка приводит нас к небольшой, состоящей из пяти хижин деревушке.
«Я с нетерпением выскочил из шлюпки и направился в лес. Пройдя шагов тридцать по тропинке, я заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропинка привела меня к площадке, вокруг которой стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. Деревня имела очень опрятный и очень приветливый вид. Середина площадки была хорошо утоптана, а кругом росли пестролиственные кустарники и возвышались пальмы, дававшие тень и прохладу. Поблекшие от времени крыши из пальмовой листвы красиво выделялись на темно-зеленом фоне окружающей зелени…»
Если бы не шагающий рядом со мной местный учитель в малиновой тенниске, с поблескивающими никелем часами на смуглой руке, если бы не идущий вслед наш капитан в белой тропической форме и с портативным радиопередатчиком в руке – для экстренной связи с «Витязем», – можно было бы представить себе, что сейчас конец девятнадцатого века, что шагаю я по неведомой земле по следам Маклая. Деревушка в точности соответствует его описанию. И так же пусто в ней – ни одного человека, будто деревня брошена, будто, как сто лет назад, жители ее в страхе убежали в лес, увидев в заливе устрашающее неведомое чудовище – пароход.
Не задерживаясь, наша группа идет дальше по тропке, из леса тропка заворачивает к морю, теряется на мгновение в студеной струе быстрого и широкого горного ручья, мы переходим его вброд, и ноги наши словно ошпарены ледяным холодом воды. – Уходит тропка к коралловому пляжу, забирается на невысокий берег и вдруг открывает перед нашими глазами довольно большую деревню. Это Бонгу. Сколько страниц в своем дневнике посвятил ей Маклай! Именно здесь Вошел впервые Маклай в мир людей каменного века.
Это было 1 октября. Проснувшись до рассвета, Маклай решил идти в одну из деревень для знакомства с туземцами. Брать или не брать с собой револьвер? Он не знал, как его встретят туземцы. Но тут же пришел к выводу, что, в сущности, револьвер в его положении – вещь бесполезная. Он может в случае опасности нагнать страху на короткое время, но потом не оградит от мести многочисленных туземцев. «Чем больше я обдумывал свое положение, тем яснее становилось мне, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Я оставил револьвер дома, но не забыл записную книжку и карандаш».
И вот, может быть, по этой самой тропинке Маклай неожиданно вошел в деревню Бонгу. Конечно, за сто минувших лет в облике деревни что-то изменилось. Может, расположение хижин теперь иное, может быть, хижин стало больше или меньше, но облик деревни, в сущности, все тот же: те же крытые пальмовыми листьями хижины, те же костры на вытоптанных пыльных площадках.
«Я вышел на площадку. Группа вооруженных копьями людей стояла посередине… Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые туземцы приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье… Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно продвигаться… Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли или без умысла пущенные одна за другой две стрелы, очень близко от меня… Я мог заметить, как только пролетела первая стрела, много глаз обратились в мою сторону, как бы изучая мою физиономию, но, кроме выражения усталости и, может быть, некоторого любопытства, вероятно, ничего не открыли в ней… Один из них был даже так нахален, что копьем при какой-то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и еле-еле не попал мне в глаз или нос… В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник задумал его повторить». И тут произошло чудо для папуасов: странный белокожий человек не бросился в испуге бежать, а высмотрел место в тени и преспокойно улегся на циновке… Так был разрушен первый барьер отчужденности, так был сделан первый шаг к доверию туземцев, шаг к тому времени, когда Каарам Тамо, «Человек с Луны», стал для папуасов полубогом, добрым покровителем, защитником, учителем и другом. Как легко зрительно представить эту сцену сейчас, находясь в самой деревне Бонгу, среди его обитателей! Может быть, именно на этой площадке, где я сейчас стою, и происходили те драматические события первой встречи Маклая с папуасами?
Приглядываюсь к сидящим под пальмами жителям деревни, и мне кажется, нахожу что-то знакомое, словно я их где-то уже встречал раньше. Ну конечно же, встречал… в Ленинграде, в архиве, когда рассматривал подлинники многочисленных рисунков, сделанных рукою Миклухо-Маклая. Люди сидят возле своих хижин у костров в неподвижных, застывших позах, на нашу цепочку, которая медленно шествует мимо них, глядят равнодушно и без особого интереса: улыбнешься им первым – улыбнутся в ответ, поднимешь руку в приветствии – ответят тем же. Но в общем-то никакого волнения по поводу нашего прибытия. Не те времена! За копья не хватаются, в лес в страхе не убегают. Белокожих уже видали, знают им цену. Конечно, большинство и не ведают, что мы земляки человека, имя которого до сих пор живет в здешних легендах о могущественном сыне Луны, – он был их добрым покровителем, он должен к ним вернуться снова, чтобы сделать их счастливыми. Наверное, среди голых и чумазых мальчишек, снующих возле костров, есть и Маклаи – этим именем здесь до сих пор называют детей.
Но мы, идущие мимо, обвешанные фотоаппаратами и магнитофонами, вовсе не похожи на тех, кто приходит из легенды. А вот для нас папуасы почти что из прошлого. Правда, на кострах с каким-то нехитрым варевом алюминиевые кастрюльки, возле охапки хвороста лежит вполне современный стальной топор, мальчонка с рахитичным вздувшимся животом играет пустой консервной банкой из-под мясной тушенки… На бедрах у мужчин вместо набедренной повязки – кусок материи, а на некоторых даже выцветшие, неопределенного цвета шорты. Вот, пожалуй, и все наглядные признаки второй половины двадцатого века в деревне Бонгу. А все остальное – прямо-таки из маклаевских дневников. И зверски продырявленные уши с серьгами, и вымазанные охрой волосы у молодых местных франтов – папуасы с большим вниманием относятся к прическе, гордости и достоинству мужчины, волосы тщательно укладывают, придавая прическе разную форму, пудрят, украшают перьями.
Встретился на тропинке старик, худой, костлявый, с густо-черной кожей, с застывшим сморщенным лицом, – прямо-таки ходячая мумия. За ним плелась собака, зыбкая, как тень, в чем только держится бедная собачья душа, одни кости да торчащие из них пучки шерсти. В руке у старика лук и стрелы. На охоту отправился: то ли на птицу, то ли на рыбу.
Меж стволов пальм прошли гуськом несколько женщин; согнулись под тяжестью корзин с плодами за спиной, плетеные ручки корзин туго перехватывают лбы – так здесь женщины носят тяжести. Голова у женщин тоже в густой копне курчавых волос, прическа вроде бы ничем не отличается от мужской, да и вообще папуасскую женщину с первого взгляда можно принять за подростка.
На окраине деревни наш проводник показывает еще одну площадку, огороженную бамбуковой изгородью. Здесь стояла другая хижина Миклухо-Маклая, которую он построил во второй приезд на Новую Гвинею. Хижина была просторнее, удобнее первой, но сколько бессонных ночей провел здесь больной русский ученый! «Часто хворал лихорадкой, и раны на ногах плохо заживают», – писал он в дневнике.
Это только на первый взгляд здешняя земля кажется сказочной, обетованной землей юга. Насыщенные ядовитыми испарениями мангровые заросли, топкие малярийные болота, колючие сырые джунгли. Этот берег считается одним из самых скверных по климату на острове, для европейца почти непереносимым. Конечно, годы, проведенные здесь Маклаем, сократили его жизнь.
Становится заметно темнее. День стремительно убывает. Пора возвращаться. Как жаль, что так коротко у нас время пребывания на этом берегу. Остаться бы тут на несколько дней, пожить среди папуасов, повнимательнее приглядеться к ним, к их образу жизни. Но нас другие дела ждут в океане.
На обратном пути к мысу Гарагаси, где пришвартована наша шлюпка, неожиданно на тропке встречаем двух европейцев. Один невысокого роста, кругловатый, лысоватый. Под длинной черной сутаной мускулистое, крепко сколоченное, хорошо тренированное тело – это чувствуется в осанке, в решительности и энергичности движений, в твердости и в то же время в спортивной легкости походки. Ему лет тридцать пять, не больше. Представляется: местный миссионер. Понятно, в здешних условиях работать могут только вот такие, как он, – молодые, спортивной закалки «воины армии Христовой». Он, должно быть, и автомашину лихо водит, и регбистом был, и в футбол не прочь погонять.
Другой тоже молод. Взглянув на него, я поразился, до чего же внешне похож на Маклая с известного портрета Маковского: и густая борода, и рыжеватая, юношески пышная шевелюра, и ясные глаза сосредоточенно и зорко глядящего в мир. Возраст что-то около двадцати пяти. Именно в этих летах впервые высадился здесь Миклухо-Маклай. А ко всему прочему фамилия созвучная – Макларен. Я уже не удивляюсь, когда узнаю, что он этнограф из Сиднейского университета. Показывает пачку фотокопий таких знакомых мне портретов папуасов из собрания сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая. Прибыл сюда для того, чтобы на основе дневников русского ученого определить изменения в образе жизни папуасов за сто минувших лет.
Изменения? Вместо каменного топора – железный, вместо посуды из раковин – алюминиевые кастрюльки. А в остальном все то же, по крайней мере на первый взгляд: убогие хибарки, из тростника и пальмовых листьев, скудное варево на кострах, чудовищно распухшие ноги у пораженных слоновой болезнью… Как жаль, что так мало у нас времени! Поговорить бы с Маклареном всерьез! Может быть, и в самом деле есть в папуасской жизни такие изменения, которые мы и не заметили во время нашей короткой прогулки?
– Хотите побывать у нас на судне? – спрашивает капитан.
Оба расцветают улыбками:
– С удовольствием!
В гости на «Витязь» приглашены и четыре папуаса: двое из них, видимо, старейшины или какие-нибудь почетные местные лица – учитель их выбирал по нашей просьбе, – приглашен был, понятно, сам учитель и еще старик, дед которого был другом Маклая. Не удалось мне с этим стариком поговорить – опять же из-за недостатка времени. Может, на судне удастся?
Белые гости поднимались по трапу «Витязя» с любопытством. Особенно миссионер: он, священнослужитель, – и вдруг на борту «красного» корабля, в гостях у коммунистов, воинствующих безбожников! И для него, вышедшего только что из новогвинейских джунглей, «Витязь» – экзотика. Перед кают-компанией задержались у портрета адмирала Макарова, уважительно потрогали взглядами роскошную адмиральскую бороду, золотые погоны.
– Советский вождь?
– Нет, адмирал царского флота.
– Царского флота?!
Папуасы послушно следуют за нами по пятам. Лица, как и обычно, у них бесстрастные, неподвижные, вроде бы ничему не удивляются, но глаза мечутся, будто мошки, глаза реагируют на все яркое и необычное – на блеск зеркал в кают-компании, яркий свет плафонов под потолком, красную ковровую дорожку на трапе, и в глазах этих светится недоумение, даже тревога. Только учитель, в отличие от своих белых и темнокожих спутников, вроде бы не удивлялся ни портрету царского адмирала, ни зеркалам.
Я вспомнил описанное Миклухо-Маклаем посещение папуасами клипера «Изумруд», на котором ученый в декабре 1872 года покинул этот берег после пятнадцати месяцев, проведенных здесь. Маклай уговорил туземцев поплыть к клиперу, чтобы осмотреть его. Решились немногие, а отважилось взобраться на палубу всего несколько. Увидев на судне множество непонятных им предметов, они мертвой хваткой вцепились в своего защитника Маклая. Так и ходили по палубе, слушая объяснения, которые давал Маклай. На них произвели впечатление корабельная машина, зеркала, фортепьяно, но больше всего – два небольших бычка, взятых на судно в качестве живой провизии для команды. Таких животных папуасы не видывали еще ни разу и назвали их «большая русская свинья с зубами на голове».
Понятно, сейчас другие времена, потомки гостей клипера «Изумруд» живут уже не в каменном веке, и зеркало их не приводит в суеверный ужас. И все же папуасам явно не по себе. Вряд ли они когда-нибудь бывали на борту такого судна, как наше; возможно, даже издали не видели.
Гостей приглашают в салон. Миссионер и этнограф с удовольствием погружаются в мягкие кресла, они расслабились, разомлели, конечно, приятно снова оказаться в обстановке современного комфорта – прохладный кондиционированный воздух в просторной каюте, мягкий свет плафонов, покой. Должно быть, отвыкли от всего этого.
Наши гости-папуасы в разговоре не участвуют. Они скромно, даже с некоторым напряжением сидят на краешке дивана, и странно видеть их обнаженные темные, поблескивающие под светом плафонов мускулистые тела в этой роскошной каюте. Лица их по-прежнему серьезны, невозмутимы, даже порой кажутся суровыми, но стоит промелькнуть на лице улыбке, как сразу чувствуешь, сколько в этих людях искренности, простодушия, почти детской наивности. Я гляжу на них и испытываю к этим людям теплое чувство, почти отеческую нежность. Они все еще дети природы. Не вина их, а беда, что судьба поселила их на дальней, захолустной окраине мира, задержала для папуасов движение времени, из каменного века они едва выбрались. И сколько их наказывали за их безвинную отсталость и простодушие на протяжении веков: работорговцы, плантаторы, церковники. Сколько клеветы возвели на их немудреные курчавые головы: злы, коварны, кровожадны да еще людоеды. До сих пор некоторые белые на Новой Гвинее папуасов презрительно называют «оле», непереводимым оскорбительным словом, или «черными обезьянами». И прекрасен был подвиг нашего отважного соотечественника Миклухо-Маклая, который одним из самых первых стал на защиту этого несчастного народа, понял его, полюбил, нашел в нем замечательные человеческие достоинства.
Уже в сумерках покидал «Витязь» залив Астролябия. На Берег Маклая наползала ночь. Солнце давно ушло от этой суровой земли вечного лета. Солнце – на другом конце планеты, в наших родных широтах. Оно зажгло купола соборов в Московском Кремле, ярко высветило иглу Адмиралтейства над Невой, позолотило голые ветви замерзших деревьев над могилой Каарам Тамо.
Как же далек этот берег от земли, где похоронен Маклай! Но нам грустно с ним расставаться, с этим берегом, где топор называют по-русски, где из поколения в поколение передают легенды о человеке из России.







