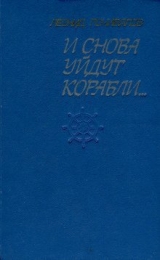
Текст книги "И снова уйдут корабли..."
Автор книги: Леонид Почивалов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Берлиц, судя по всему, был исполнен намерения продолжать свою весьма доходную Бермудиаду. Аксенов присоединяться к ней не желал.
– С меня хватит «тайн» Атлантиды! – говорил он мне с улыбкой. – Поэтому хотя бы от «бермудских тайн» избавьте. Нет их там! Нет!
– Поживем – увидим! – сказал я.
Известный английский писатель Гилберт Честертон однажды заметил: «Самое удивительное в тайнах то, что они существуют».
Вахтенный штурман обозначил на голубом поле карты крестик: «Вот теперь мы в нем в самом!» Я бросил взгляд за борт. Может быть, что-нибудь изменилось в океане? Нет! Океан все тот же – серо-голубой в легкой ряби волн. А мы уже в «нем самом»! Мы, если верить Берлицу, уже в зоне действия таинственных сил, и к их козням теперь надо быть готовым.
Один из последних номеров журнала «Вокруг света» на борту «Витязя» сейчас нарасхват. В нем опубликована статья американца Питера Мичелмора «Вахта в «Треугольнике дьявола». Кажется, это самая свежая публикация в печати по проблеме «Б. Т.». Автор провел немало дней на судне спасательной службы в «треугольнике» и в отличие от Берлица эту зону не туманит таинственностью, а повествует о личных впечатлениях. Считает, что мистики здесь нет никакой. Но не согласен и с Лоуренсом Куше, который, по его мнению, в критике мнимых тайн постарался свести все к обыденным пустякам. Мичелмор пишет, что он убедился в одном бесспорном факте: «странные вещи действительно случаются в Бермудском треугольнике». По его мнению, этот район таит немало серьезных естественных опасностей. Бурный Гольфстрим, неожиданные смерчи, резкие перепады глубин, внезапные гигантские волны-убийцы; водовороты, мощные нисходящие воздушные потоки, которые в течение секунд способны бросить реактивный лайнер на тысячи футов вниз…
Вот где нас ожидают ягодки! Я вспоминаю свой двенадцатилетней давности рейс на «Витязе»-третьем в просторы Тихого океана. Там тоже есть свой «треугольник» – Филиппинский – проклятое моряками место. Я читал, что он будто бы является повторением Бермудского. Только в Атлантике его называют «Дьявольским треугольником», а в Тихом – «Морем дьявола». Расположено оно между Японией, островом Гуам и северной частью Филиппинских островов. Здесь внезапно начинаются бури и мертвые зыби, которые поглотили немало жертв. Море это зовется «кладбищем» Тихого океана. За несколько дней до нашего появления в этом районе отправился на дно как раз на трассе «Витязя» большой японский сухогруз. А когда подошел к «треугольнику» «Витязь», мы неожиданно потеряли одного из наших товарищей, который погиб во время работ на борту судна. Как заключила комиссия, погиб по неосторожности, но эта неосторожность опытного моряка казалась необъяснимой, похожей на наваждение.
Стихия пока сильнее человека и часто берет над ним верх, особенно в таких дурных зонах, как эти самые «треугольники». Вот с такими мыслями и вошли мы в Бермудский. Он был тих и спокоен, плыли над ним неторопливые облака, вечерами солнце скромно угасало где-то возле недалеких от нас берегов Америки.
В один из таких вечеров наш синоптик Юрате Миколаюнене озабоченно сообщила: «Барометр быстро падает». Через два часа насторожила новым сообщением: «Барометр стремительно падает». Океан был почти спокоен, а столбик в барометре опускался все ниже и ниже, подходя к опасным пределам. Головы наливались свинцом. К судовому врачу потянулись за таблетками. Ни воя волн, ни свиста ветра в снастях, ни качки, а казалось, даже воздух пропитан непонятной тревогой. В этот вечер я не видел улыбок. Улыбаться не хотелось.
Утром радисты, обеспокоенные тем, что их начальник не выходит на вахту, зашли к нему в каюту и увидели, что Суворов беспомощно лежит на полу.
Юрате Миколаюнене в научном дневнике отметила, что 6 мая падение атмосферного давления было уникальным по своей скоротечности – стремительным, как горный обвал. Один из нас его не вынес – судовой врач определил у Суворова инсульт. Моряк нуждался в срочной госпитализации. Ближайшая земная твердь – Бермудские острова.
Острова обозначились в туманной дымке непогодного утра. Несколько голых скал, торчащих из волн. Вот он, гранитный венец этого дьявольского угла! Бросаем якорь на рейде. Берега так близко, что можешь невооруженным глазом рассмотреть лица бермудян. Как же они, бермудяне, живут на этом невеселом клочке суши, с которым связано столько мрачных рассказов? Но даже поверхностный взгляд на берег подтверждает, что живут не в унынии. Среди океанских волн вдруг оказался крошечный деловой мирок, с раннего утра охваченный жаждой деятельности. По шоссе, проложенному вдоль берега, торопливо мчались автомобили и автобусы. Неужели и здесь, на этих ничтожных квадратных метрах земной тверди, нужно куда-то торопиться? Оказывается, нужно! Бермудяне делают бизнес… на Бермудиаде. На вершинах холмов сверкают окнами отели. У причалов покачиваются мачты яхт, на кормах названия портов приписки: Киль, Марсель, Монреаль, Дувр… Крохотные суденышки преодолевают тысячи миль, чтобы с тщеславной гордостью приткнуться к этим берегам. Еще бы, добраться до столицы Бермудского треугольника! Кстати, именно яхтсмены, как правило, малоопытные в мореплавании, и составляют наибольшее число жертв этих неспокойных широт. Маленький архипелаг существует за счет туризма. Тысячи любопытствующих ежегодно посещают острова. Сувениры на магазинных полках имеют тенденцию к треугольным очертаниям, особенно ходовой товар – майки, на которых гордо провозглашается: «Я был в «Треугольнике дьявола»!» «Живой из Бермудской западни».
«Витязь» вошел в бухту одного из островов, стал на рейде, бросив якорь, к нам подскочил портовый катер с врачом, и вскоре мы расстались со своим товарищем. Отдавали мы нашего радиста в чужие руки.
«Витязь» продолжал свой путь к полигону. И чем дальше мы уходили в океан, тем становился он приветливей, ластился к борту судна легкой, мягкой волной, солнечно улыбался нам в иллюминаторы. Но ягодки были впереди.
В тот вечер мы засыпали в умиротворении – каюты покачивались, как люльки под осторожной рукой матери. Утром другого дня просыпались, истомленные ночными кошмарами. Почти от полного штиля к шестибалльному шторму! И всего за несколько часов! К ночи волнение достигло девяти баллов, а ветер одиннадцати. Тяжелый шторм! Вот они, «ягодки»!
В каютах выворачивало из гнезд холодильники, на камбузе билась посуда, на палубах завывал ветер, тошнота раздирала скулы. Как говорится в песне Высоцкого, на душе было «бермудно».
Шторм продолжался три дня. Синоптики разводили руками. Были приняты по радио две синоптические карты – одна из Европы, другая из Америки. Обе, созданные на основе множества наблюдений метеостанций, кораблей погоды, данных спутников, в один голос утверждают, что в настоящий момент «Витязь» находится в зоне стойкого антициклона, что у нас за бортом тишь да гладь. А на самом деле вокруг нас воет и дыбится океан. Откуда взялся этот незаконный, неучтенный, жестокий шторм? Может быть, как джинн из бутылки, вынырнул из глубин «треугольника»? Вспомнились слова Питера Мичелмора: «В Бермудском треугольнике все неприятности происходят вдруг». Мичелмор в своих заметках рассказывал о том, как американская моторная яхта «Тоу-Тоу» шла по спокойному морю, и вдруг, именно вдруг, поверхность вздыбили крутые волны, и вскоре гигантская, высотой с десятиэтажный дом, волна разломила яхту пополам.
Вот и сейчас шторм оказался «вдруг».
– Понятия не имею, почему? – удивляется наш бывалый синоптик Миколаюнене. Район здесь такой, в котором «почему» часто остается без ответа.
И вспоминает, что однажды летела над этим районом на пассажирском лайнере. Была превосходная погода. И вдруг самолет охватила мучительная дрожь. Чуть не «кувырнулись». Летчики потом сокрушались: «Откуда взялась здесь эта странная вибрация? Не поймем!»
Шторм прекратился тоже «вдруг», внезапно и разом, словно его выключили движением рубильника.
Шли в самый центр треугольного пространства. Теперь можно было ожидать главные козни. Именно здесь больше всего случается происшествий.
Некоторые ученые объясняют насыщенным судоходством. Но проходил день за днем, а мы не встречали ни одного суденышка. Лежала перед нами безжизненная водная пустыня. И было странно, что именно здесь находится обширная и глубокая впадина в водной плоскости океана – ее обнаружили спутники. Именно здесь внезапно рождаются гигантские волны-убийцы. Именно здесь присутствует странная магнитная аномалия…
Нам повезло. К «Витязю» не подкрадывались исподтишка коварные волны, не сторожили его неистовые смерчи, пересекал он водовороты, но они были такие огромные, что мы их не заметили. Но «козни» случились. Вот передо мной их свидетельство – факсимильная синоптическая карта, которую мы принимали по радио 20 мая. Она состоит из двух частей: самой карты с очертаниями восточного побережья Североамериканского континента, с округлыми линиями изобар и цифрами погодных данных и абсолютно черного, без всякого просвета поля, которое вдруг наползло на эту карту в те минуты, когда ее принимал аппарат. Складывалось впечатление, что на пути радиоволны, шедшей из Европы, вдруг встала непроницаемая свинцовая стена. Именно в момент приема карты судно находилось на широте верхней точки «Б. Т.», снова входя в его район.
Почти все дни пребывания в этой зоне наши радисты жаловались на то, что не слышат Европу, не могут связаться с Новороссийском, Москвой.
Конечно, никто не ожидал чудес, но на всякий случай к ним были готовы. Чудес не случилось, но каждый день пас что-то поражало. То уникальное явление – лежащая над самыми волнами, словно подрубленная в своих опорах, радуга. То островки плавучих водорослей – «саргасов», они характерны именно для этого района, то фантастическая игра красок в чистых как слеза волнах. Оказывается, тут еще одна редкая особенность – самая прозрачная в мире вода. И почему-то именно сюда со всего мира, преодолевая тысячи речных и морских миль, устремляются из озер и водоемов пресноводные угри, чтобы здесь, и только здесь, продолжить свой род. До сих пор не разгадана тайна их привязанности к этому месту.
Выходит, не такой уж заурядный этот пресловутый «треугольник».
…Мы входили в пролив Мона между островами Гаити и Пуэрто-Рико. На палубе кто-то весело объявил: «Ура! Мы спасены! «Треугольник» за кормой! Козни кончились!»
За проливом простиралось Карибское море. Утром другого дня приняли сводку погоды. Она предупреждает: в западной части Карибского моря зародился ураган. Скорость ветра – сорок пять метров в секунду. Где-то с ураганом можем встретиться и мы. Если бы стихия строила козни только в «Б. Т.»!
А ведь это действительно настоящая тайна природы тропический ураган! И до сих пор не разгаданная – ученым пока неведом механизм его возникновения и законы движения. От урагана «Витязю» удалось укрыться в бухте Гаваны. На кубинскую столицу обрушился потоп. По телевидению показывали разрушенные деревни, затопленные поля. Немало жертв, пропавших без вести, тысячи оставшихся без крова…
На анкету «ЛГ» мне все же ответили. И все без исключения. Подобно Титову, участники дискуссии в один голос заявили: чудес здесь нет, но… И, наверное, именно это «но» и побудило меня к написанию предложенных вам заметок. Все заполнявшие анкеты открещивались от всяких сомнительных сенсаций, от «инопланетян», от «подводных пирамид», от «смещений горизонтов времени» в «Б. Т.». И все сходились в одном: этот район всегда находится в поле зрения ученых. Ага! Значит, не такой уж заурядный «уголок». Десятки научных судов вдоль и поперек избороздили его. Вряд ли мог стать причиной такого повышенного и очень даже дорогостоящего интереса ученых всего лишь сенсационный бестселлер Берлина.
Отвечая на анкету, В. Б. Титов рассказывал мне о любопытных фактах. Бывали дни, когда суда, на которых он ходил в «Б. Т.», вообще теряли всякую радиосвязь с землей. Так случилось с «Академиком Вернадским». В порту его приписки, в Севастополе, даже возникла паника среди родственников: неделю нет связи с «Вернадским»! Поползли слухи: мол, судно нашли, но без команды, на борту был только сошедший с ума капитан. Кандидат географических наук Р. П. Булатов тоже бывал в «Б. Т.». «Чем объяснить нарушение радиосвязи? А тем, что здесь существует магнитная аномалия». Булатов раскрыл передо мной «Атлас океанов»: «Вот смотри, что обозначено на карте под номером 252(6)». Карта сообщила о максимуме изменения напряженности магнитного поля Земли именно здесь, в этом самом «треугольнике». А почему? «Неясно! – пожимает плечами Булатов. – Может быть, под океаном есть нечто такое, что и создает подобную аномалию. А она влияет и на радиосвязь, и на показания навигационных приборов морских и воздушных судов. Не в этом ли одна из причин катастроф?» Доктор наук В. А. Бурков особо отмечает, что в районе, где проходит Гольфстрим, образуются гигантские водяные вихри-водовороты, которые сродни циклонам и антициклонам в атмосфере. Капитан «Витязя» В. Н. Апехтин в анкете отмечает, что «Б. Т.» для мореплавания всегда представлял немалые трудности прежде всего потому, что здесь пролегают пути тропических циклонов, у которых неопределенные и неожиданные траектории движения. Участник нашей экспедиции ученый из ГДР, доктор наук Петер Дидрих написал: «Нельзя исключить, что в «Б. Т.» еще существуют «тайны», которые ждут своей разгадки». Заместитель директора Института океанологии АН Кубы доктор Родольфо Кларо, с которым я встречался в Гаване, на вопрос анкеты ответил:
– Сверхъестественного там нет, но есть серьезные отклонения от нормы, которые нужно еще изучать.
А. А. Аксенов, несмотря на неприятие Бермудиады, раздумывая над вопросами анкеты, заметил: «Много еще неясного… Много… Например, «голос» шторма… Вдруг рождается звук, который способен привести к массовому сумасшествию на судне. Вполне возможно открытие в океане самых неожиданных явлений, которые станут основанием для пересмотра или решительного изменения давно сложившихся фундаментальных представлений».
Так вот, «Витязь»-четвертый в своем первом дальнем рейсе был в Бермудском треугольнике. И после дней, проведенных там, у меня сложилось убеждение, что в «треугольнике» таятся тайны, как и в любом другом куске океана. Хорошо! Пускай не «тайны», а «еще непознанные явления природы». Как ни назови – они существуют. И нам их еще предстоит познать.
Пока люди не утратят способности удивляться и задавать вопросы, их неизменно ждет награда все новых и новых откровений.
А вдруг Атлантида?
– «Витязь»! Я «Аргус». К погружению готов! – Голос Виталия Булыги звучит спокойно, буднично, но мне чудится, что это спокойствие подчеркнуто особыми суровыми нотками. Человек, привыкший к выполнению нелегкого служебного долга, готов его выполнить снова.
– Погружение разрешаю! – хрипло отзывается динамик, упрятанный где-то в душноватой тьме кабины. Это уже голос такого ныне далекого от моей судьбы «Витязя». Моя судьба в эту минуту на границе двух великих сфер планеты, живущих по своим, непохожим друг на друга законам.
Я распластался на лежаке наблюдателя и прильнул к стеклу иллюминатора, как к огромной лупе. За ним струится голубоватый туман, пронзенный золотыми искорками, – он похож на утренний летний сон.
Погружение началось. Идем в пучину.
Сегодня утром, взглянув за борт, я огорчился: не повезло! Шторм. Не сильный, но захотят ли спустить «Аргус»? Начальство поколебалось и спуск все-таки разрешило. Судовой врач проверил давление: сойдет! И вот, вихляясь на волнах, бот мчит меня к торчащей из воды посадочной площадке «Аргуса» – сам аппарат почти полностью под водой. С бота надо прыгнуть в надувную лодку, а с нее уже на борт «Аргуса». И не промахнуться! Вблизи могут быть акулы.
Торопливо задраен надо мной люк – как бы не захлестнула волна, – меня заставляют втиснуться в узкое темное пространство кабины между рычагами, ручками, непонятными железяками, которые впиваются мне под ребра, лечь на дно кабины, откинуть затылок к спине, прижаться лбом к стеклу иллюминатора: смотри! В рейсе я не турист, «научный наблюдатель», и придется писать научный отчет об увиденном.
Рядом со мной лежит командир «Аргуса» Виталий Булыга, спокойный лобастый блондин со светлыми холодноватыми глазами. Но сейчас я его почти не вижу, лишь лоб Булыги озарен голубым: перед ним тоже иллюминатор. В верхнем отсеке в кресле у пульта приборов сидит Леонид Воронов, пилот «Аргуса». В свете приборов его шотландская борода кажется металлической.
– Справа под рукой противогаз, – напоминает Булыга.
Меня уже предупреждали: надо быть готовым ко всему, в подводных обитаемых аппаратах самое опасное – внезапная течь и внезапное загорание в электросистемах. Бывало и такое.
За стеклом иллюминатора в голубое все больше добавляется синьки – значит, глубина нарастает. Все тот же туман – хоть глаз выколи. И вдруг легкая тень с острыми углами промелькнула и растворилась, как призрак.
– Акула, – спокойно поясняет Булыга.
Спуск длится минутами, а чудится, проходят часы. Мне кажется, что я по-прежнему во сне, в котором нет сновидений.
Вдруг внизу еле приметно проступает нечто темное, принимает странные очертания, делится на цвета и их оттенки. Грунт!
Чудится, что это самолет пробился сквозь густые облака, и перед взором открылась необычная горная страна – невысокие, округлые в шкурке зарослей холмы, тихие, покрытые свежим, только что выпавшим снежком долины. За ближайшими хребтами в густеющем мраке угадывались другие, повыше. За ними чернела бездна.
Ощутимый толчок. Вспыхнуло внизу под лыжами «Аргуса» легкое «снежное» облачко – сели!
– «Витязь»! Я «Аргус». 10.48. Мы на грунте. Глубина 105 метров, – докладывает Булыга. – Приступаем к выполнению программы.
Для меня выполнять программу – глядеть в оба. За стеклом иллюминатора, которое кажется таким хрупким, иллюзорный аквариумный мир, в нем и время и движение существуют в непривычных для тебя измерениях. Сто пять метров! Сейчас на крышку люка, что над моей головой, океан давит с силой в восемнадцать тонн – не откроешь даже домкратом. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу, думаю о том, как мне повезло, я на дне! Триста пятое погружение «Аргуса» со дня его создания. Я в числе немногих, кому посчастливилось увидеть дно на такой глубине. А уж вершину подводной горы Ампер до меня видели лишь единицы.
По полям белого песка тянутся странно ровные длинные колеи, словно только что проехали сани. Булыга объясняет: это от течения, здесь сильное подводное течение. И опасное. В его силе нам вскоре довелось убедиться: при очередной посадке на грунт «Аргус» был брошен на скалу, содрогнулся, заскрипел, казалось, его яйцеобразное тело расколется, как скорлупа.
– В этом районе мы еще не бывали, – определяет Булыга. – Так что будем повнимательнее. А вдруг?
– Что «а вдруг»?
– А вдруг увидим такое! Мы же здесь с вами первые.
И он, и Воронов, как и все мы, мечтают именно о «таком».
Обычно на подобной глубине непроглядная тьма, но здесь, в океане, вода чиста, а тропическое солнце над Атлантикой бьет в ее поверхность, как прожектор. И сейчас кажется, что в долинку, куда мы опустились, только-только приходят сумерки, несут покой и мир. Поставить бы на этом песочке дом и жить в нем бездумно, и пускай проходят где-то там наверху, в надводье, годы и тысячелетия! Все вокруг зовет тебя к мудрой неторопливости. Будто специально для нас, поблескивая серебристыми боками, такие хрупкие, словно хрустальные, проплыли три тупоносых окуня. Медленно, без всякой угрозы шевелили иглами удивительно четкие на белом песке морские ежи. Недалеко от них распласталась большая пурпурная морская звезда, торжественно красивая, словно адмиральский орден, оброненный когда-то с проходившей над Ампером каравеллы.
– А вот осьминог! – толкает меня в бок Булыга.
Не сразу замечаю в темных зарослях водорослей это чудище. Прежде всего вижу осьминожьи глаза, выпуклые, поблескивающие, как крупные бусины, умные, всепонимающие. Бугристые, со светлыми ладошками кончики щупалец шевелятся, сгибаясь внутрь, словно зовут: иди сюда, здесь лучше!
В расщелине скалы показываются два остроносых светло-серых ската, чуть заметно шевеля широкими, как крылья, плавниками – не проплывают, а величественно пролетают мимо «Аргуса», будто дельтапланы. Вот из-за камня появляется чудище посерьезнее – выплывает нечто желто-пятнистое, напоминающее широкую ленту метра полтора в длину, изящным зигзагом проскальзывает перед иллюминатором. Узкая морда хорька со многими мелкими острыми зубами… Мурена! Морская рыба-змея, хищная, опасная и для людей. Но здесь и она кажется таким же мирным и естественным дополнением к картине всеобщего покоя, как и стайка коралловых рыбок, пестрыми лоскутиками пропорхнувшая над долинкой. Вот оно, океанское дно, в своей первозданности! Как там у Жуковского в его «Кубке»?
…И млат водяной,
и уродливый скат,
И ужас морей однозуб.
Но это все, так сказать, дополнительные детали к обстановке нашего рейса. У нас есть план, и надо его выполнять. Движется «Аргус» медленно, с опаской – кругом скалы, расщелины, трещины. То поднимется над очередным хребтом, то снизится в очередную долину. Во все свои три глаза – иллюминатора высматривает на дне главное. А главное – вот оно! Верить ли своим глазам? Под нами высотой метров в пять, толщиной в метр встает темная махина крепостной стены с явными следами кладки. В монолите соседней скалы вырублена комната со стенами почти правильных четырехугольных очертаний, посредине комнаты, подобно жертвенному камню, прямоугольный блок.
– Смотрите, очаг! – трогает меня за плечо Булыга.
На площадке, покрытой легкой шкуркой водорослей, лежат камни, сложенные таким образом, что образовывалась четко обозначенная окружность. И вправду на очаг похоже!
Проходим еще одну долину, и новая неожиданность: выглядывает из песка кусок камня, а на нем рельефно обозначены полукружья – одно к другому, словно колеса завязшего в песке вездехода. Кто это сделал? Человек? А может быть, это и есть она самая – Атлантида?
– Возьми повыше! – командует Булыга Воронову.
Решает командир перемахнуть еще один хребет и войти в новую, неведомую нам зону. Она поглубже предыдущих, и возвышаются над ней, как столбы, узкие скалы со срезанными верхушками.
Вдруг Булыга вплотную подается к иллюминатору. Под темными дугами бровей настороженно поблескивают глаза.
– Смотри! Вверх, вверх смотри!
В синевато-серой водяной толще повисла над нами коварной западней огромная паутина. Что такое? Не сразу и догадываюсь. Оказывается, рыболовная сеть. Видно, давно потерянная – зацепилась краями за вершины скал, широко распласталась над долинкой – словно давно нас поджидает.
– Драпать отсюда надо, Виталий! – слышу сверху голос Воронова: в его иллюминатор лучше, чем нам, видится величина нависшей над «Аргусом» опасности. Попади ненароком в эту сеть, можешь и не выпутаться. И выручить вряд ли кто сумеет. А Воронов и Булыга знают, что значит застрять на дне морском. Однажды два английских гидронавта Р. Чампен и Р. Маллинсон попали в аварию в Северном море. Они пробыли на дне 80 часов и спасены были чудом в тот час, когда уже закапчивался запас кислорода. Да и у Воронова с Булыгой случалось что-то похожее.
Пошел второй час. Минуем еще одну расщелину, еще одну долину. Ищем. Время истекает. Там, на борту «Витязя», другой наблюдатель, должно быть, извелся от нетерпения. Тоже жаждет на дно. Л мне так жаль расстаться с дном, со сказкой, которую можно увидеть лишь раз в жизни.
– «Витязь»! Я «Аргус». Программу завершил. Разрешите всплытие!
Боцман Виктор Пивень протягивает мне руку, чтобы помочь выбраться из бота, спрашивает:
– Ну как? Разглядел чудо?
Все ждут со дна сенсаций. Боцман тоже ждет. Уверен, что ждет их и начальник экспедиции Вячеслав Семенович Ястребов. Научный подвиг Генриха Шлимана, открывшего местонахождение легендарной Трои, по-прежнему вдохновляет ученых. Но профессор Ястребов далек от экзальтации. Он убежден: серьезному ученому пуще прочего надобно сторониться сенсаций, а стало быть, держать эмоции под уздцы. Профессор Ястребов эмоциям не поддается. «Ну, что видели? Рассказывайте!» Рассказываю. Как могу, по памяти рисую. А в ответ только: «М… да…» И непроницаемость в лице. Мы ушли в плавание не с целью поиска Атлантиды. В экспедиции даже археологов нет. Рейс геологический, геофизический. В Средиземном море и в Атлантике нам предстоит изучить несколько подводных гор. Но так случилось, что одним из наиболее геологически интересных объектов исследования в маршруте как раз подводная гора Ампер, находящаяся примерно в пятистах километрах от берегов Португалии.
Впервые я услышал о существовании этой горы пять лет назад. Наш «Витязь»-третий, предшественник нынешнего, заходил в Лиссабон. На борту была организована пресс-конференция – я о ней рассказывал в предыдущей главе. Начальник экспедиции профессор А. А. Аксенов подвергся атаке журналистов по неожиданной для него проблеме – Атлантиде. Речь шла о таинственном снимке, полученном подводной фотокамерой на горе Ампер и появившемся в печати. На снимке была изображена часть стены с очевидными следами кирпичной кладки. Свидетельство исчезнувшей цивилизации? Может быть, Атлантида? Ведь если верить Платону, легендарная Атлантида как раз и лежала за Геркулесовыми столбами – так древние греки называли Гибралтар.
Фотография привлекла ученых. И не только археологов. Вызвала интерес и у тех, кто изучает геологическую жизнь планеты. Ампер-гора, явно незаурядная, давно нуждалась в тщательном осмотре. Лежит как раз на границе, где под океаном на огромной глубине гигантская литосферная плита, на которой пристроилась Африка, подползает под плиту, приютившую Евразию. В последние годы были направлены в этот район советские научные суда «Академик Курчатов», «Витязь»-четвертый, небольшое поисковое судно «Рифт». Именно с «Рифта» был впервые спущен на Ампер отважный «Аргус». Во всех трех рейсах погода была скверная, серьезных исследований провести не удалось. По первый же спуск «Аргуса» на дно принес сенсацию. Гидронавты во главе с Виталием Булыгой в один голос сообщили: собственными глазами видели на дне развалины древнего города.
Первым об Атлантиде сообщил Платон, умерший в 348 году до нашей эры. В одном из трактатов он ссылается на архив своего прапрадеда, знаменитого афинского мудреца Солона. Однажды в Египте Солон узнал от жрецов, будто в океане за Геркулесовыми столбами располагалась земля, на которой существовала могущественная держава. Она сумела покорить многие европейские земли, вела войны с древнейшим доафинским городом-государством. Но в результате страшного землетрясения ушел под воду доафинский город и одновременно исчезла в пучине Атлантида.
Мудрец, живший около двух с половиной тысяч лет назад, оставил последующим поколениям жгучую загадку: была или не была Атлантида? Некоторые считали, что она – плод фантазии философа. Но шли века, а легенда не умерла. Больше того, обретала новых и новых сторонников. И не только среди фантастов. Среди ученых тоже. Да, были великие геологические катастрофы в прошлом, которые распространялись на обширные территории, подтверждают ученые. Да, уходили под воду огромные массивы суши. А почему бы на одном из таких массивов и не существовать Атлантиде? Мир звезд и планет мы изучили лучше, чем дно собственных морей и океанов.
Легенду берегут как дорогое достояние прошлого, потому что известно: в истории человечества у иных, вроде бы даже самых фантастических легенд в конечном счете источником была истина. «Не торопитесь отвергать странные идеи – они могут быть истинными!» – говорил кто-то из древних мудрецов. Отмахиваться от древних легенд и мифов, признавая их вздорными, значит обеднять самих себя. Ведь и от легенды о Трое отмахивались. Мы, люди, до сих пор многое о себе не ведаем, даже толком не знаем, как появился на свет род человеческий, не очень-то представляем и то, как вообще зародилась на планете сама жизнь.
Археология пока не в состоянии дать ответ на вопрос об Атлантиде. Может быть, геология и океанология смогут ответить? Начальник экспедиции профессор Ястребов убежден, что в океане нас ожидает нечто такое, что может существенно изменить некоторые теперешние фундаментальные научные положения. И не только в океане. Он, например, убежден, что нельзя отмахиваться и от пресловутых «летающих тарелок». Проще всего объявить, что они от лукавого. А может быть, от разума? Еще нам неведомого, нами не познанного?
Вот так же и с Атлантидой. Хотя шли мы в океан с целями иными – о ней, об Атлантиде, витязяне думали, встречу с Ампером ждали с нетерпением. А вдруг?! Настроение нетерпеливого ожидания помог в нас укрепить доктор наук Городницкий. Он входил в состав нашей экспедиции и слыл «спецом по Атлантиде». Его однажды вытащили на трибуну: «Расскажите, что и как, интересуется народ». После лекции боцман Пивень, неторопливый добродушный человек, сказал мне:
– А ведь это же здорово, если мы ее, матушку, все-таки отыщем! Тогда я буду считать себя самым везучим боцманом за последние две с половиной тысячи лет.
С погодой везло. Воспользовавшись этим, Ястребов решительно бросил на штурм Ампера наличные силы всех родов действия. На счету был каждый час – ведь погода в этом районе капризна. В тесном взаимодействии на полигоне работали два корабля науки – «Витязь» и все тот же маленький трудяга «Рифт». Вместе с нами в работе участвовали и болгарские океанологи. В истории океанологии еще не случалось столь массированной комплексной атаки науки на один и тот же подводный геологический объект. Ампер ощупывали эхолотами и магнитометрами, в него всаживали геологические трубки, его скребли драгами и черпаками, его, как под лупой, рассматривали специальной подводной теле– и фотокамерой. «Трехглазый» «Аргус» почти ежедневно спускался в пучину к неведомым горным грядам и с дотошностью детектива высматривал на дне каждую «подозрительную» деталь.
«Подозрительного» оказалось немало. Явно настороженные налетом сенсационности, которую заранее связала с Ампером международная пресса, наши ученые, залезая в люк «Аргуса», запаслись изрядной порцией скепсиса – будто предусмотрительно принимали дозу транквилизатора, приводящего взбудораженную обстановкой психику в норму. Некоторые возвращались пораженными. Да, действительно, видели стены со следами кладки. Видели обозначенные в скалах прямыми углами комнаты, видели арки, лестницы, ромбовидные, округлые и овальные фигуры, куполообразные возвышения. Даже арену цирка обнаружили.







