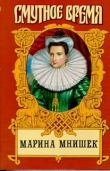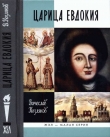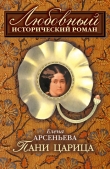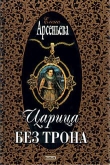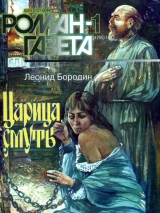
Текст книги "Царица смуты"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Девка млеет от счастья, все тянется к усам, телом молодым трепещет, и уже не сладости ей надобны, но услады тайные, коим обучен боярин. Да и чего там, самое время… Но в дверь одной головой всовывается мамка и, вытаращив глаза, шипит, что на дворе человек объявился не холопского звания, себя не называет, но требует разговору с боярином.
– Гони в шею! – велит Олуфьев.
Но мамка головой мотает, руками разводит, дескать, легко велеть «в шею», а как он по делу пришел, после боярин на ней же, безвинной, и гнев испытает…
– Ладно, – уступает Олуфьев, – веди незваного…
Девка огорчена, слезинки хрустальные на ресницах, припала к груди, пальчиками остренькими в рукав рубахи вцепилась, шепчет чего-то. Олуфьев гладит ее плечи, успокаивает…
В дверях громила косматый, бородатый, в рваной однорядке, на роже следы побоев свежих.
– Признаешь, боярин? – ревет жалостно и на колени – бах! Горнила аж всеми половицами содрогается.
Ну как же, такую рожу, раз увидев, позабудешь ли! Первый купец и, если по-заморскому, маркитант войска казацкого, бывший дворовый князя Масальского Акинфий Толубеев – кто ж еще! Плут и разбойник, сколько ему всего с рук сходило и сколько в руки его загребучие перепало по милости Заруцкого, того и жидам иным не снилось, и на тебе – рожа бита, как у холопа последнего.
– Разор, боярин! – ревет громила, сперва ладошами толстоперстыми, а после и лбом об пол. – Едино слово твое, надежа! Замолви царице, я же ей верой и правдой… на всякое повеление усердием… Что одежа царская, что каменья – все через меня…
– Не вопи! – грубо обрывает его Олуфьев. – Говори дело да рык свой звериный умерь, ишь как девку напугал, косматый!
– Полный разор, боярин. Казаки Заруцкого струги пограбили и отобрали и насады… Били нещадно… Людишек моих, кто воспротивился, плетьми да саблями, а пес Карамышев меня пистолем по рылу – и все то будто бы по указу Заруцкого… Насады и струги угнали…
– Угнали? Куда угнали? – Олуфьев чувствует, что трезвеет на каждом слове Акинфия.
– Знаю куда! В охорону за Теплый стан. Туда ж свои струги согнали, и Муртазы кызылбашевского лодьи там же. Сказывают, пожечь хотят, чтоб никто к Одоевскому не убег. Так нешто я побегу! Нешто я враг себе! А кто убечь задумает, все одно убежит… Встрянь, боярин! Худое то дело – лодьи жечь да своих зорить.
– Это ты прав, – бормочет озадаченно, – худо дело, совсем худо.
Тихо девку с колен своих спускает, шлепок ей в места мягкие, с чем та и убегает прочь, звеня монистом и заревываясь. Акинфий опять лбом об пол. Но Олуфьев больше не позволяет ему вопить.
– Дело худо, и спасибо, что известил о том. Только вот твоей-то беды не пойму. Струги да насады, что казаки угнали, разве ж твои?
– Помилуй, боярин, а чьи ж, как не мои? О том всем ведомо.
– Ай, врешь, холоп! Врешь! За струги не скажу, а насады по Волге ходили, когда ты еще у князя Масальского нахлебничал. Тереня Ус караван пограбил ниже Самары, купцов и людей торговых в воду покидал, а насады с добром к Заруцкому привел. Заруцкий их тебе отдал для пользы дела. Заруцкий дал, Заруцкий взял. А ты при чем?
Медленно поднимается с колен Акинфий Толубеев, на роже холопства нет, злоба одна, бурчит сквозь зубы:
– А служба, она не в учет…
– За службу ты пистолем по рылу получил, а не саблей по шее, и то ценить должен, потому как Васька Карамышев саблю в ножнах удержать может только по указу Ивана Мартыныча, и тому радуйся, а не вопи. Ступай-ка с Богом да отыщи себе нору поглубже, скоро большая охота будет, ни един след не затеряется – ни твой, ни мой… Ступай…
Какой думой живет холоп? Длина той думы один день? Тем и счастлив, что завтрашнего дня не прозревает? Холопское однодумье для властелина – простор для маневра, и в том тайна успеха. Но, однако ж, подобие Божие и в холопе. Однажды узрит день завтрашний, и тотчас поколеблется гармония и поколеблются замыслы властелина, праведные или неправедные. Опять же все по воле Божией и попущению Его, дерзает человек – Господь на дерзание не посягает, но попущает дерзать, а за дерзание человек получает кару или награду, но не Божию – не Господь же рано или поздно посадит на кол Акинфия Толубеева за воровство и измену, а Разбойный приказ. Так в чем воля Божия, как узреть ее смертному, хотя бы тому, чья дума не про один день?…
Олуфьев стоит у двери, трет виски, за дверью слышит шепот и всхлипы, но вот слышит и другое – голоса грубые, и мамки голос визгливый, и топот сапог в сенях. Дверь распахивается – вот уж диво: на пороге Тереня Ус и Валевский, атаман черкас. Ранее даже в ратном деле рядом не оказывались, а за одним столом тем более. В сенных сумерках лица атаманов черны, словно души обнажились и выявились в чертах. Из-за спины Олуфьева свет лампад и свечей падает на их лица, искажает тенями, как шрамами, – сущие упыри…
– Выйди для разговору, боярин, – басит Тереня угрюмо. Валевский тоже кивает головой, хмыкает и прикашливает.
– Чего ж выходить-то, – улыбчиво возражает Олуфьев, – гостям рад, медами не оскудел пока еще, чарка разговору не помеха. – И отступает на шаг в горницу с шутовским полупоклоном.
Но атаманы качают черными харями, мол, не до чарки. Ишь как приспичило собачьим чадам: чарке не рады и гостеприимству боярскому, коим никогда не славился у казаков, всегда стороной держался…
Ущербная луна уже зависла над астраханским кремлем, но светит по-воровски, то и дело скрадываясь в грязных зипунах, что волокутся по небу с моря в московскую сторону – они тоже спешат туда, рваные и растрепанные, словно там заштопают их и отчистят до обновы для чьей-то радости и похвальбы. Кремлевские башни, острием воткнувшись в небо, тщетно пытаются зацепить их, придержать или распороть на лоскутья в наказание за побег, зипунам терять нечего, к тому ж верховик попутный, а ночь по-весеннему коротка, да и башни, похоже, больше прикидываются стражами, им ведь еще стоять и стоять вековечно – это ль не забота, важней прочих…
Поеживаясь от вечерней прохлады, выходит Олуфьев вслед за атаманами во двор, через весь двор мимо покосившихся дверей, и подсаживается на __ деревянную скамейку, что у забора. Сидят, касаясь плечами друг друга, и это касание Олуфьеву не противно и не тягостно, только зябко, а горячие плечи казацкие даже будто и согревают. Сквозняк от Пречистенских ворот выдувает хмель из головы, голова легчает, но тут же тяжелеет думами, одна другой горше, и бормотание Терени принимает с радостью и облегчением.
– Прослышали мы, боярин, что ты нынче у царицы в опалу попал за то, что дурь Ивашкину не одобрил…
Ну и пес! Заруцкий ему уже Ивашка! А при разговоре ведь лишних глаз не было, зато уши были. Что-то больно длинны и чутки стали уши казачьи, знать, давно уже вострят ушами соподвижники донского атамана, да и чего там, все к одному!
– Знаешь ли, – бурчит Тереня, – что Заруцкий струги сгоняет к Теплому стану, даже на Муртазу плеть поднял, понимать надо, на перса рукой махнул, на Самару метит… Умом он повредился или царице угождает, ведь дурость и погибель! Мы на Самару, а Хохлов с Головиным нам в спину вдарят, Одоевский с Казани спустится в тридень, и бежать будет некуда!
– А сейчас что, есть куда бежать? – зло вклинивается Валевский.
Олуфьев ухмыляется про себя. Нет меж атаманами сговору, смятением да страхом едины лишь. Валевскому, конечно бы, одна дорога – на Сечь к Сагайдачному, только нешто полутыщей пробиться к Днепру? Вот когда б всеми силами… Эту сказку не раз уже слышал Олуфьев от казачков-черкас, ее и Заруцкий раскусил давно – ввязались бы где-нибудь на среднем Дону в сечу малым войском своим, в нужный час Валевский дал бы деру и, глядишь, успел бы добежать до Днепра, пока романовские стрельцы донцов Заруцкого до последнего вырубали. Не горазд умом краковский шляхтич, но понимает, что если не Сечь, то уж и не Самара, оттого и пристроился к Терене Усу, да только не долга будет сия дружба…
– На Яик надо уходить, боярин, – говорит Тереня, словно и не слыхал бурчания шляхетского, – один путь остался: скрытно уходить степью ногайской или морем. Казаки яицкие уже который год сами по себе, Москва до них не скоро доберется, отсидимся там, а другой весной – о том весть имею – Сечь на Москву пойдет, да и Сигизмунд с Романовым не смирится, быть делу новому, зиму лишь переждать.
– Не пойму, атаманы, – со смешком отвечает Олуфьев, – чем я-то вам угоден, слово мое ни царице, ни Заруцкому не в совет, до глаз более не допустят… По мне все едино – что на Яик, что на Самару.
– Пошто ж хоронишь, себя, боярин? – с укоризной говорит Тереня. – Не секрет, чай, что царице служишь, а не Заруцкому. Самара – погибель
царице, опять же Яик и остается, а там видно будет… Отвернуть надобно Заруцкого от Самары. Ведь на что его расчет? На Иштарека. Верно ль, что сорок тысяч сабель обещал он Заруцкому?
– Обещал, – подтверждает Олуфьев, – и сыновей в аманаты прислал, как уговорено было.
– То-то, то-то, – частит Тереня радостно, – только уговор сей весь на паутинке висит, на Арслане косоглазом. Смекаешь, боярин?
Еще бы! Заруцкий, заняв Астрахань, подарок получил от прежних властей московских. В подвале Пыточной башни обнаружил он злейшего врага Иштарека – мурзу Джана-Арслана Урусова, которого Москва задолго до того туда запрятала и тем заручилась поддержкой ногайской орды. Свобода Арслана – конец ханству Иштарека, и, когда тот артачиться вздумал да выгод искать для орды за счет слабости астраханской, Заруцкий освободил Арслана из заточения, обласкал, одарил подарками пустяшными, ко двору царице представил. Узнав о том, Иштарек враз покладистей стал, и кончилось дело к полному успеху Заруцкого, Арслана же снова загнали в подвал и стражу ужесточили. Из сорока тысяч ордынцев, обещанных Иштареком, Заруцкий половину отправил на Алатырь, но удачи в том не имел, орду побили и рассеяли. Иштарек снова вздыбился, сношения с Москвой заимел тайные. Еще раз козырнул Заруцкий соперником Иштарековым, и тот наконец смирился и привел на Ахтубу орду под руку Заруцкому.
Не мудрено догадаться, про что намеки Терени, атамана волжского: в чьих руках Арслан, в тех же руках и Иштарек, а без Иштарека ни Самары, ни Астрахани. Ход верный задуман…
– Все равно в толк не возьму, атаман, во мне-то отчего надобность возникла? Ну, умыкнешь ты Арслана, Заруцкого подомнешь, волю свою объявишь, а я зачем тебе?
– Да чтоб не встревал, вот зачем! – не выдерживает, вмешивается Валевский и ржет неуместно.
Тереня досадливо крякает, разворачивается к Олуфьеву, пытаясь в темноте рассмотреть, что в лице боярина. Да под луной сам лицом раскрывается – лукавство вперемесь со злобой на нем, знать, от великой нужды был голосом мягок.
– Заруцкий, окромя донцов своих, всем обрыдл, царица – другое дело, а ты сегодня в опале, а завтра, глядишь, в опеке. Не только Заруцкого, но и тебя послушает…
Готов уже Олуфьев развеять давнюю байку про его роль при царице, но вдруг от Пречистенских ворот шум великий и крики: «Здрада! Здрада!» Факелы мечутся от воеводских хором, и хряцк сабель, и брань татарская… Когда подбегают к митрополичьим покоям, уже весь кремль дыбится факелами и ором людским. В углу Житной башни кто-то с кем-то рубится яростно, но, только подбежав, Олуфьев вспоминает, что пусторук, а Тереня с Валевским уже вкипают в сечу вместе с подбегающими на помощь донцами. По крикам понимает наконец, что юртовские татары проникли обманом в кремль и пытались выкрасть все того же Арслана Урусова, и им надобен – больно стара вражда между татарами и ногайцами. Сапогом натыкается на саблю, хватает. Рукоять мокра кровью, – чем еще может быть мокра сабля татарская? – вклинивается в толчею, в свете мечущихся факелов высматривая шапку татарскую, но грудь на грудь сталкивается с Тереней.
– Охлонись, боярин, – радостно кричит Тереня, – опоздал! Перепились добрые донцы Заруцкого, татары втихую перекололи их и сделали б дело, когда б сам ногай косоглазый шум не поднял, ему юртовские пострашней Заруцкого. Сам Господь Бог за меня. Теперь, боярин, я своих казачков на охрану косоглазого поставлю, смекаешь?
Злой радостью перекошена рожа волжского атамана, страшней страшного он в отблесках факельных, но прав же, по сути: если время потянуть и от кары неизбежной похорониться день-другой – кроме Яика, нет пути… Брезгливо отшвыривает Олуфьев саблю, выщупав ногой мертвяка – казака ли, татарина, – на корточки опускается и руки оттирает о посконку. А Тереня, склонясь над ним, нашептывает в ухо:
– Завтра Курмаш-мурза улусом откочевывает в яицкую сторону, грамоту надо б казачкам на Яик писать, пожалования всякие посулить, Яик без корму уж который год, не подсобишь?
– Уволь, атаман. Грамоту от имени царицы писать будешь, так ведь? В том не помощник, но и помехой не буду.
И прочь в сторону дворов, не оглядываясь и не откликаясь на зов Теренин, мало ли чего он еще захочет. Олуфьеву же сейчас только постель и девку, более ничего не надобно, так, словно последняя ночь в его жизни и та истекает временем щедрей прежнего. Кремль все еще полон голосов, шуршаний, шорохов, летучие твари ночные проносятся над головой от башни до башни, факелы мечутся в беспорядке меж строений, а над всем и над всеми желтым глазом усеченная луна, словно от сабли казацкой пострадавшая, недобрая и неверная, то объявится, то скроется то ли с угрозой, то ли с опаской, о прочих землях забывшая, в кремль астраханский нацелилась тайным умыслом, каким, нехитро разгадать – на погибель…
«Что есть небо? – думает Олуфьев, подгоняемый сквозняком от Пречистенских ворот. – Обитель Божия, ангелов да святых? Сперва-то ведь пустота, до верхнего птичьего полета – все пустота. А дальше? Где и как начинается оно, другое, со звездами, солнцем да луной? И душа, к Господу отлетающая, велик ли, долог ли путь ее? Сперва, должно быть, возносится, всякая возносится, грешная и безгрешная, и вознесение радостно, а как иначе – во сне то испытано не раз и слезами оплакано. А потом, надо понимать, по суду Божьему за грехи низвержение, и тогда падать, падать…»
От книжников русских и заморских, особливо от латинян, много разного слышал Олуфьев, слышал, да не прислушивался, без надобности были мудрствования их тревожные, но вот сейчас многое отдал бы за правдивое слово о судьбе души человеческой, той, что в грехе, как в помете, вывалялась и очиститься не успела, так и отправилась ко Престолу… Страшны и мучительны думы сии, от них в молитве спасение, да только давно уже утеряно умение чистой молитвы, промеж святых слов червяками мысли недостойные извиваются и поганят и смердят, нету воли ко средоточению молитвенному, и тому еще смута виной, в державе единой грех людской праведниками отмаливается, а когда не един народ, всяк себе предоставлен – и немощно одиночное слово молитвенное, птицы поднебесной, может, и достигнет, но ушей Господних едва ли… Родственной молитвой тоже не подпереться боярину Олуфьеву, некому перед Господом за него слово замолвить. Родители на небесах, братья в холерную зиму ушли туда же, сестра, в худой род плещеевский замуж отданная, разрешиться не смогла, в муках отошла. Один!
На дворе словно пожар, вся дворня с факелами и кони оседланные топчутся у забора.
– А это зачем? – спрашивает Олуфьев гневливо.
– Так измену ж кричали! – оправдывается Тихон и шапку мнет в руках конфузливо. – Троицкие монахи ворота позапирали, а нам чего запирать-то, береженого Бог бережет…
– Дурак! Не за узду хвататься должон был, а саблю мне принесть и спину хоронить, как положено. Обабился тут… Ну ничего, скоро твоя масленица кончится. А ты… – это он мамке, что ахает и тихо причитает за спиной Тихона, – с завтрашнего дня более от царицыного двора даров не берешь, коли будут, – скорее не будут, – сами кормиться станем…
– Помилуй, батюшка, – с ужасом в голосе вопиет мамка, – да нешто мы прокормимся без царицы? Почем что, знаешь ли? Пшеница в Белом граде вчера уж была по десять алтын за пуд, а муку ржаную за двадцать как милостыню не выпросишь, а пшено…
– А порох? – обрывает ее Олуфьев.
– Что, батюшка; – лепечет растерянно мамка.
– Порох, спрашиваю, почем; Может, ты и про порох да свинец знаешь?
Мамка изгибает шею, всматривается в лицо Олуфьева – всерьез ли дознание, бормочет негромко.
– Сказывают, в Болде порох можно по полугривне за фунт взять, а свинец за четыре алтына…
Олуфьев хохочет до присядок.
– Ай да мамка! Тихон, сукин сын, ставлю тебя под руку мамке, а ты его чуть что – плетью по загривку, чтоб расторопничал! Ай да мамка! Нынче Заруцкий Акишку Толубеева от интенданции оставил вчистую, так что жди указу царицы: быть тебе на месте Акишки-прохиндея!
С хохотом идет Олуфьев в сени. А в горнице за порогом девка заплаканная, малевания бабьи по лицу размазаны, волосы растрепаны, рожа глупая – враз поостыл, но обижать не хочет, по плечу гладит.
– Ступай пока, после позову…
В горнице полусумрак, бережливая мамка загасила шандалы, и лишь в двух стенных подсвечниках горят восковые, страсть как дорогие, фигурные свечи да лампада под образами. Глянул на лик Христа и содрогнулся – такого еще не бывало… Обычно, с какого боку ни подойди, очи Сына Божьего непременно в ту же сторону разверсты, око в око, никуда от Его взгляда не упрятаться. Всегда так было, к чуду сему привык. И вдруг вот как – нет более внимания Сына Божьего к боярину Олуфьеву, хладен и невидящ зрак Христов, ни строгости, ни отцовства, словно сквозь глядит и видит более важное, более попечению достойное, чем ничтожный раб, от страха на колени павший, от страха же простую молитву произнести неспособный.
– …Да святится Имя Твое… не оставляй, Господи… да приидет Царствие Твое… нешто я грешней иных… хлеб насущный даждь… да чего там – хлеб… разве ж ради хлеба жил…
Не справляется молитва, стыдно боярину Олуфьеву за свой страх перед Господом, ведь воин же, а не баба плаксивая. Не достойнее ли спокойное ожидание участи, ведь если всевидящ, так и думы Ему все доподлинно известны, даже те, что слов не обретали… Поднимается с колен Олуфьев, своих глаз от глаз Господних не прячет и не шепчет, но говорит, как подобает говорить взрослому сыну с мудрым и справедливым отцом.
– Если то можно еще, не оставь, Господи!
3
Под окнами воеводских покоев зацвела сирень, посаженная еще воеводой Хворостининым в самый первый год его начальствования над градом Астраханью. Теперь это уже деревья – одно сплошное розовое облако цветения и удушливого дурмана, закрывай окна, не закрывай – дышать нечем, и пчелы обнаглевшие с мерзким жужжанием и невиданно огромные желтые шмели – сущий ужас для Марины. Терпеть более не намерена и велит накануне Страстной недели перенести постой в митрополичьи палаты, там заводит домовую церковь римского обряда, где первую литургию служит отец Николас Мело, а патеру Савицкому, к его радости, заявляет, что, дескать, не может далее противиться истине, что русинская ересь, не по чести православием именуемая, отвратна душе, что ныне только понимает она существо русинского коварства и злокозненности, единственно порчей веры объяснимые, что более ноги ее не будет в Троицком монастыре, и с сего дня – никакого попечения монастырю и его нахлебникам. Еще строжайше запрещает утренний звон по всем церквам астраханским. Патер Савицкий догадывается, что царица забыть не может утреннего набата московского, по которому мятеж начался против нее и царя Дмитрия. Он обрадован и испуган, как пастырь – обрадован, как соподвижник – испуган и раздосадован, что неделей раньше не воспользовался случаем, не ушел с бернардинцем Антонием и Иваном Фадеем из Астрахани в Персию, где якобы известны им доверительные ходы ко двору кызылбашевского хана – впрямую не отказался-таки хан от предложений Марины, отринутой Москвой царицы московской. Чего там! Бежал святой отец, всем то ясно, и Марине тоже. Однако ж напутствовала и содержание положила, и лишь глаза мертвы были…
Измена Хохлова и Головина – последняя капля… Остановилась жизнь, свернулась в клубок, воплем отчаяния застряла в горле, душит, но не удушает, повергает в сон разум и чувства, из коих лишь ненависть пробуждается раз от разу и горячит кровь, и тогда мутнеет в глазах и стираются очертания мира Божьего, во всем теле дрожь и маета, а на устах проклятья, проклятья… Тогда спешно призывает к себе сына-несмышленыша, ставит его под икону Божией Матери, на колени перед ним опускается, ручонки его белокожие хватает дрожащими руками своими, шепчет хрипло и невнятно:
– Матка Бозка! Глянь очами пресветлыми на дите! Тебе ль, милосердной, не понять муку мою! Не за себя молю, за него, безвинного. Отврати кару неправедную, образумь сердца, злой неправдой обуянные! Он, кровинушка моя, и за меня, грешницу, отмолит… и Тебе воздаст… Видишь же, не за себя, за его правду стою и стоять буду до часа смертного! Законный царь он земли русинской. Не дай же попрать закон! Тебе ль, страдалице, не знаема боль материнская…
Но тут вдруг горло вперехват, и нет слов более, хрип один, тогда отталкивает мальчонку от себя, плашмя на пол падает и, пугая сына, уже хныкающего и дрожащего, вопит голосом простолюдинки:
– Не слышишь! Не веришь!
И впрямь бестрепетен лик Божией Матери, грубым русином писанный, грязными русинскими устами опоганенный, ручищами холопскими захватанный, – нешто пробьешься… Но сразу же и покаяние страстное.
– Прости! Прости! Грешна! Не токмо ради сына – и ради себя, ведь и я же законная царица московская! Весь народ русинский, ныне закон поправший, он же и свидетель правоты моей. Не искал себе короны, бояре московские со всенародного одобрения возложили мне ее на голову. Нешто посмела о я самочинно? Ведь умоляли, колени и лбы об пол били, чтоб ехала в землю московскую…
Уже и не видит, что сын ее убежал, напуганный и заплаканный, а на устах – ни молитвы, ни покаяния, кривятся губы в проклятье зашептанном.
– Здрайдзи! Здрайдзи!
Перед глазами череда лиц, не лиц – теперь уж мерзких харь бояр московских, лукавцев, угодников, лизоблюдов, коим верила, однако ж, ради кого поступилась чистотой веры, в чьи руки жизнь и судьбу , свою отдала в наивности девичьей. И ведь не чуралась бородатой грубости ихней, какое там! Утомленная политесом Сигизмундова двора, очаровывалась прямотой слов и поступков, готова была жаловать и любить их как подданных престолу московскому, ее престолу, коль, вопреки обычаю, предложено было ей на равных делить царство с законным государем и супругом Дмитрием. Пятнадцать дней! Всего лишь пятнадцать дней была она во славе русской царицы, а после того восемь лет, почитай, день в день – восемь лет неслыханных мытарств по Московии… Да неужто зря? Да может ли такое быть, чтобы простая шляхтянка, вестимо, лишь Божьей волей избранная на великую долю, вдруг оказалась обойденной, оставленной Господней заботой, соринкой в зраке Божием. Не может того быть, коли имелся замысел Божий, чтоб кознями смертных и несправедливых разрушиться ему. Тогда в чем мудрость и сила Всевышнего? Ведь пустяк и тот не свершается мимо воли Его, а тут судьба царства – какая иная земная забота с тем сравниться может!
Неужто не Он, а другой – тот, искуситель и злодей, избрал ее, невинную, для своих черных дел?! Но Святая Церковь, благословившая заступление на стезю, разве ж могла ошибиться, обмануться? Ей ли, оку Господнему, не отличить Божьего замысла от сатанинского, и кому тогда вверяться душой и помыслом, на кого уповать?…
Нет! Нет! Не оставлена! Не забыта! Всего лишь более, чем когда-либо, неисповедим путь Господень. А то, что все зримое ныне против, что тьма обступила и не к чему воли приложить с пользой для дела, одно лишь может означать – полное доверие любви Господней. Ею, любовью, да чудом единственно разрешится загадка про судьбу Божьей избранницы Марины, урожденной Мнишек, супруги безвинно погубленного царя Дмитрия Рюрика. Главное сейчас – не вмешиваться. Другие – пусть. Не про них загадка. Отныне она – послушница и молчальница, и да свершится воля Отца Небесного!
Заруцкий чует неладное. Весь в суете глупой и пустой, и несподручно бегать ему от воеводских хором до митрополичьих покоев, но бегает, дивится на притихшую и – поди думает – затаившуюся Марину, голосом вдруг келеен стал: дескать, не занемогла ли, чай, – а потом за дверьми шепчется с Савицким, который теперь при Марине, что ни час, выпытывает, что-де приключилось с царицей, тиха не по нраву, к делам без интересу, людей до себя не допускает. Даже к Казановской подкатывается атаман, но та, как кобыла необъезженная, отбрыкивает его от себя и жалобу какую-нибудь тут же в рожу усатую: мол, рыбу в который раз несвежую доставляют, казачье пьяное под окнами буянит до полуночи, покою царице нет…
Мая третьего дня после обеденной трапезы потемнело стекло немецкое в окнах спальни, и сперва тишина неземная – а потом как загрохочет, как зарокочет глубина небесная, сотрясая твердь и все, что на ней, и тут, как в добрых землях положено, пасть бы ливню очистительному, изойтись ручьями журчащими да смыть грязь и пакость людскую, за зиму и раннюю весну скопившуюся, глядишь, и душам грешным очищение… Да не те законы и правила на краях света! Звякнула по стеклам горсть крупных капель – и все тебе. Зато там, над крышей, сущее неистовство сатанинское, разгулялись бесы большие и малые, рвут полотнища небесные в клочья и расшвыривают по краям горизонта, и не смей в окно пялиться, не смей глаз поднять, вмиг ослепит изломами стрела каленая.
Когда-то страшилась грозы Марина, содрогалась от громовых раскатов, съеживалась в комочек от всполохов ослепительных. Да только когда это было? В Самборе разве, в детстве да девичестве раннем, пока судьбы своей не знала – судьбы не знаешь, всякого случая боишься, без знания судьбы и жизни-то нет, одни случаи, и всякий роковым мнится. Оттого московские грозы – сколько их было за восемь лет – вовсе и не помнились, потому что баловство бесовское, и только; баловством тоже можно человека жизни лишить, нет ничего проще – лишить человека жизни, и какая разница – молния ли сожжет, конь ли затопчет – это все про людишек без судьбы, а таковых – что муравьев на белом свете.
Бесстрашию Марининому дивились люди неумные, да только не там страх искали. Уверовав в избранность свою для дел великих, все мелочные страхи утратила, один остался – Божьего отступничества боялась, ведь, даровав судьбу простой шляхтянке, нуждался Господь в подтверждении верности Своего решения, жаждал видеть волю Маринину соответственной призванию. Старалась! Но сомнения, а за ними и страх – каким заслоном душу от них убережешь? Оттого-то и являла храбрость обыденную людям и Богу, чтобы видели: верит в назначение, а случай – не про нее. Ныне более прежнего требуется веры и доверия мудрости Божией…
Но что же это происходит там, над крышей? Уже не по небесным твердям носятся бесы, но по крыше и по стенам, не к ней ли прорываются силы вражьи? И верно, в тресках громовых открывается Марине понимание языка бесов. «А так ли? – вопрошают злыдни. – Не отступился ли Всевышний от тебя? Как провериться, хватит ли духу покинуть убежище и явить себя случаю?…» И слепящая вспышка в окнах спальни, от которой стекла только что не плавятся, но мутнеют и коробятся… Или это слезы обиды застилают взор? Хватит ли духу? Хватит!
– Хватит! – кричит Марина. – Еще как хватит, отродья сатанинские!
Раскрывает настежь двери спальни и требует к себе челядь голосом зычным и властным. По лестнице, сбиваясь на ступеньках, спешит к ней покоевка Милица, и Казановская, пригибаясь от каждого громового раската, цепляясь за перила, карабкается, и царевича нянька, истерично крестясь, выкатывается из детской. Марина велит немедля подать ей летник, сапоги и кику серебряную, которую с тушинских времен не пользовала, принесенный летник червчатого атласа рвет и швыряет в лицо Милице, сребротканый надобен ей, чтоб с кикой смотрелся, еще надевает мантию-подволоку, тоже сребротканую. Затем, сойдя в прихожую, призывает пару усачей-донцов караульных и приказывает им сопроводить себя на прясло Житной башни. Издав вопль смертельно раненной лошади, Казановская грохается в ноги Марине, обхватывает сафьян лодыжек, умоляет пани царицу отступиться от дерзости, не искушать силы небесные гордым вызовом, сама-де готова забраться на башню и принять на себя гнев Господний…
– Замолчи, дура! – обрывает ее Марина грубо, отпихивает от себя Милицу, на руке повисшую, повторяет приказ ошеломленным донцам и, ударом ноги распахнув сенную дверь, первая ступает за порог.
Выйдя на крыльцо, тотчас же слепнет и глохнет. То ли возрадовались бесы, то ли, напротив, всполошились отвагой царицы, только все, что было припасено ими в поднебесье, обрушили разом на кремль астраханский, уже не пугаться и не дивиться, а, замерев, без сознания пасть, где стоишь. На донцов оглянулась – принесли в коленках усачи, шапки косматые на брови натянуты, рожи перекошены, пальцы рук побелели на рукоятках сабель. А вокруг сумрак, негаснущими молниями вспоротый, да грохот, словно тысяча больших нарядов открыли пальбу по оплоту царицы московской… И при этом ни дождя, ни ветра, одно слово – нечистое дело делается… Гордо идет Марина к Житной башне, лишь плечами вздрагивая на каждом раскате громовом. Но не по страху, душа в том не участвует, одна материя человечья – у ней свой страх имеется, и за него душа не ответчица.
У первой ступени на прясло велит донцам оставаться. В смущении лица казаков, рады ее приказу, но приказ атамана иной: ни шагу от царицы. Мужицкими умами хитрят, похоже, дескать, одно дело от людей охранять, другое – от промысла Божьего, на то приказу не было.
Не для женских ног каменные ступени клались. Что ни шаг, рукой о колено опирается Марина, благо, подол летника широк и ходу не препятствует. Вот и на прясле, а бесы словно тешатся, распоясались огнем и громом над Крымской башней, заманивают Марину. До Крымской не близко. Идет полуослепшая, почти на ощупь, громам и молниям доступная. Направо глянула – в кремле из всех домов людишки повыползали, жмутся к стенам и крыльцам, на нее, на царицу, дивятся, идущую по пряслу навстречу каленым стрелам, навстречу великому испытанию своей веры и Божьего попечения. На крыльце воеводских хором не Заруцкий ли? Молнии не позволяют вглядеться… Если он – не спешит, однако ж, атаман подставить богатырскую руку, знать, свою веру проверить хочет за счет нее, и все это быдло, что мокрыми крысами повыползало из домов и хором, им тоже очень даже ко времени испытание Маринино. Упади она сейчас, огнем небесным сраженная или хотя бы просто оглушенная громом, – вмиг тварями трусливыми обернутся даже наихрабрейшие… Верит, что нет среди них Олуфьева, этот к стенам не жался бы, уже шел бы о бок или на руках унес прочь…