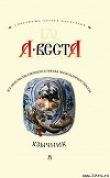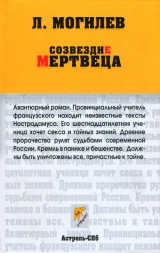
Текст книги "Созвездие мертвеца"
Автор книги: Леонид Могилев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Нормандия
По пыльной проселочной дороге, вдоль яблоневых садов и обширных травяных угодий я возвращался в городок. Это совсем небольшой городок, населенный пункт, как назвали бы его канувшие в лету начальники моей несуществующей страны и как называют, должно быть, и сейчас в оперативных документах, подготовленных для доблестной армии, на случай высадки русских войск в Нормандии. Должны же быть такие планы и карты? Иначе зачем едят хлеб в штабах отцы-командиры? Ведь будем же мы куда-нибудь высаживаться, в конце концов? Ведь есть у нас наступательная доктрина?
В ближайшем будущем вторжение русской армии в Нормандию мне не угрожало, хотя это решило бы многие проблемы. Надкусывая яблоки и выбрасывая их, если они казались недостаточно хороши, возвращался домой. А как прикажешь называть эту хижину? Другого дома у меня сейчас не было. В городке, где церковь, окруженная дряхлыми домишками, что расположились по обе стороны шоссе, я достиг полного покоя.
Холмы, холмы и почти никакого леса. Создатель решил, что леса здесь не нужны. Гораздо важнее ему показалось оделить эту местность садами и травяными угодьями – только это русское слово может объяснить роскошное травяное пиршество. Здесь пасется скот. Здесь вволю мяса, сыра, кальвадоса и сидра. Слова, которые я произносил мысленно два десятилетия, слова-скрепы, кирпичи смысла и мироздания, слова, наиважнейшие для понимания этой земли. И вот теперь в моем жилище стоит большая бутыль с сидром и поменьше – с кальвадосом. При одновременном употреблении человека непосвященного сочетание этих двух напитков валит с ног.
То, что я вижу, – совершеннейший из миражей. Убогие хаты под соломенными крышами, стены в трещинах, свежие глиняные швы. Впрочем, встречаются и современные коттеджи с гаражами и саунами. А в основном какой-то малоросский пейзаж. Только вот холмов избыток. Тиха нормандская ночь. Редкая птица долетит до середины… Страны нужно изучать вот так – ногами и желудком, и ни-ни по книгам.
Мое достоинство в знании языка. Акцент, поначалу принимаемый всеми за немецкий, со временем исчезнет. Я быстро ловлю диалект и интонационные ударения, плавные переливы речи и рубленые фразы.
Мой дом – брошенная ферма. Жилой дом, конюшня, сараи для сена и для яблок, пресс для выжимания яблочного сока. Мой персональный холм плавно спускается к реке. Рыбы я не ловлю. У меня есть сейчас более важные дела. Например, блуждания по пыльным дорогам, вдоль этих холмов.
На ферме есть колодец. Не такой, как у нас, рубленый, с петушком на навесе, с воротом. Дыра в земле и крышка. Но воду можно пить без опаски. Я не стал заводить коротких отношений с соседями. Только купля-продажа еды и кальвадоса, только вопросы о погоде. Да и характер жителей городка не располагает к общению.
Я художник, и нет никому никакого дела до моей мазни. Никакого сидения с соседями на кухне по вечерам, никаких романов с перезрелыми вдовушками. Тем более что я на ферме не один.
Я вернулся. Хранительница очага, однако, отлучилась. Нет ее. Должно быть, этот велосипед, доставшийся нам по случаю и приведший ее в такой восторг, сейчас перемещается вместе со своей хозяйкой где-то в окрестностях. Погода располагает к путешествиям.
Дверь закрыта на старый висячий замок. Ключ под порожком. То, что может быть здесь украдено, спрятано надежно. Я достаю ключ, вкладываю в замочную щель, поворачиваю два раза, снимаю замок. Можно войти.
В доме две комнаты. Сразу за дверью кухня, с очагом, сложенным лет сто назад – так что камни спеклись намертво, – с дубовым столом, с табуретками. Гордость этой кухни, ее центр – великолепный посудный шкаф, украшенный резьбой, покрытый лаком, с бронзовыми петлями и ручками. Это ясень. Полки внутри из яблони. Наверное, шкаф этот ровесник очага. Дом же не раз перестраивался, от пола до крыши. Так рассказывал мне хозяин.
Вторая комната – гостиная, спальня, мастерская, центр мироздания. Исторической кровати, на которой спали несколько поколений, нет. Ее вывезли в городскую квартиру. Вместо нее наскоро сколоченные полати. Матрасы, одеяла, подушки, простыни – все свежее. Я сбрасываю кроссовки, носки, рубашку и брюки. Для мытья здесь служат корыто, таз и кувшин. Я откатываюсь холодной водой. Пыль дорог и проселков, пот путешественника. Переодеваюсь в блузу.
Лежать вот так, поверх одеяла, на жесткой лежанке – совершенно упоительное занятие. Но я встаю и совершаю короткое путешествие в погреб. Он на кухне, возле стола. Здесь наши небольшие припасы. Окорок, сыр, сидр. Я нацеживаю кувшин этого лучшего напитка всех времен и народов, отрезаю изрядный кусок мяса, поднимаюсь наверх. Хлеб я принес с собой. Купил по пути в лавчонке.
Стоят длинные волшебные вечера. Примерно час я лежу отдыхая, затем встаю, раздвигаю занавески, из-за полатей достаю папку, беру чистый лист. Тюбики с гуашью ждут меня на столе…
Белое поле листа сочится дурманом. Я глажу рукой плотную дорогую бумагу – грешную плоть беспечальнейшей в мире юдоли. В тубах, полных, не использованных еще, таятся все мои восходы и закаты и, может быть, тот закат, что будет последним. И когда будет тот последний, то музыка его зазвучит высоко, так, что и подумать страшно.
Прежде я чистой влажной широкой кистью промываю бумагу, чтобы влага вошла в белую основу неглубоко, но основательно. Три краски главные. Я выдавливаю на палитру голубую, светло-желтую и красную. Затем начинаю составлять тот волшебный зеленовато-прозрачный, тот, которым верхние срезы холмов соприкасаются с небом. Когда мне кажется, что я попал в цвет, начинаю утяжелять его, насыщать и, когда четыре градации зеленого выстраиваются на палитре, беру ту самую главную кисть, с которой уже неделю не расстаюсь. То провожу ею по щеке, то рассматриваю, то постукиваю по ребру ладони.
Около восьми я в первый раз положил краску на лист, и следующие два часа пролетели, как будто их и не было. Я немного слукавил все же. Была у меня еще и умбра, и сажа, и белила были…
Подорожный ковер не жег подошвы, а деревья и травы, тронутые умброй, ожили. Холмы дышали воздухом этого вечера, и солнце скатывалось по краю дальнего. Я спешил – уходил свет – доделать этюд этот, по памяти, памяти не только сегодняшнего вечера, дня, но всех тех дней и вечеров, которые я прожил на этой земле, блуждая по окрестностям французской деревни, словно выпавшей из времени.
Подняв голову от листа, в оконном окоеме я увидел женщину возле колодца…
Ночь у булочника
Я познакомился с ним сегодня днем, а уже ночью отправился в гости.
– Все рушится. Они заставили все этими говняными супермаркетами. Этим дерьмом американским кормят людей. Когда-то у нас было несколько небольших магазинчиков. И Дюран и Дюпон разорились. Но я еще держусь. Я булочник. А без багета, извините, они не скоро обойдутся. Замороженная пицца – воплощение дерьма. Хлеб – это плоть Родины.
Я пил божоле и закусывал свежайшим белым хлебом, полчаса назад вынутым из печи. Теодор переоделся, но все не спешил покидать свою пекарню.
– Ты встаешь-то во сколько?
– Первым встает сын. Включает печь, готовит стол, проверяет замес. Он года два учился, прежде чем я его пустил в дело.
– А захочет он принять от тебя бизнес?
– Гастон-то? Пусть попробует. Вообще-то нация возвращается к земле. Все меньше молодежи интересуется деньгами, ценными бумагами, спекуляциями с недвижимостью. Вот посмотришь. Еще десять лет, может быть, даже пять-шесть, – и никакого супермаркета здесь не будет.
– А что будет?
– Будут три-четыре магазинчика и шикарный рынок. Там будет все. Давай еще выпьем.
– А во сколько твоему сыну нужно вставать?
– Где-то в половине четвертого. Печь мы будем до двух дня. Потом можно отдохнуть до пяти. И до семи вечера снова сюда.
– Но сейчас не семь вечера и не два ночи.
– У меня проблемы. Муку неудачную купил. Оплошал. Теперь вот кручусь.
– Но хлеб-то прекрасный.
– Это ты приукрашиваешь. Хлеб хуже, чем всегда. Но мог быть совершенно плохой.
– Ничего, если я еще посижу?
– Сиди, конечно. Нужно иногда расслабиться.
– Ты вообще-то пьющий?
– Не понимаю твоего вопроса…
– Виноват.
– Опять не понимаю. Откуда ты?
– Я из Польши. Преподаю язык.
– В каком городе?
– В Кракове.
– Я не был в Кракове. А кто ты по рождению?
– Дедушка из Нормандии, мать из Гаскони. Война. Родился вообще в СССР. Но потом родители оказались на оккупированной территории. На Север не вернулись.
– О! Как там зимой? Очень холодно?
– Я слабо помню. Помню, что в детстве носил валенки. Играл в снежки. Белоруссия не самое холодное место.
– Ты, значит, из России. Ты сибиряк.
– Нет. Это еще дальше.
– Раз ты сибиряк, выпьем водки. У меня есть анисовая. У меня тут все есть.
– Нельзя ли еще хлеба?
– Почему же нельзя? Ты и вправду не француз. Но говоришь здорово. Сейчас я принесу булочки с маком. И масло есть. Давай.
Теодор возвращается.
– У меня полтора выходных в неделю. И на пенсию я надеюсь уйти в пятьдесят пять. Домик уже купил. Ты любишь ловить рыбу?
– Давно этим не занимался.
– Я не могу не ловить.
– А сколько лет ты печешь хлеб?
– Шестнадцать.
– Ты настоящий мужик.
– Хочешь, научу тебя печь? Пойдем, сделаешь десяток булочек.
Мы уходим. Теодор показывает, как лепить булочки, как работает печь, как ставить. Я делаю с десяток, потом он отбирает у меня рабочее место.
– Ты посмотри. Они совершенно кособокие. Надо мной смеяться будут. Дай-ка я сделаю все снова. Пойди выпей водки.
Он возвращается через пять минут.
– Ты думаешь, для чего я это все делаю? Встаю в три часа, света белого не вижу?
– Для чего?
– А ты не догадываешься?
– Любишь это дело.
– Я людей люблю. Хлеб может быть совершенно разным. Не то что дерьмо из супермаркета. Хотя и они мне иногда делают заказы. А людям нужно одним поподжаристей, другим не очень пропеченный. Штучный заказ. Потом, пирожные. Этим занимается жена. Ореховый торт уже никому не нужен. А ведь недавно это была наша гордость. Но мы выкрутимся. Приезжай к нам через год. Приедешь? Давай еще выпьем. По-сибирски.
Мы допиваем бутылку как раз к трем часам, когда на смену приходит его сын, вместе с женой. Она уводит Теодора. Мне нужно возвращаться.
Инспектор полиции Андре Лемуан беседует с фермером Клодом Леви
– Так кто все-таки эти люди?
– Серж их привез. Серж Жюли, хозяин дома.
– Он сам тут живет?
– Нет. Его здесь не было года два, мы с Фернандой присматривали за домом. По-соседски. А Серж живет в Марселе. Работает в ателье.
– В каком?
– У художника. Он и сам художник.
– Это его работа?
– Дайте-ка сюда… Нет. Это не рука Сержа. И притом он, как это называется, ну, современная живопись, где ничего непонятно.
– Абстракционизм?
– Нет. Не то слово. Я забыл.
– Так это не его лист?
– Нет. Это пейзаж. Наши окрестности. Вот, я узнаю холмы. Видите? Церковь вдали. Хороший художник. Но не очень опытный.
– Почему вы так решили?
– Рука не очень верна, и нет какой-то целостности. Вы уж поверьте, я эти вещи чувствую. Ремесло есть ремесло. У Сержа как бы ничего не понять, но рука твердая, и настроение есть.
– Вам бы критические статьи писать.
– Да зачем? Пусть это делают те, кто в этом ничего не понимает. Иначе им не заработать на хлеб. Все это новое искусство выдумано теми, кто ленится или не может сделать настоящую вещь, а другие, кто и этого не может, втолковывают людям, что в этом что-то есть. Так вот они и кормят друг друга.
– А ваши-то дела как?
– Урожай был в том году неважный, а в этом будет еще хуже. Но голодать не придется.
– Так, давайте начнем сначала. Дом достался Сержу по наследству.
– Да. Жака мы похоронили четыре года назад. Он жил один восемь лет, Анна ушла раньше.
– А кроме Сержа был у них кто-нибудь?
– Нет. Только он.
– И что? Часто он их навещал?
– Нет… Как-то раз прожил здесь целое лето. Это когда у него были проблемы с Жаклин.
– А теперь?
– Теперь у них все нормально. Но она сюда не приезжала. У нее идиосинкразия на родителей Сержа. Так. К Рождеству. И то не всегда.
– Ну а эти люди? Кто они?
– Мы толком и не знаем. Серж привез их и сказал, что это его друзья. Из Лотарингии. Акцент и правда, тот еще.
– Они тоже художники?
– Нет. Просто знакомые. Мужчине лет сорок. Девочке лет семнадцать.
– Они родственники?
– Вначале мы думали, что это отец и дочь. Но потом…
– Интимные отношения?
– Да. Они особенно и не скрывались. Ну как, скажем, молодожены.
– И что они тут делали?
– Они ссорились.
– Ссорились?
– Да. И потом путешествовали по окрестностям. Он по своим местам, она по своим. Потом он ей купил велосипед, и она стала гонять на нем, как ребенок.
– Кто-нибудь с ними общался?
– Почти никто. Девочка по французски-то говорила плохо.
– Как плохо?
– То есть все правильно, но слишком. Как по учебнику. Она не француженка.
– А кто?
– Это, наверное, вам лучше знать.
– Ну какой у нее был акцент? Немецкий? Английский?
– Славянский.
– Почему вы так думаете?
– Я воевал. При высадке союзников оказался в Сопротивлении. Союзников остановили не немцы.
– А кто?
– Русские.
– Что вы, шутки со мной шутите?
– Война – хитрая штука. Про генерала Власова слыхали?
– Был такой.
– Так вот. Оборону на побережье держали власовцы. Немцы отошли. Они изначально должны были открыть фронт. Так было задумано. И вся война пошла бы по-другому. И русским бы пришлось решать большие проблемы.
– Это несколько меняет мои представления о войне.
– Поверьте старому человеку. Кто мог подумать, что эти пленные остановят американцев и едва не сбросят их в залив. Так бы и получилось, не вмешайся, как это теперь называется, мировое сообщество. Они все заодно. И тогда, и сейчас. Все против России.
– А вы не коммунист?
– Нет, что вы! Я просто фермер.
– И что? Вы тогда общались с русскими?
– Знаете, Андре, я и сейчас не стану рассказывать, при каких обстоятельствах это происходило. Я был в составе специальной группы. Но говорили русские именно с таким акцентом. Так вот эти два языка сливаются. И дают такой чудный акцент.
– А может, это сербский, словацкий? Может быть, она полька?
– Это вам лучше знать.
– А мужчина?
– Этот говорил классно. И знаете, день ото дня акцент исправлялся. Если бы это был диалект, такого бы не происходило. Он, наверное, какой-то специалист. Очень хорошо знает дело. Через месяц его будет не отличить от француза.
– Сколько времени они прожили здесь?
– Две недели.
– То есть они слонялись по окрестностям. А вина в кабачке выпить?
– Нет. У меня они купили и кальвадос, и сидр. Я говорил, что сидр не нужно переливать в бутыль. Лучше брать каждый день по кувшину. Но он меня не послушался. Окорок купили. А хлеб, зелень, сыр и всякую мелочь покупали в лавчонке Тобе.
– То есть жили они скромно.
– Скромней не бывает. Можете заглянуть в погреб. Там наверняка ничего лишнего.
– Уже побывал там. Скажите, а какие-нибудь признаки беспокойства у них были перед отъездом и вообще, как это произошло?
– А так и произошло. Накануне у них были гости. В их отсутствие. Искали что-то. Приехали на «мерседесе». Три человека. Потом убрались. Но гости Сержа, кажется, узнали про визит. То есть те трое из «мерседеса» ждали до полуночи, потом убрались. Поговорили с кем-то по телефону из машины и уехали.
– И что?
– А потом появился мужчина.
– Только он?
– Да. Только он.
– А как его звали?
– Никак.
– То есть?
– Они не назвали своих имен.
– А ваше спросили?
– Да.
– Значит, просто друзья Сержа?
– Да. Я думал, со дня на день мы познакомимся ближе. Посидим и поболтаем. Так бы и было, но не довелось.
– Расскажите, как он появился в последний раз и исчез.
– Он подошел с другой стороны. Не с той, с какой обычно. Из-за сараев. Видимо, чего-то опасался. Потом вошел в дом и очень быстро вышел.
– Что у него было в руках?
– Небольшая дорожная сумка.
– А девочка?
– Она, наверное, ждала где-то неподалеку.
– А как вошли те, из «мерседеса»?
– Взяли ключ под порожком, сняли замок и вошли.
– А вы почему не помешали?
– Знаете, господин инспектор, я старый человек и понимаю, когда нужно и можно вмешиваться, а когда этого совсем не нужно делать. Мне еще урожай нужно собрать.
– И с того дня больше никто не появлялся?
– Почему не появлялся? Снова был «мерседес». Потом они уехали. И все. То есть те из «мерседеса» их упустили.
– А Серж не появлялся после этого?
– Нет.
– А не угостите ли вашим сидром? Пить очень хочется.
– Прошу в дом.
– А этюд этот я возьму с собой, если не возражаете.
– Вообще-то это дом Сержа.
– Я потом верну все.
– Тогда нет проблем. Я думаю, Серж не будет в обиде. Манера у него совсем другая.
Поужинав в доме Клода Леви, инспектор отправился далее пешком. Он хотел эти шесть километров пройти и увидеть предмет ежедневных прогулок Игоря Михайловича Иванова и Ани Сойкиной, заявленных к розыску Интерполом. Холмы были прекрасны, и очертания их легки. Игорь Михайлович оказался для начинающего совсем неплохим художником.
Ла-Манш
Жизнь продолжалась. Наступило время отлива. Силуэт девчонки далеко, примерно в километре, жалкий и вопросительный. Она почти неразличима. Берег ровный и долгий, как будто не кончается. Морская трава и призрачный сор, выброшенный на берег, служат добычей детям, которые отыскивают в бурых пучках водорослей раковины и камушки. Их свора подобна львиной – они лохматы, и гривы их несутся вдоль кромки прибоя, то припадая к песку, то гордо поднимаясь в торжестве ликования. Они нашли что-то. Скорее всего, это раковины. Я наклонился и поднял одну, приложил к уху и услышал не равномерный шум, а скрип. Я слишком сильно сдавил раковину, и она вскрикнула от боли. Я продолжил свой опыт и попробовал раздавить ракушку, но она не хотела рассыпаться. Этот маленький мир в раковине не хотел раскрываться.
Я шел по кромке прибоя. Свежий ветер был слишком силен, и я укрыл лицо в воротнике, как какой-нибудь персонаж из пьесы. Были когда-то такие пьесы. Теперь так не пишут. Пришла мода на других героев. Но я все же вот такой, традиционный и консервативный герой из старой пьесы. Скрываю свои боли, холю их и лелею. Я взращиваю их. А веселые львы бегут по вселенскому пляжу. Жизнь продолжается, и, воплощенная в жалость, приближается то ли девочка, то ли женщина. Она, несомненно, замерзла на ветру, а значит, пришло время выпить.
Город этот расположен в устье Сены, именно в том месте, где она впадает в Ла-Манш. Своеобразие здешнего климата – внезапные дожди. Потоки воды появляются ниоткуда и исчезают в никуда. В порту всегда много яхт из разных стран, и потому столбы, мачты украшены флагами. Все прелести порта. Матросы, кабачки, широкие зонты. Неплохо бы было поселиться здесь и стать частью праздника. Но наш путь лежит к Монблану.
Автобус отходит от автостанции, и мы сразу засыпаем, несмотря на мокрую одежду и бурное веселье в салоне. Пьяная компания возвращается домой.
…Мы приближаемся к швейцарской границе. Нет больше холмов. Промелькнули поля, леса Бургундии. Это было после Лиона. В Лионе у нас пересадка. Автобуса приходится ждать три часа. Мы успеваем переодеться, даже принять душ. Небольшая комната в мотеле на три часа стоит недорого. Пока девчонка моется, я смотрю телевизор. Про нас ни слова, и это хорошо. Но если начнется настоящий поиск, то вот так уже не отдохнешь, да и на дорогу не выйдешь. Придется искать нору.
Среди полей, наплывающих гор, чернеющих внизу ущелий, на обочине серого полотна автострады вдруг возникла бензозаправка, раскрашенная в красный, голубой, желтый. Вся в плакатах и рекламе. Остановка короткая, всего пять минут, и мы остаемся в креслах.
Город такой же низенький, приземистый, как и десяток городов, через которые мы проехали сегодня. Мы единственные пассажиры, осилившие весь маршрут. Здесь все не так, как в Нормандии. Это рабочий городок. Рядом заводы Пежо. Единственная достопримечательность – кажется, церковь. Современная, протестантская. Двухколонный портик, две широкие входные двери, и над ними мозаика. Слева от главного фасада ротонда. Мы еще насмотримся на нее.
…Комната наша большая и светлая. Даже низкий потолок не крадет этот свет. Широкая кровать, холодильник, неизбежный телевизор, душ за полупрозрачной дверью. Мы с Аней по-прежнему не разговариваем. Она молча уходит в душ, потом я. Потом мы ужинаем внизу, в баре, и уходим в город.
Я начал новый этюд утром. Влажной кистью прошелся по листу, подождал, пока влага проникнет в его поры.
Я закрыл глаза. Голубое небо, золотое солнце, красноватая охра каменистой земли. Хвоя южных сосен отливает серебром. На ветках длинные мягкие иглы. Совсем рядом растут оливы. На горизонте – горные кряжи. Душистые травы, гарь лесных пожаров, оливковое масло на горячей сковороде и горячая сухая пыль. Я должен все это написать. Юг этот, мимолетный, как и все наше путешествие, которое, кажется, скоро должно закончиться, вошел в мое сердце и остался в нем.
Я начинаю с земли. Вот эта охра – то, что нужно. Добавим немного желтого. Самую малость…
Я писал до самого обеда. Она неслышно вошла в комнату, встала за моей спиной.
Это Север. Там, за проливом, Англия. Можно продолжить этот побег, продлить агонию. Но мне гораздо милее умереть здесь. Можно в Бретани, можно в Нормандии. Или в Артуа. Во Фландрии. Только здесь, на Севере. Это небо, совершенно перламутровое, эти облака, проносящиеся, подобно экспрессу, и сеющие дождь. Вот они есть, а вот их нет. И опять солнце. Воды Атлантики – совершеннейший свинец. Тот, что войдет мне под лопатку, в бедро, а потом в уже беспомощный и беззащитный затылок. А пока сырой прохладный ветер тянется со свинцовых вод Атлантики.
Должно быть, по утрам на пастбища, разделенные колючей проволокой, приходят туманы. Туманы над пастбищами и яблоневыми садами. Если двигаться в направлении Родины, на Восток, то за Па-де-Кале начнутся бесконечные картофельные поля, а потом шахты. Постепенно исчезнут виноградники. Там Восток. Северо-восток. Там ледяные замки, не чета песочным, там Северные правители. Там паленая водка и рекомендации Международного валютного фонда. Медведь. Славянский народ. Так именовал Мишель Нострадамус несчастную землю. Великое войско собрано Молодым человеком. Он отдаст себя в руки врагов. Однако Старец, сын половины свиньи, сделает друзьями Шалон и Маскон, то бишь Москву. Так вот старик Завалишин трактовал Мишеля. Только это когда еще будет. Прежде арабы придут в Европу, потом китайцы двинут через Урал. Это потом полсвиньи и Маскон. А пока сиди на берегу Ла-Манша и медитируй.
Что плохо на Севере? Не на том, настоящем, а на этом, относительном. Пикандрия или Фландрия. Чем дальше на север, тем меньше кафе. Как на Юге, где ярко-красные огромные абажуры, где столики на улице. На этом Севере предпочитают скрываться от непогоды дома и надираться кальвадосом втихую. Тяжелая мебель, которой заставлены жилища. Камины и жаровни. Сыр понэвек или бри. Камамбер так себе.
Я поднимаюсь и иду к рынку. Здесь у фонтана самодостаточные мужчины играют в петак. Катают шары. Я могу часами следить за их игрой. Шары тяжелые, от частого употребления блестящие, будто кто-то начистил их. Поверхность неровная, в мелких выбоинах. Это сталь такая мягкая. Как сыр. Там, на настоящем Севере, плавят настоящую сталь.
Я покупаю длинный багет, паштет, литровую бутыль легкого красного винца и иду в отель. Девчонка, должно быть, там. С багетом под мышкой и в чистой майке с эмблемой футбольного клуба из одноименного города Брест, в легких туфлях и вельветовых брюках я неотличим от француза. А значит, расчетлив и черств, мелочно себялюбив, вздорно тщеславен, высокопарен и неискренен. Я шовинист и мещанин. Я корыстолюбив. Я совершеннейшая свинья. Такую ориентировку дал мне мой марсельский друг Серж Жюли, то бишь Жилин. Они вдобавок и тезки, Жилин и Желнин. Хорошая компания. Еще Аня Сойкина.
Вот она, кумир души моей. Смотрит телевизор. Едва мне кивает. Я кладу покупки на стол и иду в душ. Когда возвращаюсь, обнаруживаю хлеб нарезанным на тонкие кружки, паштет намазанным, вино открытым и разлитым в два стакана.