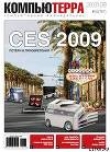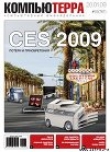Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
С Болховитиновым у нас установились хорошие отношения. Почвой для них послужило то, что мы первыми опубликовали стихи молодых поэтов, погибших на фронте, – Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Николая Майорова, Всеволода Багрицкого, Николая Отрады (почти никто из них ничего при жизни не напечатал), с предисловием Павла Антокольского, – открыв их читателям и проложив путь для последующих публикаций, коллективных сборников, индивидуальных книг и т. д. Болховитинов когда-то сам писал стихи, а до войны, когда учился на физическом факультете Московского университета, в университетской многотиражке вел отдел литературы. Со многими поэтами фронтового поколения он был знаком, а с Николаем Майоровым, кажется, даже дружил. К нашей затее – а как ни странно, даже тогда это было не просто, вызывало глухое сопротивление, наверное, потому, что многое меняло в утвердившейся картине предвоенной духовной жизни, – он отнесся с большим энтузиазмом, и с тех пор, когда на редколлегии возникало противодействие каким-то острым нашим материалам, неизменно был на нашей стороне. Но вообще держался он в газете несколько на отшибе, на своем научном «хуторе», не очень вникая в общую жизнь редакции…
У Георгия Радова, сменившего Рябчикова в отделе внутренней жизни и поворачивавшего этот отдел к реальным и острым проблемам современной действительности, было прямо противоположное стремление. Он активно участвовал во всем, что происходило в газете, ввязывался в дела, его отдела не касавшиеся. И все бы хорошо, – такие люди в редакции очень нужны, они взрывают рутину, – если бы не уверенность Радова, что он лучше всех знает жизнь. Он решил, что у него есть право наставлять на путь истинный нас, как он полагал, плохо знающих действительность, погрязших во внутрилитературных проблемах и распрях. Я вовсе не хочу сказать, что мы были безгрешны. Но Радов в своих поучениях часто путал публицистику с художественной литературой, его претензии и советы нередко носили вульгарный (конечно, не в бытовом, а в литературоведческом смысле) характер.
Несколько раз по конкретным поводам мы с Радовым схватывались на планерках и летучках с переменным успехом – верх бывал то за ним, то за мной. За этим неизменно стоял все тот же конфликт, все та же проблема. Как-то схлестнулись по поводу заявленного нашим отделом в номер стихотворения Коржавина. После той злополучной реплики «Комсомолки» нам все-таки удалось напечатать еще одно его стихотворение – «Парад ветеранов в Кёльне» – антинацистское, антимилитаристское, номер был посвящен войне, Победе, оно и прошло, морщились, но не возражали. Однако настороженное отношение к его стихам сохранялось. Предложенное нами стихотворение – оно называлось «Наука или утопия?» и обличало обесчеловечивание, попрание личности при помощи обожествляемой новейшей техники – на планерке встретили в штыки.
Первым выступил Радов. Он начал с попреков: отдел литературы из справедливой критики его за оторванность от жизни не делает никаких выводов, молодые сотрудники отдела, предлагая это стихотворение Коржавина, снова подставляют газету под удар. Мыслимо ли сейчас, когда надо всячески форсировать развитие науки и техники в тех областях, которые при Сталине были в загоне, подверглись опустошительному разгрому, выступать со стихами, подрывающими доверие к научному и техническому прогрессу? Да и стихи очень слабые. В таком духе он говорил довольно долго, всячески уязвляя нас за то, что за деревьями литературы мы не видим леса жизни.
Радова дружно поддержали все, вслед за ним повторяли: незнание жизни, слабые стихи, никто не вступился за коржавинское стихотворение. Это единодушие больше всего разозлило меня – я не стал защищаться, а сразу перешел в контратаку. Я сказал, что о качестве стихов вообще говорить не буду, выбив сразу у противников один из главных их аргументов,– конечно, не блеск, но стихи как стихи, на уровне (за этот тактический ход Коржавин на меня обиделся, начал мне выговаривать, но Рассадин и Сарнов на него прикрикнули, втолковав, в чем дело, и он успокоился). Меня волнует другое: само наше обсуждение вызывает у меня большую тревогу. И тревожит меня не судьба стихотворения Коржавина, которое, нет никаких сомнений, с колес напечатает любое из конкурирующих с нами изданий, а то, что участники планерки, люди, практически определяющие содержание газеты, как выяснилось, понятия не имеют о том, что сегодня происходит в нашей духовной жизни, какие идут процессы, какие кипят баталии. Знают ли они что-нибудь о распространившихся в последнее время агрессивных технократических концепциях? Слышал ли кто-нибудь – не читал, а хотя бы слышал – о книге Полетаева «Сигнал», технократический пафос которой вызвал бурные споры в среде научной и технической интеллигенции? Чем объяснить появление в нашей газете статьи Корнелия Зелинского «Научная революция и литература», в которой весьма сомнительные идеи этой книги выдаются за глубокие и смелые обобщения, почему эту статью предварительно не показали нам? Как могли журналисты, постоянно похваляющиеся тем, что держат руку на пульсе жизни, пропустить, не заметить в «Комсомольской правде» статью Эренбурга, защищающего гуманистические ценности от технократического нигилизма, и полемический отклик на эту статью автора книги «Сигнал», в которой он предлагает сбросить культуру, искусство, гуманизм с корабля современности? Неужели в нашей редакции другие газеты читают только тогда, когда в них критикуют отдел литературы?
Я, разумеется, здесь передаю лишь суть своей речи. Говорил я не только горячо и резко, но, видимо, и достаточно убедительно (примеров конкретных было больше, не все я сейчас помню), потому что противники мои смешались, никто не стал со мной спорить. Косолапов, который вел планерку, смущенно заметил: «Да, надо признать, что мы оказались не в курсе дела, прохлопали серьезное явление». Я понял, что моя речь произвела на него впечатление. Он предложил: «Нельзя отделываться от такого серьезного явления стихами, надо подготовить большую проблемную статью. А потом вслед за ней напечатать стихи». Это меня, конечно, не устраивало, победа оборачивалась поражением. Я сказал, что так мы можем оказаться в хвосте событий, надо хотя бы стихами застолбить проблему, они не помеха будущей статье. Косолапов не стал настаивать на своем. Договорились, что стихотворение Коржавина остается в номере, мы снабдим его более или менее развернутым врезом, составленным, так сказать, по мотивам моего выступления, а автор стихов сочинит оптимистическую концовку, смысл которой в том, что технократическим утопиям не дано осуществиться.
Что и было сделано – очень быстро, за час-другой, чтобы не было оснований для жалоб, что мы задержали номер, соорудили от имени автора врез, а он под нашим давлением нехотя написал наспех требуемую концовку:
Нет!
Довольно!
Так не будет, знаю…
И не надо принижать людей.
Самоценна только жизнь живая,
Мертвая природа служит ей.
Забывать про это – нет причины.
Что ни говори, а все равно
Нам дано придумывать машины,
Быть людьми машинам не дано.
Потом, когда мы, Рассадин, Сарнов и я, писали пародию на стихи Коржавина, из чистого хулиганства обыграли в ней эту неуклюжую концовку, Наум надулся на нас и бурчал: «Сами заставили меня дописать никому не нужную концовку, а теперь устроили из этого потеху, меня дураком выставили».
После планерки, еще не остыв, я один на один объяснился с Радовым, выложив ему все, что думал о его попреках и наставлениях, которые – пусть задумается над этим – перекликаются с поликарповскими руководящими выволочками и внушениями, от которых мы уже дышать не можем. В запале, каюсь, я использовал аргумент, который и тогда считал и нынче считаю некорректным. «Слушай, Жора,– сказал я ему, у нас были добрые отношения и разговор в таком тоне был вполне допустим,– смени пластинку. Я на фронте узнал о жизни то, что тебе в твоем обкоме и областной газете не снилось. Запомни это». Он запомнил – не обиделся…
Должен сознаться, что к его знаниям деревенской жизни, которые и тогда и потом оценивались в критике очень высоко, я относился с немалой долей скепсиса. Мне они казались односторонними, основанными по преимуществу на общении с «председательским корпусом», об этой близости Георгий очень любил напоминать. Вольно или невольно выражая взгляды, в лучшем случае ограниченные, а часто и вовсе предвзятые, этих профессиональных «погоняльщиков» нерадивых колхозников, Радов обличал частнособственнические настроения деревенских жителей, их пагубную привязанность к своему приусадебному участку. На этом мы тоже не раз сталкивались…
Третий съезд писателей
Итак, высшее командование газеты было сформировано еще до Третьего съезда писателей, который состоялся в мае 1959 года. Оставался, однако, большой некомплект рядовых, тех, кого на суконном армейском языке на фронте называли «активными штыками», а в телефонных переговорах на передовой – «спичками»: «Подсыпьте «спичек», со «спичками» полный зарез». Комнаты шестого этажа были пусты, работать некому. И как на фронте после тяжелых боев, когда в обескровленные части, которым все-таки приказано наступать, гребут всех подряд из тылов и вспомогательных служб, в газете сколотили бригаду для освещения Третьего съезда писателей – из сотрудников других отделов, из собкоров, вызванных из республик и областей. Меня назначили бригадиром.
Съезд должен был торжественно открываться в Кремле, а затем перекочевать в Колонный зал Дома союзов – работать там. Но все пошло наперекосяк. Говорили, что Хрущев предложил остаться в Кремле, не перебираться в Колонный – может быть, потому, что ему предстояло выступать на съезде. Узнали мы об этом в последний момент, в конце дня – и в завтрашнем номере газеты на первой полосе дали специальное сообщение «О работе Третьего съезда писателей СССР», в котором говорилось: «Заседания Третьего съезда писателей СССР 19 мая и в последующие дни проводятся в Зале заседаний Большого Кремлевского дворца». Уже были напечатаны и розданы делегатские удостоверения и пригласительные билеты – заменить их не успевали. У нас, у «литгазетовской» бригады, в Кремле не оказалось ни помещения для работы, как в Колонном, ни пропусков в комнату президиума. Редактировать и визировать выступления – дело не бог весть какое сложное, но в таких условиях довольно муторное. Все становится проблемой: негде вычитывать и править речи, непросто добывать стенограммы, трудно добираться до выступавших, большая часть которых сидит в президиуме, куда нам хода нет.
Внутренняя кремлевская охрана, бравые молодые люди в штатском, была поначалу шокирована недисциплинированностью писательской публики – во время заседаний входят и выходят из зала, в фойе множество праздношатающихся, оживленно болтающих – такого в этих стенах прежде никогда не бывало. Из их попыток как-то укротить эту писательскую вольницу ничего не выходит, хотя они люди умелые и вышколенные. О чем свидетельствует такой эпизод. На третий или четвертый день съезда, во время той небольшой паузы, когда один оратор уже покинул трибуну, а другой к ней направляется, ко мне подошел один из этих высоких плечистых молодых людей – я сидел с краю, чтобы легче выходить, – и, наклонившись, тихо сказал: «Вас просили позвонить в газету». Как он меня вычислил и отыскал, ума не приложу, но факт остается фактом – отыскал. Наверное, я все-таки как-то примелькался – мне единственному, хоть и не сразу, но все же выдали пропуск в комнату президиума.
Да, в фойе многолюдно и шумно, то там, то здесь вспыхивают споры, слышен смех. Зато на трибуне тишь, гладь и божья благодать, все чинно, выверено, процежено. Поликарповская контора славно поработала, обеспечивая порядок и идеологическую стерильность. Скучно. По-настоящему острых и интересных выступлений совсем мало, на Втором съезде их было больше. Гораздо больше.
И все-таки все занимающиеся в газете освещением съезда в зачумленном состоянии, я неделю почти не спал – днем на съезде, потом до глубокой ночи, а пару раз, когда газета сильно опаздывала, и до утра в редакции. В одну из таких бессонных ночей произошло в редакции смешное происшествие, которое впрочем, в тот момент не очень веселило...
Перед съездом Смирнов собрал нашу бригаду и секретариат: что можно сделать, чтобы съездовские материалы не выглядели на полосе уныло. Но чем и как оживить стенографический отчет, что тут придумаешь? Предложили предварять отчет за день кратким редакционным дневником, написанным по возможности живо, не казенно. Предложение было принято. Дневники сочиняли и печатали, но очень уж живыми они не были, на слишком много церквей в них полагалось в обязательном порядке перекреститься. Но первый дневник Бондарев написал вполне кудряво: «Ночью шел майский дождь, к полудню небо над Москвой посветлело, стало тихо, тепло, и везде – на каменных площадях Кремля, на куполах соборов, на сочной листве лип, на цветущих яблонях – мягкий блеск солнца. От подсыхающего асфальта, от влажных крыш подымался весенний парок. По оживленным возгласам на всех языках, раздающихся в светлых коридорах Большого Кремлевского дворца, в вестибюле, на просторных лестницах, по улыбкам, по взглядам – чувствуется волнение, ожидание серьезного и глубокого разговора о путях нашей литературы». И так далее в том же духе…
Предложили давать заголовки к каждой речи. Это было принято, и мы потом изощрялись: речь Валентина Катаева назвали «Перо Жар-птицы», Эдуардаса Межелайтиса – «Лучшая традиция – поиск», Федора Панферова – «Это нам по плечу!» И так далее в том же роде... Эсэс предложил давать фотографии каждого выступившего на съезде. Ему это казалось хорошим украшением полосы, и отделу оформления, нашим фотографам было дано задание, кроме традиционных групповых снимков в кулуарах и панорамы президиума и зала, изготовить фотографии всех ораторов. Дело нехитрое, но именно тут мы споткнулись…
Когда в двенадцатом часу ночи принесли контрольную полосу, я обнаружил, что вместо фотографии Афанасия Салынского над его выступлением заверстан портрет Андрея Малышко. Сотрудник отдела оформления сначала попытался нас убедить, что это и есть Салынский. Посрамленный в ходе короткой, но сразу же достигшей высокого накала дискуссии, он отправился искать снимок Салынского. Пропадал довольно долго и явился с десятком фотографий, среди которых, однако, снимка Салынского не было. «Это все, смотрите! – сказал он тоном человека, который выполнил задание на двести процентов, и очень удивился нашей реакции. – Как Салынского нет? А может, он не выступал, иначе мы бы его сняли?» Утверждение было, мягко говоря, глупое, но бедняга растерялся и не знал, как выпутываться из создавшегося положения.
Что тут сделалось с Эсэсом, трудно себе представить. Никогда ни до, ни после этого я не видел его в такой ярости. Пообещав, как только кончится съезд, разобраться с разгильдяями, он потребовал к себе заведующего отделом. Выяснилось что того в редакции нет, смылся то ли домой, то ли в какую-то веселую компанию, хотя во время таких авралов до подписания номера полагалось быть на месте. «Вызвать!» – рявкнул Эсэс. Пока отыскивали заведующего, посылали за ним машину, мы в библиотеке посмотрели книги Салынского, нет ли там его фотографии, которую можно переснять. К сожалению, ничего подходящего не нашли. А время близится к двум часам. Наконец появляется испуганный заведующий отделом. Эсэс – ему: «Я вашим отделом займусь после съезда. А сейчас я звоню Салынскому – вы поедете его фотографировать». Поднятый с постели Салынский спросонья никак не может понять, что он него хотят, потом, сообразив, говорит: «Не надо фотографа, у меня есть фотография, посылайте шофера...» Привозят от Салынского фотографию. Незадолго до этого издательство приобрело за валюту какую-то высокого класса западногерманскую машину для изготовления клише, так что через несколько минут оно будет готово. Но тут взрывается еще одна мина: мастера, работающего на этой машине, отпустили в Рязань и вечером он туда укатил, завтра у него суд – он разводится с женой. Кто-то в отчаянии предлагает убрать из номера все фотографии. Эсэс испепеляет его взглядом: «Без фотографий номер не выйдет!» Начинают обзванивать типографии, нельзя ли где-нибудь сделать клише. Но куда там, все газеты уже или напечатаны, или печатаются, никого не отыщешь. И вдруг Леонид Чернецкий, заместитель ответственного секретаря, недавно начавший работать у нас, выясняет, что на прежней его работе спит мертвецки пьяный мастер, который изготовляет клише. Туда немедленно отправляется экспедиция, возглавляемая Чернецким. С трудом – нашатырь, голову под кран – приводят в себя этого мастера. И наконец привозят клише. Вот такая цепь происшествий, словно придуманная для комедии. Номер мы подписываем в шестом часу утра. Разъезжаемся по домам, к десяти надо быть в Кремле на съезде…
Вторая запомнившаяся история приключилась на самом съезде и была совсем не смешной – очень серьезной, хотя далеко не все тогда поняли и оценили, что произошло. Еще не успели смолкнуть аплодисменты после выступления Хрущева, как на трибуне вырос Александр Корнейчук,– его речь служила как бы продолжением этих аплодисментов. Она была вроде бы экспромт, взрыв чувств, с которыми оратор никак не мог совладать, которые вырвались словно бы не по его даже воле. Из Краткой литературной энциклопедии можно узнать, что Корнейчук был «Чл. ЦК КПСС (с 1952) и ЦК КП Украины. Деп. Верх Совета СССР 1-6-го созывов. Пред. Верховного Совета УССР. Занимал руководящие посты в Мин-ве иностр. дел, в К-те по делам иск-в УССР. Зам. пред. Сов Мин. УССР. Чл. Всемирного Совета Мира и его бюро с 1949. Чл. Президиума Всемирного Совета Мира с 1958. Акад. АН СССР (с 1943) и АН УССР (с 1939)». Я привел этот длинный перечень должностей и чинов, чтобы сказать, что столь опытный государственный муж едва ли был способен на столь безудержное излияние чувств. «Экспромт», конечно, был заранее подготовлен расчетливым, прожженным царедворцем, у этого «внезапного» всплеска восторга была вполне прагматическая политическая задача.
Вот это выступление с некоторыми сокращениями:
«Дорогие товарищи! Дорогие друзья! Я думаю, что выражу ваши чувства, когда скажу, что мы с большой радостью, с огромным волнением слушали речь нашего дорогого товарища, друга, – ликующий голос Корнейчука звенел от восторга,– я бы сказал, самого демократического из всех демократических людей, каким мы считаем нашего большого руководителя, родного Никиту Сергеевича Хрущева.
Мы, писатели, от всего сердца хотим принести Вам, Никита Сергеевич, глубокую благодарность. Слушая, с какой любовью Вы говорите о труде рабочих, крестьян, нашей интеллигенции, и зная то, что Вы дали вместе со своими друзьями, членами Центрального Комитета, членами Президиума ЦК, с Вашимм друзьями, которые сидят здесь вместе с Вами, зная Вас, хочется сказать, что Вы самый большой поэт труда советского человека и самый большой новатор нашего времени.
Присуждение Вам Ленинской премии с такой радостью было воспринято советским народом, ибо Вы, Ваше имя на знаменах мира стоит у всех народов, во всем мире!
Желаем Вам, дорогой Никита Сергеевич, здоровья, счастья в личной жизни!
Желаем многих, многих лет жизни на радость советским людям и на радость всем народам в мире!
Да здравствует наш родной Центральный Комитет!
Да здравствует Никита Сергеевич Хрущев!»
Эта здравица, сопровождаемая, как положено, долго не смолкающими, продолжительными и бурными, заставила многих присутствующих внутренне вздрогнуть. Что это должно значить? После произносившихся в последние годы со всех высоких трибун заклинаний: искореним культ личности, покончим со славословием, восстановим ленинские принципы коллективного руководства – вдруг снова обрыдлые культовые песнопения. Только вместо Сталина – Хрущев, вместо «великий» – «самый большой», вместо «вождь передового и прогрессивного человечества» – «самый демократический из всех демократических людей», вместо «корифей всех наук» – «самый большой новатор нашего времени», неизменными остались подобострастное «родной» и патетическое «многие лета».
Неужели это психологическая инерция, ставшая второй натурой привычка выражать свои чувства к первому лицу страны культовыми клише? Не похоже на Корнейчука – слишком искушенный он политикан, прекрасно понимает, с какой серьезной материей имеет дело, здесь каждое слово, каждый эпитет продуманы и взвешены, к тому же, по слухам, он принадлежит к близкому окружению Хрущева, бывает у него дома. Тогда это сигнал к восстановлению культовой идеологической схемы правления: народ – партия – вождь. Видимо, изменилась ситуация в высшем руководстве страны. Это сразу же понял (или ему дали понять) Николай Тихонов, в его заключительном выступлении на съезде после еще обязательной, еще не отмененной – скоро ее упразднят – благодарности «коллективному руководству» – ЦК и Президиуму ЦК КПСС – появился пассаж, уже ориентированный на только что произнесенный Корнейчуком спич: «Особую благодарность мы должны принести большому другу нашей советской многонациональной литературы, нашему дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву за его большое, блестящее, замечательное слово, с которым он обратился к съезду, ко всем писателям». Конечно, по сравнению с Корнейчуком бледновато, не тот накал, не та проникновенность, но и Тихонов тотчас же присягнул…
Вернувшись из Кремля, мы вечером долго обсуждаем сложившуюся ситуацию. И это не спор на отвлеченную политическую тему, не праздная болтовня пикейных жилетов, перед нами стоит вполне конкретный практический вопрос, который к тому же надо решать сегодня, немедленно: печатать ли выступление Корнейчука? Не печатать опасно, за этим, похоже, стоит большая политика, можно нарваться на серьезные неприятности, тем более что будет лично задет Корнейчук, – известно, что он человек злопамятный и мстительный, а так как вхож на самый верх, может обратить внимание на нелояльный поступок «Литературки», попросту говоря, настучать. Но и разжигать снова культовое калило – мерзкое дело, с души воротит. И начальство решается – Корнейчука не печатаем. Это не самостоятельное выступление, это всего лишь спонтанный отклик на речь Хрущева – таков выработанный нами главный аргумент на тот случай, если вдруг вызовут на ковер для объяснений. Но подстраховываемся – в съездовский дневник вставляется фраза: «Выступивший затем А. Корнейчук (Украина) под бурные аплодисменты делегатов и гостей горячо поблагодарил Н. С Хрущева от имени съезда за теплые слова и пожелания, высказанные в адрес многонациональной армии советских писателей, и поздравил Н. С. Хрущева с присуждением ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
Через некоторое время по линии пропаганды указание: укреплять авторитет первого секретаря. Этим займутся не только ретивые борзописцы-«культтрегеры», очень будут стараться и те, кто принадлежал к «коллективному руководству» и кого Корнейчук называл «друзьями» Хрущева. Это возвращение на культовые круги не помешало, а помогло потом «друзьям» сбросить Хрущева – «волюнтаризм», в котором они его обвиняли, в сущности, был легко расшифровываемым псевдонимом нового «культа личности», который они сами же создавали. При Хрущеве понадобилось несколько лет, чтобы изжить идею «коллективного руководства» и возвратиться к «культовой» модели. У Брежнева, первоначально противопоставившего хрущевскому «волюнтаризму» «коллективное руководство», на это ушло существенно меньше времени – уже через год стараниями аппарата и пропаганды он был поднят на недосягаемую для сподвижников высоту. А Андропов и Черненко сразу же без какой-либо промежуточной стадии «коллективного руководства» становились «самыми большими». Система окостенела и воспроизводила один и тот же стереотип.
Наша молодая команда
После съезда постепенно стал заполняться наш шестой этаж. Набрать людей для такого большого отдела, да еще в короткий срок – дело очень нелегкое. Вроде бы всегда ходят толпы ищущих работу журналистов и редакторов, устроиться на приличное место трудно. Но вот в какой-то солидной редакции возникла нужда в толковом работнике – освободилось место, дали еще одну ставку, попробуй, найди его, этого толкового работника, с ног собьешься. С улицы ведь не возьмешь, поиски эти – мука-мученическая, обзваниваешь множество близких и шапочных знакомых, стараясь получить нужную информацию, с дипломатической осторожностью советуешься с коллегами из других редакций. Я потом не раз сталкивался с такой ситуацией – то сам занимался поисками подходящего сотрудника, то ко мне обращались за помощью и советом. А тут одним махом надо было заполнить почти десяток свободных мест.
Руководство газеты решает формировать отдел главным образом из молодых, и мы начинаем действовать, широко раскидываем сети. Конечно, кто-то был на примете у Бондарева, кто-то у меня. Кого-то нам рекомендовали. Стали приглашать кандидатов для подробной беседы, читать то, что они напечатали, некоторых просили что-то для пробы написать. В общем, удача сопутствовала нам, грубых промахов у нас не было. Команду нашу (действительно, создалась команда, объединенная общими представлениями о задачах литературы, о ее достоинстве, о критериях ее оценки, работавшая дружно, напористо, жаждавшая новизны и остроты – я не случайно здесь и дальше часто говорю «мы») составили в основном совсем молодые люди, делающие в литературе и журналистике первые шаги.

Но этот самый молодой в редакции отдел очень быстро занял положение лидера, стал задавать тон. Через четверть века мне однажды пришлось отправиться в библиотеку «Литературки» – понадобились какие-то старые газеты, – и там я встретил все того же, что и тогда, заведующего библиотекой Федорова. В нашу пору он был секретарем партбюро, видной фигурой в редакции, считал своей обязанностью и правом нас воспитывать, время от времени нам от него доставалось – он присоединялся к той критике, которой мы подвергались на Старой площади, развивал ее, его побаивались. Пока отыскивали нужные мне газеты, мы с Евгением Дмитриевичем болтали о всяких пустяках. «А знаешь,– неожиданно, без всякой связи с нашим разговором, видимо, отвечая каким-то своим мыслям, воспоминаниям, сказал он,– ведь такого сильного отдела литературы, как ваш, больше в газете не было». И мои бывшие коллеги, давно уже ставшие маститыми литераторами, вспоминая нашу молодую команду, признавались, что то были для них годы самой интересной, самой захватывающей работы. Присоединяюсь к ним, для меня тоже…
Большая часть молодых сотрудников отдела очень быстро – не скажу, составила себе имя, это чересчур громко, но что точно, была замечена и отмечена в литературном мире, их приняли в Союз писателей. Некоторых еще до того, как им удалось выпустить книгу,– случай в оказенившемся Союзе редкий.
Бондарев привел в газету Бенедикта Сарнова, переманив его из «Пионера». Для этого журнала такой одаренный литератор, уже тогда много умевший, был слишком большой роскошью, его высокий КПД оставался там по-настоящему невостребованным. Бондарев хорошо знал Сарнова, они вместе учились в Литературном институте, были однокурсниками. Кажется, Бенедикт был самым молодым на их курсе, он поступил в институт после школы, у всех остальных за плечами была служба в армии, фронт. Он был начитаннее, образованнее, учеба давалась ему гораздо легче, чем однокашникам, у которых свинцовый ветер войны выдул из памяти многие школьные знания. К тому же они прилежнее занимались писанием собственных сочинений, чем чтением положенных по вузовской программе книг. Во всем остальном, кроме учебы, однокашники-фронтовики относились к Сарнову покровительственно, как к младшему в семье, которого положено опекать и защищать.
Когда однажды студенческая компания по какому-то поводу «гудела» в ресторане и кто-то из другой компании стал вязаться к Сарнову или это им покаялось – установить нынче истину невозможно, они решили проучить его реальных или померещившихся им обидчиков. Завязалась довольно свирепая драка – с порванными рубахами, разбитыми носами, милицией – драка, главными действующими лицами которой были Григорий Поженян и Бондарев. Так как Сарнов был не столько участником стычки, сколько оберегаемым объектом, рубашка у него была цела, очки не разбиты, фонарей не наблюдалось, а главное, в отличие от всех остальных участников потасовки он был трезв, в отделении милиции сочли студентов Литинститута стороной потерпевшей, подвергшейся хулиганскому нападению, и с миром отпустили их домой. Эту историю в подробностях – главным образом юмористических, правда, не во всем совпадающих – по отдельности мне рассказывали трое ее участников. В несколько претворенном творческой фантазией виде она даже получила отражение в их художественных произведениях.
Инну Борисову позвал в газету я. После университетской аспирантуры она еще никуда не устроилась, не так это было просто, и что-то делала по заданиям «братишек», этим кормилась. Ее материалы показались мне толковыми, работала она быстро, ориентировалась в литературных делах неплохо – я представил Борисову начальству, и ее взяли. Инна была единственной представительницей слабого пола в отделе, если не считать ее тезки Инны Ивановны Кобозевой, нашего секретаря, которая свою должность занимала с незапамятных времен и которую несолидность новой команды шокировала. Действительно рядом с этой красивой, седовласой, всегда одетой с иголочки, умеющей себя вести дамой все мы выглядели шпаной. Главные ее претензии по поводу того, что происходило на нашем этаже, были ко мне. Она упрекала меня за то, что я, как она выражалась, «не поставил себя, как надо», «распустил всех этих босяков» (Инна Ивановна была одесситкой). Особенно ее тревожило (справедливости ради должен сказать, что она тревожилась больше всего за нас) и возмущало, что у нас всегда полным-полно посторонних, «настоящий проходной двор», как говорила она.
А у нас и в самом деле возник своеобразный клуб, куда приходили по делу и без дела, потрепаться, узнать новости и просто время провести в приятной компании. Назову хотя оы нескольких наиболее частых посетителей нашего «клуба» – это Наум Коржавин и Борис Балтер, Илья Зверев и Макс Бременер, Лев Кривенко и Борис Слуцкий, Камил Икрамов и Евгений Винокуров, Фазиль Искандер и Владимир Корнилов, Владимир Войнович и Феликс Светов, Василий Аксенов и Виктор Гончаров…
Приятель нашего сотрудника, приехавший из провинции, – не помню его имени, мы его прозвали Рыжий,– провел у нас в газете весь свой отпуск, являясь каждый день как на работу. Он так обжился, так освоился, что чувствовал себя как дома. Когда вернувшийся из отпуска Бондарев, которого он до этого не видел, несколько раз заглянул в дверь, спрашивая то ли Сарнова, то ли Рассадина, Рыжий решил, что надо поставить на место этого назойливого посетителя.