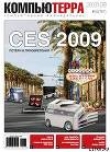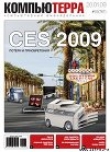Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Но это я сейчас размышляю над тем, как да почему Смирнова поставили во главе пришедшей в полный упадок «Литературной газеты», а тогда мы, последние могикане былой докочетовской «Литературки», были просто очень рады, что получили такого редактора, воспряли духом. Пересидели Кочетова немногие, в отделе русской литературы, кажется я один; незадолго до отставки Кочетова в какой-то институт ушел Лебедев, а перед самым появлением Смирнова перевелся в «Вопросы литературы» заместителем только что назначенного главным редактором Озерова Гайсарьян. Всю алексеевскую компанию как ветром сдуло, остался лишь Василий Литвинов, попавший в газету при Алексееве, но державшийся от нее в стороне – он был настоящим профессионалом и мараться не хотел.
Газету надо было возрождать, практически создавать заною – это касалось целиком шестого, «литературного» этажа и во многом отдела внутренней жизни. Этим и занялся очень энергично Смирнов… Первым из новой редколлегии появился в газете Юрий Бондарев, ходивший тогда еще в молодых писателях, он должен был возглавить наш шестой этаж. Я не был с ним до этого знаком, но читал недавно напечатанные в журнале «Молодая гвардия» две его повести: «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Повести мне понравились – в них война представала такой, какой она была для солдат и офицеров переднего края. Правда, повести были несколько подпорчены излишней беллетризацией, тогда, однако, казалось, что накапливающийся опыт поможет автору избавиться от этой слабости. Кроме того, в «Батальонах…» финал был каким-то туманно двусмысленным, впрочем, говорили, что тут вины автора нет, ему пришлось пойти на уступки то ли цензуре, то ли перестраховывавшейся редакции. Несмотря на эти недостатки, повести меня по-настоящему взволновали, наверное, потому, что в них отразилось то, что было общим во фронтовой судьбе моего поколения – мальчишек, со школьной скамьи попавших в окопы. При первом же знакомстве выяснилось, что мы с Бондаревым одногодки, он всего на несколько месяцев моложе, один кусок войны мы воевали рядом – на Сталинградском фронте. Нам не понадобилось времени для знакомства, взаимного узнавания, мы сразу же понимали друг друга с полуслова. Вскоре я был назначен его заместителем. Быстро стали друзьями, у нас почти не возникало разногласий по редакционным делам, хотя служба в газете – никакого опыта редакционной работы у Бондарева не было – давалась ему непросто, многое ему было непонятно, не во все он мог вникнуть. Ни на минуту не прекращавшаяся газетная круговерть, калейдоскоп сменяющихся заданий, большая часть которых срочные, бесконечная череда авторов, случайных посетителей – со всем этим он справлялся с трудом. Через несколько часов пребывания в газете взгляд его становился отсутствующим, он растерянно тер нос кулаком. Все мы, как могли, старались облегчить ему жизнь в редакции, дать возможность писать роман «Тишина». Он же полностью доверял нам, защищал нас от постоянных нападок извне и внутри газеты.
Его, как и меня, больше всего тогда интересовала литература о войне. Вскоре после появления в газете он как-то спросил меня, прочитал ли я только что напечатанную в «Знамени» повесть Григория Бакланова «Пядь земли», понравилась ли она мне и, если понравилась, не напишу ли я о ней. Повесть я уже прочитал, она показалась мне событием в нашей литературе о войне, и я был рад написать о ней. Статьей Бондарев остался доволен, чего нельзя сказать о некоторых других членах редколлегии, встретивших ее кто с опаской, а кто и в штыки – начался торг, называемый редактированием, – в результате что-то мне пришлось из нее убрать, что-то сгладить. Бондарев от статьи не отступился, упорно ее пробивал. Выяснилось, что с автором «Пяди земли» они с литинститутских времен были самыми близкими друзьями, как говорится, не разлей вода. Понимая гораздо лучше Бондарева, что статья – она была не только о повести Бакланова, но и о некрасовском направлении в литературе о войне – вряд ли вызовет аплодисменты блюстителей литературного порядка и достанется не только мне, но прежде всего автору повести, я сказал, чтобы он показал ее Бакланову: готов ли тот к такому весьма вероятному развитию событий. Бакланова, с которым мы тогда познакомились и вскоре стали друзьями, это обстоятельство не смутило. Потом все произошло, как я предугадал, – набросились на повесть, на статью. В хронике литературной жизни тех лет говорится, что этой статьей началась дискуссия об «окопной правде»: продолжалась дискуссия, то обостряясь, то утихая, четверть века, если не больше. В ту пору Бондарев был безоговорочно на моей стороне, позднее его имя и книги нередко служили тому, чтобы сживать со свету эту «окопную правду»… Совместная работа и наши дружеские отношения с Бондаревым не были тогда ничем омрачены. Я не стану здесь писать о том, как они складывались потом, как и почему прервались, – мы перестали не только встречаться, но даже здороваться. Но если бы в то время мне кто-то сказал, что Юра Бондарев через четверть века превратится в потерявшего голову в погоне за властью литературного вельможу, в одну из самых мрачных фигур нашего идеологического Олимпа, организатора всех темных сил писательского департамента, я в ответ, наверное, просто бы рассмеялся: «Так бывает только в плохих романах»…
Вскоре после Бондарева нам представили нового заместителя главного редактора, которому в газете отдавались литература и искусство, – Михаила Матвеевича Кузнецова (и в газете и не в газете его звали Михмат). С ним я был знаком, хотя и не очень близко, но много о нем слышал – главным образом потому, что на филологическом факультете университета он по совместительству читал курс советской литературы. Пригласив Кузнецова, заведующий кафедрой советской литературы Метченко дал промах. Анкета и послужной список были у Кузнецова идеальные: сын генерала, изрядный стаж работы в «Правде». Метченко, видимо, и представить себе не мог, что позиция у Кузнецова не та, на какую он рассчитывал, – либеральная, близкая к «Новому миру», не зря Кузнецов дружил с Александром Григорьевичем Дементьевым, правой рукой Твардовского, работал с ним, когда Дементьев создал «Вопросы литературы». Что-то было в его облике цыганское, в повадках и манере – южное: размашистая жестикуляция, мгновенная бурная реакция, любовь к острому и дерзкому слову. Михмат был родом из Одессы, не знаю, долго ли он там жил, но солнце юга, соль моря и какая-то одесская бесшабашность были у него в крови. Был он человеком горячим, импульсивным, часто вспыхивающим, как порох,– в такие минуты не задумывался над последствиями, терял контроль над тем, что и как говорил. Такая приключилась с ним однажды история. Пригласили его – кажется, по линии партпросвета – прочитать в КГБ лекцию о современной литературе. «Когда начал говорить о лагерной литературе,– делился он потом со мной,– чувствую угрюмую враждебность зала. Ну я и завелся, говорю им: «Приятно вам или неприятно, но придется все это выслушать». Наверное, в запале сказал и лишнее. Назавтра – вот молодцы, мгновенно донесли – вызывает Дядя Митяй. Ну, думаю, даст прикурить. Но знаешь, особенно не ругался. Сказал только: «Что, разве не знал, к кому идешь? Если не можешь язык попридержать, почему не отказался? Силком тебя, что ли, туда тянули?» И он прав»,– самокритично закончил Михмат.
Газета, журналистика были истинным призванием Михмата. То, что он после «Литературки» оказался в далеком от мирской суеты Институте мировой литературы, было для него драмой, там он увядал. А вот из «Правды» Кузнецов ушел по собственному почину – осточертела эта главная кухня пропагандистской лжи. Недавно Владимир Фролов, работавший с ним вместе в «Правде», рассказал мне: «Шли мы с Михматом по улице «Правды». Было это после венгерских событий. И он вдруг выпалил: «Володя, отсюда надо рвать когти. А то нас вешать будут на этих деревьях. И справедливо. Заврались».
Когда в «Литературке» нам приходилось по команде поликарповского ведомства что-то делать, от чего тошнило, и мы насыпались на Михмата с попреками, хотя он мало что мог в таких случаях изменить, просто мы отводили душу, он закипал: «Щенки! Чистоплюи!» И начинал рассказывать о том, что происходило в «Правде», как по указанию Сталина проводились экзекуции в литературе и искусстве. «Заикнуться никто не мог. Посмотреть не в ту сторону. А вы: правильно, неправильно. Щенки!» И чем бредовее и реакционнее были «замечания» и «советы» со Старой площади, чем неотразимее были наши удары ним, тем больше выходил из себя Михмат. В глубине души он почти всегда был согласен с нами и взрывался оттого, что ничего не мог сделать, от бессилия. «Нечего из себя строить целок! Не хотите подчиняться Поликарпову? Ну что ж, давайте все уйдем. Пусть вернется Кочетов».
Однако в какие-то догмы Михмат продолжал верить, во всяком случае освобождался от их власти с трудом. Одно время носился с мыслью написать статью «Куда уходит Воропаев?», считая актуальной и очень важной постановку вопроса о положительном герое, которым «оттепельная» литература перестала заниматься. Молодым людям, которые наверняка понятия не имеют о том, кто такой Воропаев, слыхом не слыхивали, придется, пожалуй, объяснить: речь идет о герое написанного в 1947 году романа Петра Павленко «Счастье». В иерархии тогдашних официальных литературных ценностей он занимал довольно высокое место. В академической «Истории русской советской литературы» этот роман оценивался как «книга больших мыслей, больших страстей», сила которой «шла от удачи главного героя», очерченного «глубоко и всесторонне», принадлежащего к «людям, организующим и ведущим массы». В действительности же этот искусственно сконструированный персонаж вырастал из общей лакировочной атмосферы павленковского романа. Михматовский замысел статьи «Куда уходит Воропаев?», которым он неосторожно с нами поделился, стал объектом подтрунивания и шуток – иногда беззлобных, иногда больно задевавших его. Он обижался, доказывал свою правоту, лез в бутылку, но вскоре начинал и сам смеяться. Статьи он, разумеется, так и не написал, но не только из-за наших насмешек, преградой стал его собственный вкус, не мог он свои и без того довольно-таки призрачные литературные мечтания строить на столь недоброкачественном литературном материале, как павленковское «Счастье».
В Михмате не было не только профессорской солидности, но и вообще никакой начальственности, умения держать подчиненных на определенной дистанции. Он был, как говорится, свой парень, даже панибратство его не коробило. Характерная деталь: если Смирнова частенько называли Эсэс, то все же за глаза, а к Кузнецову так и обращались – Михмат. И он считал это в порядке вещей. К слову сказать, в ту пору один сотрудник нашей газеты, назначенный заведующим отделом, собрал своих подчиненных, с которыми еще вчера был на равных и на «ты», и предупредил их, что впредь они должны обращаться к нему на «вы» и называть его по имени и отчеству. Он и Михмат – крайности, но я в данном случае не предлагаю золотую середину – к позиции Михмата относился и отношусь со стопроцентной симпатией.
Однако именно из-за этого он нажил в газете не только друзей, но и недругов. Михмат, объясняясь с сотрудниками, слов не выбирал, хотя при этом никогда не нарушал презумпции равенства, без всяких обид готов был выслушать ответную отповедь в тех же и даже более крепких выражениях, что на практике было неоднократно проверено и лично мною. Когда, допустим, он кому-нибудь в сердцах говорил: «Дурак!», то считал совершенно естественным, если в ответ ему бросят классическое: «От дурака слышу!» Но в газете были люди, у которых многолетняя служба воспитала стойкое, почти рефлекторное чувство субординации, они не могли превозмочь себя и ответить заместителю главного редактора в свойственной ему, скажем так, непринужденной манере. Словесные эскапады Михмата унижали и оскорбляли их, вернее, они чувствовали себя оскорбленными и униженными. На этой почве произошло несколько неприятных историй. Одна сотрудница в ответ на не очень галантную реплику Михмата швырнула в него чернильницей. Чернильница была довольно массивная – слава богу не попала, но на стене долгое время, пока не сделали ремонт, оставалось большое безобразное чернильное пятно. Дважды при мне обмен любезностями чуть было не привел к потасовкам – один раз с Юрием Суровцевым, другой – с Борисом Леонтьевым, причем в обоих случаях недовольство и претензии Кузнецова были обоснованны, но, видимо, в такой форме замечания можно делать только людям, с которыми существует полное взаимопонимание, иначе они будут восприниматься как начальственное хамство.
Неприязнь к Кузнецову гнездилась главным образом в отделах международной и внутренней жизни, там знали и понимали его хуже, чем мы на шестом этаже. Мы же относились к нему не как к начальнику, а скорее, как к товарищу, коллеге. Нам работать с ним было легко и просто, а порой и весело. С ним можно было спорить без дипломатии, называя многое своими именами, его можно было переубеждать и переубедить.
Я вовсе не хочу этим сказать, что во всех случаях правы были мы – нет, иногда зарывались мы, хотели невозможного, иногда чересчур осторожничал он. Но не так просто было тогда точно провести демаркационную линию между желанным и возможным, порой приходилось идти по острию бритвы. Михмат был хороший рассказчик и во время работы в «Правде» накопил немало историй, раскрывающих закулисную подоплеку тех спектаклей, которые мы, непосвященные, видели на сцене литературы и журналистики из зрительного зала. Его живые рассказы, подкрепляемые энергичной жестикуляцией, слушали, раскрыв рты. Когда выкраивалось свободное время, он нередко появлялся у нас на шестом этаже – иногда чтобы обсудить какие-то очередные дела не в своем кабинете, а в «домашней» обстановке, а чаще чтобы просто потрепаться. И хотя он был старше всех нас – меня на десять лет, а других обитателей шестого этажа еще больше, в многолюдном коллективе газеты мы были самой близкой ему по духу и интересам компанией. Его, наверное, влекло то, что разговаривали мы уже тогда и о литературе, и об общем положении дел в стране достаточно откровенно. Пожалуй, даже порой излишне откровенно: границы «оттепельной» свободы были смутны – казалось, открылись широкие дали, но вполне можно было напороться и на колючую проволоку. И страх, вколоченный во всех нас в сталинское время, еще не стал иллюзорным, фантомным, для него были кое-какие реальные основания.
Вот смешной эпизод, в котором наглядно обнаруживает себя причудливая атмосфера тех дней – кружащая головы свобода и еще не отпускающий страх. Пошли большой компанией обедать. Возвратившегося из Караганды в Москву Наума Коржавина, которого тюрьма и ссылка не очень-то набили не выкладывать во всеуслышание все, что у него на уме, по дороге в ресторан предупреждаем, чтобы на политические темы он там не высказывался. Он обижается: «Что я, ребенок?» В разговоре за столом задеваются тридцатые годы, деятели того времени. Самый молодой из нас, Рассадин, спрашивает: «Ну, а Киров?..» Понимая, что сейчас с разъяснениями выступит Коржавин, кто-то пытается его остановить. Коржавин обиженно гудит: «Что ты меня толкаешь… Я ничего такого не хотел сказать… В этой банде Киров был еще приличным человеком…» Все хохочут. Да, границы свободы были зыбки… Сдали в набор стихи Коржавина – это должна была быть его первая публикация в центральной печати, очень важная для него, существовавшего в Москве еще на птичьих правах. Стихи не крамольные, но все-таки что-то в них царапало воспитанное на гладкости восприятие, как-то они выделялись, слишком обращали на себя внимание, и это становилось препятствием на их пути к газетной странице. Так было не только с Коржавиным. С трудом проходили и первые стихи Андрея Вознесенского – его поэтическая манера дистиллированному вкусу казалась вызывающей, «отрыжкой формализма». Многое приходилось пробивать на полосу в нелегких боях. В таких ситуациях, требовавших и упорства и дипломатии, Михмат большей частью был на нашей стороне…
Но со стихами Коржавина произошла досадная осечка. Как-то, когда Наум (мы звали его Эма) был у нас, наверх поднялся Михмат. Чтобы подтолкнуть публикацию, заручиться активной поддержкой Михмата, Коржавина попросили почитать стихи – не те, что предназначались для газеты, а поострее. Но все-таки не самые острые, не наводящие на мысль, что на Лубянке уже мышей не ловят. Михмату стихи понравились. Но этого разгоряченным поклонникам Коржавина показалось мало, они посчитали, что Михмат недостаточно зарядился энтузиазмом, и начали заказывать Науму стихи по тем временам пугающе непроходимые. В общем, разгулялись вовсю. Чувствую, что перебор, что добром это не кончится, пытаюсь остановить: мол, пора закругляться, всего не перечитаешь. Но куда там, вошли в раж, не удержать, отмахиваются. Наум с неохотой, но все-таки читает крамольные стихи – очень уж напирали. И Михмат скис – не вдохновили его, а напугали. Эти совершенно непечатные стихи в его сознании наложились на предназначавшиеся для печати. Под разными предлогами он стихи Коржавина откладывал. Они прошли, когда он на несколько дней уехал в командировку. Справедливости ради хочу сказать: мы были смелее, наверное, потому, что по молодости лет не успели так, как он, набраться страху, нас меньше сковывал этот тяжкий опыт.
Его опасения по поводу стихов Коржавина оказались не такими беспочвенными и надуманными, как нам представлялось. Одно из двух напечатанных стихотворений – «Церковь Покрова на Нерли» – вызвало совершенно неожиданный для нас скандал. «Комсомольская правда» под рубрикой «Из последней почты» выступила на следующий день с оглобельной редакционной репликой «Поэтический благовест». Эту реплику стоит воспроизвести целиком – она невелика, но весьма выразительно представляет идеологические нравы той поры (в ней цитируются две из пяти строф стихотворения Коржавина, так что читатели могут составить представление и о нем). Вот что напечатала «Комсомольская правда»:
«По какой ты скроена мерке,
Чем твой облик манит вдали?
Чем ты светишься вечно, церковь
Покрова на реке Нерли?
Эти удивительно глубокие и злободневные вопросы не на шутку взволновали поэта Н. Коржавина. Он немедленно направился во Владимир и, стоя на круче, долго наблюдал за упомянутой церковью. Результаты наблюдения очень обнадеживающие. Поэт без труда установил, что церковь «невысокая, небольшая», что иногда набегает на нее «красноватый закатный пламень». И вот тогда совершается чудо: молельный дом сам начинает излучать божественный свет и ронять в души всех и на веки вечные «ощущение высоты» (неземной, разумеется). Одним словом, Исайя, ликуй!
Вполне правомерен и вывод, к которому приходит автор:
Так в округе твой очерк точен,
Так ты здесь для всего нужна,
Будто создана ты не зодчим,
А самой землей рождена.
Прочтешь эти строки, и сразу видишь перед собой коленопреклоненного поэта, страстно шепчущего не стихи, а молитвы. Ну что ж, блажен, то верует…
Одно непонятно. Почему эти семинарские вирши опубликованы вчера в «Литературной газете» и почему над ними стоит такая малоподходящая рубрика «Новые стихи»?»
Я не сомневаюсь, что в другое время никто в «Комсомолке» не обратил бы внимания на это стихотворение. Но оно появилось во время очередной кампании антирелигиозной пропаганды, как же упустить такой случай отличиться! В «Комсомолке», конечно, понятия не имели, что это за церковь,– в реплике она даже перенесена во Владимир. Кто считается с фактами, когда раскочегаривают кампанию. Главное, чтобы в жилу, все остальное никакой роли не играет.
Я написал короткую – полстранички – ответную реплику «Комсомолке», ударное ядро которой составляла цитата из академической, вышедшей еще до «оттепели», в 1953 году, «Истории русскою искусства», свидетельствующая о том, что воспетая поэтом церковь заслуживает восхищения даже самых отъявленных атеистов: «...Архитектурный образ храма, посвященного Покрову богоматери, полон глубокой одухотворенности. Стремление ввысь определяет весь его замысел. Зодчие как бы ставят себе целью преодолеть материальность и тяжесть камня; свет и тень играют на фасадах, дробя и оживляя их поверхность; здание в целом кажется излучающим свет и тепло и пронизанным радостным, жизнеутверждающим чувством… Церковь Покрова, отражающаяся в тихих водах Старицы, представляет собой один из прекраснейших памятников древнерусского зодчества».

Но Смирнова и Кузнецова в Москве нет – возвратятся через два-три дня, а без них вряд ли удастся решить судьбу реплики. Однако острый разговор об этом происшествии возник сразу же на летучке: ошибка ли публикация стихотворения Коржавина или нет, отвечать ли «Комсомолке» или промолчать? Мнения разделились. Завершая летучку, заместитель главного редактора Косолапов сказал, что ошибочно не само по себе стихотворение Коржавина, оно вполне уместно в сборнике, ошибка в его публикации в массовой общественно-политической газете в то время, когда в стране проводится важная идеологическая кампания, за это редакция получила серьезное замечание от руководства Союза писателей.
И все-таки через пару дней, когда возвратились Смирнов и Кузнецов, я отправился к начальству с ответной репликой «Комсомолке». После летучки и звонка из Союза не очень-то рассчитывал на успех, но для очистки совести – все, что мог, сделал – пошел. Обидно было за Коржавина, получившего за первую же публикацию, которая должна была открыть ему двери в литературную печать, совершенно незаслуженную зуботычину. И не помешает ли реплика «Комсомолки» печатанию его стихов в других местах? Я отдавал себе отчет, что расклад сил, к сожалению, не в нашу пользу. Косолапов уже высказался на летучке – он против. Кузнецов ничего дурного о стихах Коржавина не говорил, не возражал против их публикации, но явно ее заматывал, мы это сделали фактически за его спиной, обошли его. Этого вполне достаточно, чтобы обозлиться на нас: не хотели прислушаться ко мне, вот и поделом вам. Да и вообще, может быть, он считает, это на пользу, когда нас таким образом учат. Надежда была лишь на Смирнова, только он, если посчитает, что ответить «Комсомолке» надо, что такое ни при каких обстоятельствах нельзя съедать, может убедить своих замов или нажать на них. Увы, эта надежда не оправдалась, да и вообще, как выяснилось, мои предварительные расчеты никуда не годились. Эсэс без долгих раздумий идею ответной реплики зарубил, присоединился к Косолапову. А вот Михмат очень горячо настаивал на том, что «Комсомолке» следует врезать, чтобы неповадно было подличать, не себя мы в этом случае защищаем – литературу. В общем, Михмат оказался на высоте, напрасно я в нем сомневался, нехорошо это было с моей стороны…
Новым ответственным секретарем был назначен Артур Сергеевич Тертерян. Он не из пришлых, свой, до этого заведовал отделом зарубежной литературы и искусства. По сравнению с предыдущим ответственным секретарем Петром Карелиным, убывшим из газеты вслед за своим патроном Кочетовым… Впрочем, какое здесь может быть сравнение – Тертерян умный и интеллигентный, с широким кругозором человек, очень опытный газетчик. Он хорошо знал редакционный коллектив, кто что может, кто чего стоит, а это очень важно для ответственного секретаря. Безошибочно различал, хорош или плох материал, что обычно ставило в тупик его предшественника. Но сам писал редко и, как мне кажется, не по собственному желанию, а обычно тогда, когда полагалось «отписаться» за командировку, или что-то в этом роде – все это было грамотно, но бесцветно. Мне рассказывали, что Тер – так его звали в редакции – начинал очень хорошо, интересными и яркими статьями, но потом замолчал, перестал писать. Это один из грустных вариантов судьбы журналистов поколения, травмированного леденящим страхом тридцать седьмого года. На самых бурных планерках и летучках Тер никогда не терял самообладания, не повышал голоса, – как бы ни кипели страсти, он был само спокойствие. Его оружием была ирония, однако своими шуточками и насмешливыми репликами он почти никогда не задевал больно, не обижал. Помню два забавных, очень характерных разговора с ним.
Как-то – было это в кочетовские времена – он неожиданно спросил у меня, хорошо ли я знаю одну сотрудницу, работавшую не в нашем отделе.
– Да, еще с университетской поры,– отвечаю ему, недоумевая, почему он этим интересуется.
– Она прекрасная журналистка.
– Замечательная, – подхватываю я. – У нее такая хватка, что никто в редакции не может с ней тягаться. А кто еще отдает газете так много сил и времени!
– Да-да, – соглашается Тер и ошарашивает меня неожиданным вопросом. – А почему она не замужем?
Я пожимаю плечами, показывая, что вопрос этот бестактен, и обсуждать его я не намерен. Но Тер на это не реагирует и тем же безмятежным тоном задает мне следующий не менее бестактный вопрос:
– А нельзя ее выдать замуж?
– Это ее дело. Захочет – выйдет,– отвечаю я уже с раздражением.
Тер то ли не замечает, то ли делает вид, что не замечает, что разговор этот мне неприятен.
– Вы не правы, – продолжает Тер. – Друзья должны позаботиться о ее судьбе. Она слишком много сил отдает работе. И не всем в редакции это по душе. Я имею в виду начальство. А если бы она половину своей энергии отдавала мужу, семье, остального для газеты было бы сверхдостаточно. И начальство могло бы ее терпеть. Надо ее выдать замуж. Занялись бы этим. А то, боюсь, ее выживут из газеты…
Весь этот разговор Тер проводит, явно потешаясь над моей недогадливостью, над тем, что я вполне серьезно воспринимаю его наводящие вопросы, хотя он просто хочет предупредить меня об опасности. Кстати, он ее не преувеличил: через некоторое время мою университетскую приятельницу из «Литературки» выставили, она ушла в другую газету, в которой по сю пору одна из самых ярких звезд… И самое огорчительное: Тертерян тогда за нее не вступился, умыл руки.
Я уже не работал в газете, приехал на Цветной бульвар, потому что шла моя статья. Из нашей команды шестого этажа в «Литературке» никого не осталось, кроме Бенедикта Сарнова. Да и он стал «приходящим», перешел на положение спецкора. Мы сговорились встретиться, и он, соединив это с какими-то своими делами, явился в газету, которую, по моим впечатлениям, не слишком обременял своим присутствием. Я вычитал верстку, и мы зашли к Тертеряну, который вел номер.
– Как вы терпите этого бездельника? – пошутил я. – Если бы не я, вряд ли бы сегодня он появился в редакции. Надо же, повесил на дверях табличку с днями и часами приема.
– Но не всегда их придерживается. Так что приходится просить, чтобы в удобное для него время принял меня или Валерия Алексеевича. Иногда идет нам навстречу – исключительно из дружеских чувств. Но кто обращает внимание на такие мелочи? Меня больше беспокоит, что выступает на каждой летучке. Если он хотя бы через раз будет произносить обличительные речи, я гарантирую, что в своем кабинете он благополучно доживет до пенсии..
Постепенно Тертерян навел порядок в секретариате, прекратился лихорадивший газету постоянный аврал, меньше стало опозданий, покончено было с нелепым – «версточным» – планированием, когда в секретариате руководствовались только размером материала, затыкали «дырки» на полосе. В общем, с ответственным секретарем нам повезло. Но через какое-то время Тертерян стал замом главного, а со сменившим его в секретариате Прудковым отношения у нас не сложились.
В пополнившейся редколлегии не все было ладно. Отдел братских литератур возглавил Григорий Корабельников. Он уже в ту пору был ветераном литературы, в молодости, в начале 30-х годов, активно действовал в РАППе, избирался делегатом Первого съезда писателей, много лет проработал в тех структурах Союза писателей и органах печати, которые занимались литературами народов СССР, знал здесь всех и вся, все подводные камни. Ему и самому досталось: в тридцать седьмом году его исключили из Союза писателей. Этот горький опыт не прошел для него даром, пуганая ворона куста боится, скрытые подводные камни ему мерещились повсюду. Он дул и на холодное.
Еще больше неприятностей возникало с Евгением Сурковым, который стал шефом отдела искусства. Одаренный, образованный критик, Сурков был человеком с невыносимым характером, склонным к истерии, обуреваемым многими комплексами, к тому же не чуравшимся наушничества. Если Корабельников старался находиться на максимальном удалении от «линии фронта», честолюбивый Сурков хотел быть первым на разминированной территории, но при этом очень боялся промахнуться и метался – то рвался вдруг вперед, то неожиданно отступал назад. В течение одного дня – в зависимости от телефонного звонка, от дошедшего до него слуха – он менял свои решения на прямо противоположные, и даже не один раз. Сотрудники его отдела – работали там прекрасные критики и журналисты: Юрий Ханютин, Борис Медведев, Людмила Семенова, Вера Шитова – скрипели зубами, работа превращалась в ад.
Когда «Литературка» затеяла дискуссию о драматургии, Сурков, по три на дню то снимая, то ставя материалы, доводил до белого каления даже таких уравновешенных, выдержанных людей, как Косолапов и Тертерян. Он должен был написать статью, подводящую итоги этой дискуссии, но, боясь оступиться, ненароком задеть какую-нибудь мину, тянул резину, довел дело до последнего дня и неожиданно скрылся – никого не предупредив, укатил в заграничную командировку, поставив редакцию в трудное положение. Возвратившись, после крупного объяснения со Смирновым, подал заявление об уходе, а потом наглотался каких-то таблеток – к счастью, обошлось… Правда, один из сотрудников его отдела сказал нам: «Не волнуйтесь, он дозу знает».
Были и удачи. Появились в редколлегии люди, которые немало дали газете. Виктор Болховитинов оживил очень захиревший отдел науки. Крупные ученые, при Кочетове отвернувшиеся от газеты, стали у нас часто выступать – и не только на страницах газеты, но и в редакции. Как-то Болховитинов привел Ландау. В битком набитом кабинете главного редактора ученый рассказывал о проблемах современной физики. Ландау держался естественно, разговаривал с нами серьезно, не свысока, стараясь максимально просто объяснить сложные вещи, хотя, честно признаюсь, почти всем нам – может быть, кроме Болховитинова да специально приглашенных Даниила Данина и еще каких-то писателей, физиков по образованию, занимающихся этими проблемами,– большая часть того, что говорил Ландау, была явно не по зубам. Один из молодых сотрудников, прочитавший статью о современной физике в популярном журнале для юношества – он простодушно упомянул этот источник его познаний,– стал донимать Ландау вопросами. Ландау терпеливо отвечал ему. Самоуверенный молодой человек, почему-то обуреваемый желанием срезать великого физика, в одном месте перебил его, строго напомнив: «А Вселенная!» Ландау улыбнулся: «Вы, по-видимому, слишком много знаете о Вселенной». Мы покатились со смеху. Кто-то сказал: «Полемика обезьяны с телевизором».