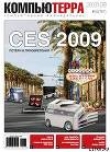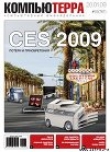Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Затем выступил Всеволод Иванов. Мы не сомневались, что он будет против публикации разносной статьи Дорофеева. Думаю, что догадывался об этом и Кочетов. Но предложение, с которым выступил Иванов, повергло его в изумление. Впрочем, должен признаться, что и нам оно в той обстановке показалось малореалистическим. Сказав, что речь идет об исключительном явлении в нашей литературе, книге, которая имеет очень большой успех в Советском Союзе и будет иметь громадный успех в странах народной демократии, потому что она направлена против общего у всех зла – бюрократии, Иванов заключил так: «Надо похвалить молодого автора и сказать, что он очень талантлив. Это главное. Если бы я был главным редактором, я посвятил бы роману Дудинцева передовую».
На это предложение Кочетов, естественно, никак не реагировал и предоставил слово Овечкину. Он полагал, что публикацией овечкинской статьи, которой он сказал какие-то комплименты и на этом обсуждении, обеспечил себе расположение Овечкина и тот как-то нейтрализует восторженную речь Иванова. Но Овечкин обманул ожидания Кочетова, статью Дорофеева он просто уничтожил: «Мне эта статья напомнила историю моей повести «С фронтовым приветом». Я писал ее в Киеве после демобилизации, не мог привезти в Москву, и один критик, Овчаров, написал издательскую рецензию. Кончалась она призывом исключить автора из партии и арестовать. Если разобраться в духе статьи Дорофеева, то это то же самое».
Против публикации статьи был и поэт Сергей Смирнов: «Зачем выступать с плохой рецензией?» Это нас удивило, этого мы не ожидали, потому что он по своим взглядам был человеком близким Кочетову. Возглавлявший отдел внутренней жизни Ваграм Апресян горячо говорил о том, что Дорофеев совершенно не знает жизни, правду романа «Не хлебом единым» подтверждают многочисленные истории загубленных бюрократами талантливых изобретателей, замордованных людей, которые он на днях слышал на всесоюзном совещании изобретателей в Кремле.
Из членов редколлегии поддержал Кочетова и высказался за публикацию статьи Дорофеева лишь Георгий Гулиа, он вообще, как правило, в спорных случаях был на стороне очередного главного редактора, поэтому ему удалось остаться членом редколлегии при шести главных редакторах. «Или мы будем бороться за объективное отображение в литературе советской действительности, или давайте призывать к такому абсолютно негативному изображению нашей жизни, которое сквозит во всем романе Дудинцева», – заявил он.
«Нижние чины», участвовавшие в обсуждении, – Александр Лебедев, Юрий Суровцев, Владимир Огнев и я – были единодушны. Никто из нас не согласился с оценкой Дорофеева романа «Не хлебом единым», все считали, что статью его можно напечатать только в дискуссионном порядке и лишь в том случае, если до нее будет опубликована статья, положительно оценивающая книгу Дудинцева. Кроме того, эта дискуссия на страницах газеты не должна перебегать дорогу обсуждению в Союзе писателей, авторам полезно учесть то, что там будет сказано.
Короче говоря, затея Кочетова – упредить обсуждение, навязать читателям газеты отрицательную оценку романа Дудинцева – была похоронена по первому разряду.
Завершая заседание редколлегии, Кочетов с трудом сдерживал себя. Он заявил, что роман «Не хлебом единым» – отступление от соцреализма, вредная книга, он, Кочетов, решительно расходится с большинством выступавших в его оценке.
Но после такого обсуждения напечатать рецензию Дорофеева Кочетов не мог.
Редколлегия закончилась, все начали расходиться. Странное дело, чувства торжества мы не испытывали. Понимали, что Кочетов не забудет нам своего поражения, что жизнь в газете ожидает нас нелегкая, спуска нам не будет. Видимо, понимал это и Овечкин, в коридоре он подошел к нам попрощаться:
– Вам, ребята, я не завидую, а сам я в эту «кочетовку» больше ни ногой.
И действительно, в газете он больше не появлялся, а через несколько месяцев вышел из редколлегии.
До него это сделал Всеволод Иванов – после того, как была напечатана статья Дмитрия Еремина, громившая второй выпуск альманаха «Литературная Москва». На сей раз Кочетов уже не собирал для ее обсуждения редколлегии, а от Всеволода Иванова, возражавшего против публикации этой статьи, отмахнулся. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения Иванова. Он и до этого порывался уйти, а после появления статьи Еремина обратился в редколлегию и секретариат с резким письмом: «Редактор газеты, тов. Кочетов, не желает считаться с мнением отдельных членов редколлегии, тем самым низводя их участие в работе на уровень даже не совещательный, а всего лишь «говорительный»… Ввиду того, что я не могу работать с товарищем Кочетовым, еще раз прошу редколлегию «Литературной газеты» снять мою фамилию как члена редколлегии».
Дроздовы идут в атаку
Дело, разумеется, было не в одном Кочетове. Вряд ли бы он стал так самоуправствовать, не имея одобрения и поддержки в высших сферах…
К этому времени наследники Сталина стали оправляться от шока, вызванного докладом Хрущева, политическая атмосфера в стране сгущалась, реакция готовилась к контрнаступлению – ждали удобного момента и подходящего повода, чтобы приступить к реставрации сталинизма с чуть обновленным, подкрашенным фасадом (эта стратегическая цель определяла действия всех «охранителей» на протяжении нескольких десятилетий вплоть до нынешнего времени). А в такой ситуации какой-нибудь повод непременно да найдется или его создадут – не тот, так другой.
Для литературных «ястребов» поводом для истерической кампании против подготовляемого «прогрессистами» (это словечко было тогда в ходу) идеологического конца света – так они изображали сложившуюся в литературе ситуацию – явилось обсуждение романа Дудинцева. Оно было необычайно многолюдным, толпа жаждавших попасть на обсуждение, осаждала ЦДЛ. Придя заблаговременно, я с приглашением и удостоверением «Литературной газеты» едва пробился в зал, который был уже переполнен, яблоку негде упасть, сидели на лестнице, стояли на хорах. Правда, дубовый зал, где происходило обсуждение, вмещал немного народа, новое здание ЦДЛ еще не было построено. В донесениях наверх – а готовых немедленно «сигнализировать» было хоть отбавляй – это стечение народа было представлено чуть ли не как кем-то организованный шабаш антисоветских сил.
Но главным «компроматом» выставлялось выступление Константина Паустовского. Глухим, хрипловатым, тихим голосом он рассказал о своих впечатлениях от круиза вокруг Европы на теплоходе «Победа», кажется, первой такого рода туристической поездки, во время которой ему довелось наблюдать вблизи представителей «нового правящего класса». Они были как две капли воды похожи на дудинцевского Дроздова: «Рабочие, интеллигенты, писатели и актеры занимали второй и третий класс, а первый класс и люкс – сплошные Дроздовы – замы министров и номенклатурщики, – говорил Паустовский. – Они поражали нас своей спесью и диким невежеством… Говорят, что Дроздовы просто чинуши, нет, это не чинуши. У нас в стране безнаказанно существует и процветает новая каста хищников и собственников, циников и мракобесов, которые, не стесняясь, вели погромные антисемитские разговоры… Они узурпировали себе право и власть говорить от имени народа… Я не собираюсь говорить о литературных достоинствах или недостатках романа Дудинцева. Дело сейчас не в этом. Роман Дудинцева – крупное общественное явление. Это первое сражение с дроздовыми. На дроздовых наша литература должна обрушиться всей силой своего гнева, пока дроздовы не исчезнут из нашей действительности. Поэтому меня несколько смутили услышанные здесь слова, в которых я уловил оттенок благодушия, слова о том, что дроздовщина – это не так уж страшно, что это вчерашний день. Ничего подобного. Дроздовых – тысячи».
В душном возбужденном зале во время выступления Паустовского слышно было, как муха пролетит.
Высокопоставленные попутчики Паустовского по круизу, которым, конечно, тотчас же положили на стол его выступление (еще до того, как запись его в десятках машинописных копий пошла гулять по белу свету – это был один из первых, если не первый «выпуск» нарождавшегося самиздата; кстати, я цитирую речь Паустовского по такой копии, сохранившейся у одного из моих друзей), узнали себя, пришли в дикую ярость и употребили все доступные им средства, чтобы добиться примерного наказания этих наглых клеветников Паустовского и Дудинцева. Разумеется, уверяли сановники, ими движет не личная обида, а только страх за наш самый передовой строй, за нашу маркистско-ленинскую идеологию, на которые безнаказанно посягают скрытые и явные «ревизионисты» (слово это на долгие годы войдет в политический обиход, выполняя функции такого же бичующего жупела, как прежде «космополиты», а раньше «оппозиционеры»).
Желающих пугать начальство, взывая к его «охранительным» инстинктам, оказалось немало и в литературной среде. Это были, как правило, «воспеватели», над безбедным существованием которых в качестве управляющих литературными делами нависла реальная опасность. Правда появившихся произведений, успех, которым они пользовались у читателей, зачеркивали их бездарное «творчество», уничтожали дутые писательские репутации, созданные всесильной партбюрократией, – существовать они могли только под солнцем, как мы сегодня сказали бы, тоталитарной системы. Не зря в одном из тогдашних выступлений Дудинцев, отбиваясь от исходивших из этой среды доносительских нападок на его роман, говорил о сознательных «паникосеятелях» как о самых зловредных душителях правды.
Эхо от романа Дудинцева, от его обсуждения, которое в прессе честили, как только могли, раскатилось довольно далеко. Но все-таки это были, так сказать, региональные, в основном касавшие только литературы дела. В те же октябрьские дни разыгрались события, которые приковали внимание всего мира, сказались на политическом климате всей планеты. Они происходили не у нас, а в сопредельном государстве, правда, входившем в так называемый лагерь социализма. Но были они делом наших рук, мы туда ввели свои войска, чтобы утвердить устраивающие нас порядки. Все, что случилось там, оказало самое пагубное влияние и на нашу собственную жизнь, на дальнейшее развитие нашего общества, да еще такое широкое и глубокое, что масштаб его и нынче не так просто определить. Я имею в виду то, что тогда – и долгое время потом – называли контрреволюционным мятежом в Венгрии и что на самом деле было восстанием людей, доведенных до крайности помыкающими народом властями, за спиной которых была Советская Армия.
Информация в наших газетах и прежде никогда, мягко говоря, не отличалась правдивостью. Существовали обширные зоны действительности, на которые вообще было наложено табу, о которых ничего не сообщалось, словно бы их не было (при Сталине, да и после него иногда замалчивались даже стихийные бедствия). Постепенно сложилась некая общая система лжи. Внутри этой системы соблюдалась даже определенная логика, но координаты были смещены, исходные точки отсчета сдвинуты – так декретное время отличалось от реального, солнечного. И как мы привыкли к декретному времени – оно уже не казалось противоестественным, так привычной стала информационная ложь, сложившаяся в систему.
В дни венгерских событий вся эта система развалилась на глазах, полетела в тартарары. Распространяемая ложь была за пределами всякой логики. Характеристики событий и политических деятелей, оценки их действий и позиций сменялись на противоположные без всяких объяснений в течение нескольких дней, а то и одного дня, словно читатели были каким-то недоумками, не помнящими, что газеты писали вчера или позавчера. То сообщалось, что «рабочие оказали сопротивление бандитам», то спустя два дня мы читали: «В Будапеште не работает большинство промышленных предприятий. Рабочие советы, созданные на фабриках и заводах, заявляют, что служащие не приступят к работе, пока не будет полного и немедленного удовлетворения всех их требований…» То осуждался отступивший от социалистических принципов и поправший социалистическую законность Матиас Ракоши и одобрялся сменивший его Эрне Гере, восстановивший эти принципы и законность, потом точно так же и за то же предавался анафеме Гере, уже вкупе с Ракоши, и горячо приветствовался сменивший его Имре Надь. Но как только Надь выступил против введения в Будапешт советских войск, он сразу же превратился из стойкого борца за социализм и почтенного деятеля мирового коммунистического движения в отъявленного ревизиониста и отпетого контрреволюционера.
Эта дни, когда мы при каждом удобном случае забегали в международный отдел в надежде, что у них есть какая-нибудь зарубежная информация, которая поможет разобраться в том, что происходит в Будапеште, выбраться из груды очевидной и неочевидной лжи, стали для многих из нас – и для меня – временем освобождения от многих иллюзий, временем горького прозрения. С детства нам внушали, что социализм (наш социализм, все остальные эрзацы, буржуазный обман) – лучший строй из всех, что существовали и существуют на земле, подлинно народный. И вот народ восстал против этого строя – это с трудом укладывалось в сознании. Нет, происками венгерской реакции, коварными действиями западногерманских реваншистов, кознями ЦРУ восстание в Будапеште не объяснишь, поверить в эти газетные сказки невозможно. Значит, и у них и у нас на самом деле никакого социализма нет.
Наши «охранители», наши «гориллы» не только испугались кровавых событий в Будапеште, но и обрадовались им. Да, было и то, и другое. И страх был – впервые произошло такое мощное извержение народного негодования, была и злая радость, перекрывающее страх злорадство – вот он очевидный результат подтачивающей устои критики Сталина. Чтобы не допустить чего-нибудь в этом роде у нас, нужны крутые профилактические меры. Немедленно самым решительным образом пресечь распространившуюся ересь, особенно в литературе, а то подстрекаемый писателями народ не сегодня завтра и у нас выйдет на улицу. Надо приструнить московских писателей, ведь в Будапеште все началось с кружка Петефи, который тамошние власти проморгали, своевременно не запретили, не решились посадить закоперщиков (потом точно так же объясняли «пражскую весну» – ее спровоцировала состоявшаяся лет за пять до этого международная конференция, посвященная творчеству Франца Кафки).
Так наступила пора «заморозков», начался разгром «оттепельных» произведений, по хорошо разработанной методе гонениям подверглись их авторы – у одного зарезали новую вещь, у другого рассыпали набранную книгу, третьего выставили из редколлегии и т.д. Кроме «Не хлебом единым» в основной список осужденных произведений входили рассказ Даниила Гранина «Собственное мнение», поэма Семена Кирсанова «Семь дней недели», тоже напечатанная в «Новом мире», ряд вещей из второго сборника «Литературная Москва» – рассказы Александра Яшина «Рычаги», Николая Жданова «Поездка на родину», Юрия Нагибина «Свет в окне», статья Ильи Эренбурга «Поэзия Марины Цветаевой», даже некролог молодого талантливого «новомирского» критика Марка Щеглова (подготовленный третий сборник «Литературной Москвы» после такой критики второго света не увидел). К этому «основному» списку подлежащих уничтожению произведений авторы бичующих статей в разных газетах и журналах, стремясь перевыполнить план, добавляли «факультативно» каждый что-нибудь свое. Как всегда бывает в проработочных кампаниях, многое было замешано на личных счетах, на корыстном интересе – лучше всего ловится рыбка в мутной воде.
Самый большой список проштрафившихся или находящихся под подозрением писателей и подлежащих уничтожению произведений был у Кочетова. Он дождался наконец своего часа и развернулся вовсю. «Литературка» почти в каждом номере кого-то громила, кого-то изобличала в тяжких идеологических грехах. Было бы наивностью думать, что все это было чисто писательской самодеятельностью, спонтанным взрывом «охранительного» энтузиазма в писательской среде. Сила реакционной критики, вытаптывающей все живое, оживающее, была в том, что она выражала спущенное из больших кабинетов на Старой площади «мнение», ее подпирали все институты власти – от райкомов до главлита, от реперткома до КГБ. Важная роль в этой кампании отводилась Кочетову, не зря Григорий Козинцев в своем дневнике назвал его «бардом секторов кадров, поэтом органов государственной безопасности». «Стукачи, – писал он, – нашли своего защитника в русской литературе».
Дирижировал кампанией заведующий отделом культуры ЦК Дмитрий Алексеевич Поликарпов или, как его иногда звали за глаза, «Дядя Митяй». Он был человек, обладавший очень большой властью. Кажется, у его преемника такой власти не было, ему не удавалось так держать все в своих руках. Поликарпов в соответствии с собственными примитивными представлениями и убогим вкусом информировал высшее руководство страны, находившегося на таком же уровне культуре, – и Хрущева, и Суслова, – о положении дел в литературе и искусстве, намечал «линию», проворачивал «мероприятия», определял, кого казнить, кого миловать, кому быть лауреатом, а кого вон из Союза писателей, на его совести травля Пастернака, Гроссмана, разгром «Литературной Москвы», «Тарусских страниц». Как ни странно, Поликарпов у части писателей пользовался репутацией человека, быть может, резкого, слишком прямолинейного, дубоватого, но честного, не интригана, не карьериста, заботящегося, как понимал и как мог, о писателях – отсюда и добродушное прозвище: «Дядя Митяй». К нему очень благоволил Шолохов, я слышал, как он превозносил Поликарпова на Втором съезде писателей, рекомендуя его как образцового политического руководителя для Союза писателей. Впрочем, это не удивительно, что он был мил сердцу Шолохова, удивительно, что у Твардовского, судя по его дневникам, были с Поликарповым если не приятельские, то вроде бы человеческие отношения.
У меня совсем иное отношение к этому деятелю, хотя я с ним не был знаком, ни разу не разговаривал. Но время от времени, а при Сергее Сергеевиче Смирнове, сменившем Кочетова на посту главного редактора, очень часто, почти что изо дня в день в газете до нас доводились руководящие замечания и указания Поликарпова, вопиющие по своей литературной безграмотности. Все это обычно сопровождалось свистом кнута – единственного педагогического инструмента, которым он мастерски владел. А однажды – незадолго до Третьего съезда писателей – я слышал его пространное выступление в кабинете главного редактора у нас в газете. Оно произвело на меня самое гнетущее впечатление. О книгах, спектаклях, стихах с большим апломбом судил человек, ни бельмеса не смыслящий в литературе и искусстве, начисто лишенный нормального эстетического восприятия, «музыковед», у которого отсутствует слух и который не знает нот. Поликарпов не только рассматривал художественные произведения в свете основополагающих решений и постановлений – соответствуют или не соответствуют, он вообще подходил к ним как к резолюциям и инструкциям. Он считал, например, высказывания отрицательного героя точкой зрения автора, причем не приписывал их преднамеренно автору (таким сознательным подлогом занимались многие разбойные критики), а на самом деле так думал, был уверен, что подобным образом писатель протаскивает запретное. В стихах (не помню, на чьи стихи он обрушился) его гнев вызвали какие-то «формулировки» (так он сказал), он и стихи воспринимал как передовую или инструкцию.
Поликарпов был убежден, что если руководимый им отдел постарается, подналяжет, а главное, если указания этого отдела с готовностью и энтузиазмом будут выполняться писателями, страна будет завалена талантливыми духоподъемными книгами на нужные, животрепещущие темы. Он подстегивал нерадивых, грозил готовым оступиться, расправлялся с непокорными, он постоянно настаивал, поучал писателей, как строгий учитель нерадивых учеников.
То, что Поликарпов вещал у нас в редакции, настолько не лезло ни в какие ворота, что Алексей Сурков, человек вполне дисциплинированный, не выдержал. Он позволил себе не согласиться с Поликарповым, что-то оспорить из того, что тот вещал. Поликарпов стал с начальственной самоуверенностью, по-хамски, злобными и дурацкими репликами прерывать Суркова. Перепалка – да еще на публике, в присутствии «нижних чинов» – приобрела такой накаленный характер, что я подумал: плохи дела Суркова, не быть ему после Третьего съезда главой Союза писателей, Поликарпов этого не допустит. Так оно потом и случилось.
Короче говоря, Поликарпов был человеком, которого на пушечный выстрел нельзя было допускать к руководству литературой и искусством. Но именно поэтому он и был вознесен на свою высокую должность – требовались не компетентные, понимающие, а волевые, крутые руководители, которые не знают сомнений, прут напролом, рубят сплеча. Рассказывали, что как-то вскоре после войны Поликарпов стал жаловаться Сталину, что писатели ведут себя плохо, отбились от рук, пишут не то, что требуется, не слушаются его, их партийного наставника. Сталин раздраженно сказал ему: «Товарищ Поликарпов, других писателей у меня для вас нет. Придется работать с этими», – и снял Поликарпова, который был секретарем правления, осуществлявшим партийное руководство Союзом писателей. После смерти Сталина Поликарпов был снова призван княжить в литературе, поставлен на более высокий пост – руководителя отделом культуры ЦК.
Мне от Поликарпова несколько раз сильно доставалось, я был, видимо, занесен в какие-то его черные списки. Он меня в глаза не видел, но запомнил мою фамилию после одной моей статьи. Может быть, правда, к статье добавлялась еще поступавшая из редакции соответствующая информация его доверенных лиц. Как-то Косолапов сказал мне об одном члене редколлегии, с которым мне пришлось вести затяжные бои: «Чему вы удивляетесь? То, что у нас происходит, сразу же докладывается под соответствующим углом зрения Дяде Митяю. Если без четверти девять приехать на Старую площадь, то наверняка в приемной у него увидите своего хорошего знакомого. Ждет прихода хозяина, чтобы на кого-то накапать».
Статья моя, на которую ополчился Поликарпов, была о только что вышедшем в свет шестьдесят пятом томе «Литературного наследства» «Новое о Маяковском». Прошел месяц после ее публикации, и вдруг на инструктивном совещании в ЦК Поликарпов подверг сокрушительной критике три статьи: две напечатанные в «Литературной газете» – «Глубокое течение, или Пузырьки на поверхности?» Фатыха Хусни и мою «О времени и о себе», третья – «Самое насущное» Федора Гладкова – появилась в «Литературной жизни». Поликарпов обнаружил в этих статьях злокозненное стремление авторов увести литературу от изображения нашей замечательной современности, сегодняшних героических свершений партии и народа, протащить порочную мысль, что только временная дистанция обеспечивает правдивое изображение действительности. «Литература в опасности!» – таким был тон выступления Поликарпова перед собранными по тревоге представителями столичной прессы.
Что же заставило Поликарпова забить тревогу?
В статье Хусни он раскопал такое, на его взгляд, порочное место: «Иные видят современность художественного произведения только в современном материале, и если кто-нибудь, желая пошире и поглубже раскрыть сегодняшнее, потянется к материалу вчерашнему, они первые готовы бросить ему в упрек «Ты защищаешь теорию дистанции. Это не годится!»
Подложенную под советскую литературу мину он отыскал и в моей статье – в первом ее абзаце. Статья начиналась так: «Известно, что современники не всегда могут представить истинные масштабы того или иного литературного явления, свидетелями которого они были».
Даже в статье Федора Гладкова, почитавшегося живым классиком советской литературы (незадолго до этого широко отмечалось его 75-летие), Поликарпов обнаружил место, в котором таилась угроза здоровому развитию современной литературы: «Можно писать и о прошлом, как о настоящем. А можно и о настоящем писать так, что в этом не будет духа современности. Современность – это то, что включает в себя все богатства нашей действительности на большом промежутке времени».
Мне сейчас даже неловко цитировать все эти прописи. Наверное, молодым людям нынче трудно поверить, что это могло преследоваться как крамола. Но таковы были «вещдоки», которые на совещании предъявил Поликарпов в подтверждении раскрытой им подрывной деятельности некоторых литераторов. На самом деле – это и тогда было ясно – смысл затеянной им очередной проработочнической кампании заключался в том, чтобы повернуть литературу от разоблачения культового прошлого к воспеванию светлого настоящего.
Услышал я о том, что моя статья в Большом доме (так тогда называли ЦК) осуждена как выступление в лучшем случае ошибочное, если не злонамеренное, на редакционной летучке. Никто из тех, кто узнал о совещании у Поликарпова, до этого мне слова не сказал. Что было характерно для унаследованных от сталинских времен нравов. Вокруг человека, уличенного столь высокими инстанциями в идейных ошибках, образовывалась пустота, он попадал в положение опасного для окружающих бациллоносителя – как бы ни заразиться… Никто не знал, как развернется дальше дело провинившегося, не потянут ли вслед за ним тех, кто как-то с ним был связан, был причастен к появлению на свет его крамольного сочинения. Конечно, это было уже не то, что при Сталине. Но у тех, кто познал сталинские нравы, в таких ситуациях просыпался былой страх «поротой задницы», как писал Алексей Толстой в «Петре І», а главное оживлялись «птицы ловчие», получившие сладострастную возможность клевать отданную на растерзание жертву.
На совещании в ЦК «Литературку» представлял Евгений Рябчиков, приглашенный Кочетовым в редколлегию большой мастер показухи, певец великих достижений. Не хочу быть ему строгим судьей – за плечами у Рябчикова был лагерь, быть может, тяжкий опыт и развернул его в эту сторону. Но что было, то было. Рябчиков с торжеством – поймали вора! – докладывал на летучке:
«ЦК провел чрезвычайно важное совещание, на котором обсуждались вопросы, как исправить ошибки, допущенные в ходе предсъездовской дискуссии (замечу, что моя статья к этой дискуссии не имела никакого отношения, но такие мелочи в расчет не принимались. – Л.Л.). В глубоком и серьезном докладе товарища Поликарпова было сказано, что газета «Литература и жизнь», опубликовавшая неправильную статью Федора Васильевича Гладкова, и «Литературная газета», опубликовавшая две ошибочные, неправильные статьи – Хусни и Лазарева, – допустили принципиальные ошибки, которые уводят в сторону предсъездовскую дискуссию, которые выдвигают в качестве предсъездовской дискуссии проблемы, давно решенные, и сейчас снова возвращают к давно осужденным партией проблемам».
Рябчикова поддержал другой член редколлегии Борис Галин. За долгие годы работы в печати он твердо усвоил, как в таких случаях поступать, и торопился продемонстрировать свою готовность следовать полученным свыше указаниям, Он старался изо всех сил еще и потому, что на одной из предыдущих летучек дал промах, очень хвалил мою статью.
Особый страх у Рябчикова и Галина вызвало то, что «Литературка» не успела признаться в допущенных ошибках и покаяться. Ее опередила «Правда», изложив инструктивное выступление Поликарпова в передовой «Высокое призвание советского писателя», написанной в угрожающих тонах и появившейся в тот день, когда у нас шла летучка. А не будет ли это промедление воспринято как несогласие редакции с указаниями, поступившими со Старой площади, и не влетит ли за это им, членам редколлегии?
Впрочем, в передовой «Правды» никто из провинившихся не был назван Материал для столь грозных, далеко идущих выводов очень уж был хлипким: Гладкова как тронуть – он из основоположников, Хусни и Лазарев – слишком мелкие цели для артиллерии такого калибра, да и два волоса не прическа. Но нависшая над литературой ужасная опасность, вызванная зловредной деятельностью не называемых – пусть читатели считают, что их полчища – коварных растлителей доверчивых, наивных художников, характеризовались без каких-либо смягчений, им «Правда» выдавала на всю катушку.
Что говорить, Поликарпов был великий мастер создавать из ничего шумные идеологические кампании, благодаря которым поддерживалась бойцовская форма у литературных костоломов и не иссякал страх божий у рядовой литературной братии. Я уже был не настолько наивен, чтобы не понимать, что когда в литературе разжигается очередной инквизиторский костер, любая подвернувшаяся щепка годится – на этот раз попалась под руку моя статья. И все же у меня возникла мысль, что дело не в первом абзаце моей статьи, здесь таится что-то другое. И оказался прав.
Однако это выяснилось через много месяцев, почти через год. Поликарпов через лупу читал мою статью, потому что по бюрократическим ступеням цековского аппарата начало двигаться дело о томе «Литературного наследства» «Новое о Маяковском», дело, к которому Поликарпов в силу некоторых обстоятельств (о них я скажу дальше) отнесся с особым вниманием. Оно шло своим чередом, а тут как раз понадобился материал для другой проработочно-воспитательной кампании (найти его было непросто – опасности, о которой забил в набат Поликарпов, не существовало, она была придумана), ему и вспомнился первый абзац моей статьи, изученной вдоль и поперек, пригодилась и эта щепочка…
Кашу вокруг тома «Новое о Маяковском» заварили два мало кому известных «маяковиста»: Александр Колосков, автор бездарного популярного биографического очерка о поэте, и Владимир Воронцов – и вовсе полнейший дилетант, впоследствии занимавшийся составлением сборника афоризмов, охотно переиздававшегося и даже – случай беспрецедентный – печатавшийся чуть ли не целый год на страницах журнала «Знамя». Редактор журнала Вадим Кожевников хорошо знал, кого надо печатать, что бы ни принес, а кому указывать на дверь редакции. Воронцов пытался даже вступить в Союз писателей – его протаскивала почему-то секция поэтов. Воронцов был помощником Суслова – этим все объяснялось. Несколько раз они, Колосков и Воронцов, выступали как соавторы, скандальную славу приобрели напечатанным в 1968 году в редактируемом Софроновым «Огоньке» очерком «Любовь поэта». Движимые замешанной на антисемитизме ненавистью к Лиле Брик, они поставили себе целью разоблачить ее как злого гения поэта, вытравить из его биографии.
Воронцов, пользуясь своим служебным положением, и организовал разгром тома «Новое о Маяковском» на самом высоком уровне – состряпано было постановление Секретариата ЦК. Хорошо зная своего патрона, Воронцов убедил его, что опубликованные в томе письма к Лиле Брик бросают тень на великого поэта революции. Рассказывали, что высокопоставленного ханжу шокировали концовки писем: «Целую тебя 32 миллиона раз в минуту», «Целую, целую и целую тебя, мой ненаглядный котенок», «Весь я обнимаю один твой мизинец» и т.п. Суслов счел их чуть ли не порнографией…