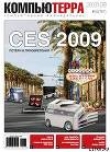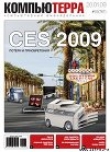Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
В предсмертном письме Фадеев не вспоминал о «Черной металлургии», но, без всяких сомнений, мысль о крахе своей писательской судьбы, о непоправимо загубленном таланте толкала его к самоубийству. Вот что он пишет: «...Меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел».
Письмо Фадеева – обвинительный акт тем, кто вершил судьбами общества и культуры. Обвинения его обоснованны и справедливы, но нет в нем и тени покаяния. Себя он, подводя итог жизни, не судит, своей вины за беды, причиненные не только другим людям, но даже самому себе, не ощущает. Недовольство собой и нежелание судить себя, приводившие к запоям, сделки с совестью, тщеславие и слабодушие, боязнь оказаться не в фаворе, утратить власть (не своего слова, обращенного к читателям, а деятеля, руководящего литературной жизнью) – все это выливается в обиду, которая жжет его и в предсмертные часы: «Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять». К такому обращению Фадеев не привык – вспомним, что когда после ареста Кольцова он написал Сталину, тот его через несколько дней принял.
Предсмертное письмо Фадеева многое проясняет, многое открывает в его характере и судьбе. Но тогда, когда мы услышали о его самоубийстве, мы могли только гадать о содержании письма, которое он оставил правителям страны…

На утренней планерке было сказано: под фадеевские материалы отводится вся первая полоса. Нужно организовать отклики, кандидатуры должны быть предварительно согласованы с руководством газеты: «Никакой самодеятельности!» Не прошло и часа – новое указание: фадеевские материалы уходят на третью полосу. Казалось бы, какая разница, но газетчикам ясно: значение утраты и тон освещения случившегося понижаются, другого характера должны быть отклики, иным состав их авторов. Пока обсуждаем что да как, – новая команда: третья полоса не целиком, а только три колонки. Значит, ранг события снижен еще больше, да и отклики вряд ли поместятся – место, которое займут официальные материалы, останется прежним. Мы понимаем, что мудрит и крутит не руководство газеты, ему самому советуют или указывают, что в данных обстоятельствах одно и то же, сверху и похоже, что не с улицы Воровского, где размещается правление Союза писателей. «Никакой самодеятельности!» – это относилось, видимо, не только к нам, нижним чинам. Но и этим дело не кончается, свистопляска команд продолжается: никаких откликов, печатаются только официальные материалы, которые передаст ТАСС. Тем временем уже звонят писатели: некоторые написали, другие вызываются написать – всем отказываем.
Наконец, приходят тассовские материалы: сообщение «От Центрального Комитета КПСС»; под заголовком «Видный деятель советской культуры» – нечто в жанровом отношении совершенно непонятное – то ли «объективка», то ли статейка для «Спутника агитатора» (кто-то высказывает резонное предположение – это подготовленный для руководителей партии и правительства некролог, которое взбешенное начальство не стало подписывать); медицинское заключение. Материалы производят тягостное впечатление. Бросается в глаза явная ложь: там говорится, что Фадеев покончил с собой во время очередного запоя. А мы точно знаем, что последний запой был в конце сентября прошлого года, когда у нас печатались его «Заметки о литературе», после этого он довольно долго лежал в больнице. Все, кто его видел в последние дни, а его и в Москве и больше всего в Переделкине видело довольно много людей, в один голос утверждают, что он был совершенно трезв. Нельзя было в полученных из ТАСС материалах не заметить и не очень скрываемую тенденцию во что бы то ни стало дискредитировать Фадеева, представить его забулдыгой, который в последние годы уже был конченым человеком, писать не мог, своих общественных обязанностей не выполнял. Это стремление очернить, опорочить покойного, к тому же грубо, топорно выраженное, – по своей сути совершенно безнравственное – свидетельствовало, нам это сразу стало ясно, что письмо Фадеева у тех, кому оно было адресовано, вызвало приступ ярости, помутивший разум…
Все полученные материалы набраны и поставлены на третью полосу. Вскоре, однако, последовало из ТАСС предупреждение ждать возможных поправок. Это означало, что номер газеты нельзя подписывать в печать до получения этих поправок или до того, как будет дан «отбой», поступит сообщение, что поправок не будет. Потом в редакции рассказывали, что одна из ведомственных газет – запамятовал какая – прозевала предупреждение ТАСС и напечатала материалы в их первоначальном виде.
Только вечером – номер поэтому задерживался – начали из ТАСС «капать» поправки – не все сразу, с паузами – это был процесс, где-то велась редакторская работа, проходившая, видно, непросто. Поправки все-таки были в сторону смягчения. Начальство, как говорят на флоте, стало, хотя и неохотно, отрабатывать задний ход. Произошло это после того, как Мариэтта Шагинян то ли в ЦК, то ли руководству Союза писателей закатила большой скандал (что-что, а это она умела делать, я несколько раз был тому свидетелем), уличая авторов официальных материалов в передержках, лжи, намеренном шельмовании покойного. Однако конечная – после всех поправок – тональность опубликованных документов все равно проработочная, пышущая злобой: «В последние годы А.А. Фадеев страдал тяжелым прогрессирующим недугом – алкоголизмом, который привел к ослаблению его творческой деятельности. Принимаемые в течение нескольких лет различные врачебные меры не дали положительных результатов. В состоянии тяжелой душевной депрессии, вызванной очередным приступом болезни, А.А. Фадеев покончил жизнь самоубийством».
Кстати, когда в следующем номере печатались материалы о похоронах Фадеева – триста строк на той же третьей полосе, единственный отклик, который газета поместила, был написан Мариэттой Шагинян – либо и на этот раз не могли выдержать ее напора, либо предложили ей выступить, чтобы сгладить произошедший скандал.
После всех малопристойных траурных сообщений гроб с телом Фадеева был, однако, выставлен в Колонном зале Дома союзов – самый высший разряд государственных похорон, туда как ни в чем не бывало явились руководители партии и правительства. Рассказывали потом, что в комнате президиума кто-то из них – кажется, Ворошилов – произнес патетическую фразу, предназначавшуюся для распространения в писательской среде: «Что вы делаете, вы ведь не в себя, а в нас стреляете!» Значит, если бы только в себя, то еще куда ни шло…
На похоронах Фадеева мне запомнились два человека. Борис Пастернак (он не взял с собой писательское удостоверение, по которому пропускали в Колонный зал, и мы его проводили) – было видно, что он потрясен случившимся, да он и сказал об этом нам, незнакомым людям. И Константин Симонов с почерневшим, обуглившимся лицом – то были следы не просто печали, а сердечной муки. Так во всяком случае мне тогда показалось…
«Литературка» при Симонове и при Рюрикове
Я работал в «Литературке» при трех главных редакторах, при трех разных «режимах», при трех составах редакции – и все это за шесть лет. Смена главного редактора неизбежно влекла за собой не только изменение курса газеты (главным образом по отношению к тому, что происходило в литературе и искусстве, но за этими процессами уже ясно просматривались определявшие их глубинные политические проблемы трудно наступавшей «оттепели», все углублявшийся раскол общества на сталинистов и антисталинистов), но и смену стиля внутриредакционной жизни, атмосферы, правил поведения. Происходило обновление не одной лишь редколлегии (из подписывавших газету только три человека сохранились все эти годы – Валерий Косолапов, зам. главного редактора, Георгий Гулиа, то курировавший какой-то конкретный участок редакционного поля, то не имевший определенных обязанностей, Борис Леонтьев, шеф международного отдела), но и сотрудников, почти поголовное в отделах литературы и искусства, здесь, как в пехоте после тяжелых боев, мало кто уцелевал. Преемственность, столь необходимая в любом деле, – и в газете тоже, – осуществлялась за счет нерушимости международного отдела, в котором почти ничего не менялось, скорее всего потому, что перемены, происходившие в жизни страны, сюда почти не докатывались, внешнеполитические критерии и оценки, если и менялись, то исключительно по команде сверху – именно таким образом были восстановлены отношения с Югославией (тут же появился пародийный куплет: «Дорогой товарищ Тито, ты теперь наш друг и брат, нам сказал Хрущев Никита: ты ни в чем не виноват»). Стиль же, подходы, глобальное обличение всего, что происходило за «железным занавесом», полностью сохранялись.
Не только тогда, когда я пришел в газету (года через полтора после того, как Симонова сменил Рюриков), но даже после Рюрикова, при Кочетове – и не в коридорных разговорах, а на планерках и летучках – то и дело вспоминали с укором: «А вот при Симонове…», вспоминали о той поре, как о золотом веке газеты. Симонов создал писательскую газету нового типа, не ограничивающуюся, как это было до этого на протяжении многих лет, лишь делами литературы и искусства, а наравне с ними занимающуюся широким диапазоном проблем жизни – от качества ширпотреба (во время предпринятой при Маленкове, но не осуществившейся попытки перекачать часть средств из группы «А» в группу «Б» газета ввела, например, рубрику «Рецензии на вещи») до быта в провинциальных рабочих общежитиях (был опубликован цикл отлично написанных на эту тему очерков Владимира Михайлова).
«Литературка» стала главной трибуной писательской публицистики, продемонстрировала возможности этого жанра, его общественный потенциал. В сущности, «Литературка» тогда была единственной газетой, имевшей свое лицо. Все остальные обычно наполовину, а порой и целиком заполнялись тассовскими материалами, да и в собственных в той или иной степени повторяли официальные – уже это делало их неотличимо похожими друг на друга. «Литературка» – пусть в определенных, не очень широких границах – все-таки обнаруживала собственный взгляд на вещи.
Как ни странно (в это сегодня трудно поверить, особенно молодым людям, не дышавшим тем воздухом, в котором было так мало кислорода свободы), обновленная «Литературка» была создана по прямому указанию Сталина. Так получилось, что Сталин даровал ей относительную свободу. Конечно, Сталин и думать не думал, что эта свобода может стать щелью для распространения либеральных настроений, которые выкорчевывались им после войны самым решительным, самым свирепым образом, у него были свои, совершенно иные цели – ему потребовался орган для неофициозной полемики с Западом.
В «Записках человека моего поколения» Симонов вспоминал, как было дело:
«– Мы здесь думаем, – сказал он (Сталин. – Л.Л.), – что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас вытекает. Союз писателей мог бы выпускать своими силами такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, а и политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты – так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» – газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.
Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах».
Указание Сталина, относившееся главным образом к международным делам, Симонов, реформируя «Литературку», осмелился истолковать расширительно. Видимо, он считал, что если Сталин будет доволен тем, как газета выполняет поставленную им задачу, все остальное сойдет ей с рук. Но кто мог знать, как долго будет действовать выданная Сталиным «индульгенция» и где границы той «левизны», которую он обещал терпеть? И чему он ухмылялся, призывая газету не бояться критики сверху?
Я не зря употребил здесь слово «осмелился» – со Сталиным, это все хорошо знали, шутки были были плохи, могло и не сойти с рук, и чем бы кончилось, какими карами, угадать невозможно. По тем временам и нравам «Литературка» выступала иногда отчаянно смело. Она затеяла, например, дискуссию о раздельном и совместном обучении в средней школе, продемонстрировав, что большинство читателей высказывается за совместное, поддержав эту точку зрения, хотя в редакции знали, что сам Сталин сторонник раздельного обучения девочек и мальчиков. О том же, чем, как правило, заканчивались споры со Сталиным, было известно хотя бы из гулявшего с 30-х годов анекдота, авторство которого приписывалось Радеку: «С товарищем Сталиным трудно спорить: ты ему сноску, он тебе ссылку».
Да и вообще, как все деспоты, Сталин был необычайно капризен. Никто не знал, какая вожжа ему нынче попадет под хвост, что он выкинет. Как-то мы с Косолаповым поздно засиделись в редакции – номер опаздывал. Сидим, томимся, ждем, когда же, наконец, дадут подписные полосы. Делать нечего, да и чем в эту пору заниматься, кроме выходящего номера? Лучшего времени для воспоминаний, кажется, не бывает, разве что в поезде дальнего следования, не зря в нашей литературе так много произведений представляют собой исповедь случайного попутчика.
Косолапов – к слову пришлось – вдруг вспомнил, как закрыли газету «Культуру и жизнь», в которой он работал ответственным секретарем. (Почти никто о ней не горевал, она в культуре проводила политику «выжженной земли», но дело в данном случае не в этом.) «Культура и жизнь» вполне процветала, был разработан план ее расширения – не запомнил, то ли увеличивался объем, то ли она должна была чаще выходить. Все это, как полагается, было утрясено с секретарями ЦК, причастными к делам идеологии и печати. Оставалась чистая в таких случаях формальность – постановление секретариата. Но на это заседание секретариата пришел Сталин – он уже бывал далеко не на всех заседаниях.
Когда доложили вопрос о «Культуре и жизни», он неожиданно для всех заявил: «Газета свою задачу выполнила, она уже не нужна, надо ее закрыть». Когда главный редактор пришел после секретариата и сказал, что подготовленный следующий номер не выйдет, надо создавать ликвидационную комиссию, вспоминал Косолапов, он сначала решил, что главный хочет его разыграть.
Сталин любил загадывать загадки даже «заведующим» – так он называл своих соратников. Ничего не объяснял – сами должны догадаться. На секретариате никто, конечно, не осмелился выяснять у Сталина, какую задачу «Культура и жизнь» выполнила и почему ее надо закрыть.
Я спросил у Косолапова:
– Узнали потом, чем газета ему не угодила, почему стала не нужна?
– Нет, – Косолапов только развел руками, даже гипотезы у него не было.
Симонов создал крепкую материальную базу обновленной «Литературной газеты». Все было поставлено на широкую ногу, с большим для тех времен размахом, но весьма практично, так чтобы материальное обеспечение приносило максимальную пользу дела (кстати, в какой-то мере Симонов опирался на опыт американских газет и журналистов, с которыми он познакомился после войны во время многомесячных командировок в Японию и США). Были существенно увеличены штаты, создана сильная и числом и по персональному составу группа спецкоров – это было новшество в газете мирного времени, подсказанное блестяще оправдавшей себя практикой «Красной звезды» военных лет. Установлены приличные оклады сотрудникам и высокий авторский гонорар; отправляемые в командировку члены Союза писателей получали суточные вдвое больше обычных. В международном разделе создано досье – Симонов выбил валюту для подписки на важнейшие зарубежные периодические издания. Немалые средства удалось получить и для пополнения справочной библиотеки, в скором времени она стала одной из лучших в Москве, к тому же редакции разрешалось заказывать по межбиблиотечному абонементу необходимые книги в Ленинской и Исторической библиотеках.
Для сотрудников газеты Симонов выхлопотал изрядное количество квартир (причем, по решению Моссовета, освобождающаяся жилплощадь получивших новые квартиры передавалась другим нуждавшимся в жилье сотрудникам – таким образом были более или менее устроены многие), а получить тогда, в условиях жесточайшего жилищного кризиса, квартиру или комнату было все равно, что на небо влезть. Думаю, что подобная забота о сотрудниках определила в какой-то степени высокий профессиональный уровень пришедших в «Литературку» журналистов и их горячую приверженность своей газете. Были построены (или получены от Литфонда) в Переделкине дачи и лыжная база. Начал сооружаться шестой этаж… Наверное, я перечислил не все, но, пожалуй, и этого достаточно, чтобы читатель понял, что «Литературка» из довольно захудалого ведомственного издания Союза писателей, влачившего унылое бедняцкое существование, превратилась в перворазрядную авторитетную газету с очень широкими возможностями.
После того как Симонова сменил Рюриков, все в газете, казалось бы, осталось по-прежнему. И вроде бы курс был в основном тот же, и обстановка в редакции почти не изменилась, и большая часть коллектива сохранилась. Но все стало словно бы на ступеньку ниже. Из «Литературки» ушли несколько опытных, сильных журналистов: Борис Агапов, Александр Макаров, Александр Кривицкий, Ефим Дорош, Николай Атаров, Александр Марьямов, Зиновий Паперный – одни сразу же, другие попозже (некоторых я еще застал), кто вслед за Симоновым в «Новый мир», главным редактором которого он был опять назначен, кто в другие издания, возникавшие тогда одно за другим: «Дружба народов», «Юность», «Наш современник» (вместо альманаха «Год…»), «Молодая гвардия», «Москва». Место ушедших занимали люди не такие яркие, не такие опытные. По традиции, сложившейся при Симонове, в редакции царили нравы демократические, критика, невзирая на лица, воспринималась как должное. И все-таки что-то изменилось и здесь. Стало меньше энтузиазма, горячности, безоглядности, дерзости, Все это материя тонкая, трудно уловимая, но попробую показать это на одном примере, прямого отношения к работе, к газетной полосе как будто не имеющем.
Еще при Ермилове, предшественнике Симонова в «Литературке», в редакции был создан, а при Симонове он расцвел и прославился «Ансамбль верстки и правки имени первопечатника Ивана Федорова» – это был лихой, искрометный капустник, творение могучей кучки наших остроумцев и самодеятельных актеров. Организатором и душой его был Зиновий Паперный, там блистали Анатолий Аграновский, Юрий Ханютин, Никита Разговоров, Валентин Островский, Вадим Соколов, Вера Степанченко. В редакции ансамбль имел сногсшибательный успех, все знали наизусть исполняемые куплеты и песенки, репризы вошли в редакционный жаргон. Ансамбль, пополняя свой репертуар новыми злободневными сценками и скетчами, выступал почти на всех праздничных вечерах, стал важной частью редакционной жизни, ее своеобразными дрожжами. Слава ансамбля вышла за пределы газеты – его стали приглашать в московские клубы, дома культуры, он шел нарасхват. При Рюрикове – и это свидетельство незаметно изменившейся ситуации – ансамбль стал все реже выступать в редакции, меньше появлялось у него новых номеров, и начальство это, кажется, устраивало – так было спокойнее.
Но однажды ансамбль пригласили за пределы Москвы – в Ленинград, и участники, уже не чувствуя прежней связи с редакцией и поэтому не считая нужным испрашивать разрешение у руководства газеты, с радостью согласились. О предстоящей гастрольной поездке узнало начальство – может быть, от ленинградских властей, которые, надо полагать, вовсе не желали видеть у себя московских возмутителей спокойствия, своих хватало. На летучке разразился скандал. Рюриков с несвойственной ему резкостью, с нескрываемым раздражением сказал, что руководство газеты не намерено больше терпеть отбившийся от рук ансамбль, самовольное решение о поездке в Ленинград переходит все границы. Вспомнив, что в одной из сценок капустника говорилось, что не ансамбль должен быть при газете, а газета при ансамбле на правах многотиражки, Рюриков заявил, что этого не будет, а те, кого такое положение не устраивает, пусть делают для себя соответствующие выводы. Допускаю, что, в отличие от легкомысленных и опьяневших от успеха участников ансамбля, Рюриков понимал (а быть может, даже точно знал), какими неприятностями и для газеты, и для самих участников кончатся эти гастроли, – кажется, это было время очередных «заморозков», – но, наверное, надо было как-то по-иному разрешить этот конфликт. Потому что после этой истории ансамбль прекратил свое существование. А в редакции поубавилось духа смелости и озорства…
Творческий коллектив – газета, театр, конструкторское бюро, – чтобы сохранить достигнутый уровень, должен постоянно стремиться вперед, не поддаваться коварному принципу: от добра добра не ищут. Топтание на месте чревато неизбежной деградацией. При Рюрикове многое уже делалось по инерции сложившегося в редакции стиля, так сказать, хорошо набитой руки, и это не могло не сказаться на газете. Внешне все как будто бы было неплохо, на общем газетном фоне «Литературка» все еще выделялась интеллигентностью, высоким уровнем журналистской культуры, число подписчиков продолжало расти, но мы, люди, ее делавшие, ощущали – еще как следует не осознавая – тревожные признаки деградации. Газета уже не решалась затеять дискуссию такого общественного масштаба и такой остроты, как о совместном или раздельном обучении в школе. Или выступить с материалом, подобным репликам Симонова против Бубеннова и Шолохова по вопросу о псевдонимах, за которым стояла проблема антисемитизма.
Раньше газета большей частью опережала читателей, вела их за собой. Теперь по некоторым позициям читатели оказывались впереди, газета отставала от их развития, вызванного начавшимся в стране общественным подъемом. К тому же она перестала быть в газетном мире вырвавшимся далеко вперед лидером. Другие газеты, пробужденные изменившимся, изменяющимся временем – например, «Комсомольская правда» – стали наступать «Литературке» на пятки. Свою роль в этом отставании сыграл тот сокрушительный удар по руководству газеты, который в свойственной ему хамовато-ернической манере (долгое время она почему-то выдавалась за народную, – считалось, что именно таким образом режут правду-матку) нанес на Втором съезде писателей Шолохов: «И чем меньше будет в редакциях газет и журналов робких Рюриковых, тем больше будет в печати смелых, принципиальных и до зарезу нужных литературных статей», – заявил он.
Презрительно брошенное «робкий Рюриков» вовсе не означало, как может показаться нынче людям, не знающим тогдашней общественной и литературной обстановки, что Шолохов хотел видеть во главе «Литературки» по-настоящему смелого редактора, при котором газета станет мужественной защитницей суровой правды в литературе и выразителем общественного пробуждения. Слова о храбрости, честности, непредвзятости не более чем камуфляж, скрывавший групповые интересы, желание видеть во главе «Литературки» своего человека. И грозно прозвучавшее из уст Шолохова, имя которого было самым мощным способом воздействия на партийных бонз со Старой площади, обвинение – это было началом групповой войны на уничтожение – толкало тех, кому оно было адресовано и кто прекрасно понимал его суть, конечно, не к смелости, а в противоположную сторону – к большей осмотрительности, к постоянной оглядке, перестраховке.
Еще и года не прошло после писательского съезда, как произошло то, чего так хотел и добивался Шолохов, – Рюриков был снят и назначен новый главный редактор – Кочетов, который, надо полагать, соответствовал представлениям Шолохова о смелом, беспристрастном, стоящем вне группировок, честном редакторе…
Тогда упорно говорили, что последним толчком для этого послужила история, связанная со все тем же выступлением Шолохова на съезде, – оно было первым ходом в задуманной кадровой комбинации, ждали только повода, чтобы ее завершить, свалить неугодного Шолохову и его компании редактора «Литературной газеты». И повод подвернулся.
В мае 1955 года Шолохову исполнилось пятьдесят лет. «Литературка» отметила эту дату с необыкновенным размахом и помпой: под шолоховские материалы был отдан полный разворот, вторая и третья полосы. Там три фотографии юбиляра, статьи и заметки сочатся медом и елеем. «Гвоздем» разворота мы считали отзыв Алексея Толстого о последней книге «Тихого Дона», добытый в архиве Института мировой литературы имени Горького. Шутка сказать, один классик советской литературы пишет о другом, не часто бывают такие удачи.
Алексей Толстой высоко оценивал шолоховский роман: «Произведение Шолохова «Тихий Дон», 4-я часть есть прежде всего произведение глубоко народное. Язык, образы, характеры, быт, эстетика, все это целиком из народа… Это выдвигает его роман в ряд первоклассных произведений русской литературы. Характеры Пантелея Прокофьевича и его внучонка Мишатки достойны отнесения к классическим образам. Это лучшие, наиболее удавшиеся лица в романе».
За это шолоховская партия в литературе уцепилась: как так, значит, Шолохову лучше всего удались не главные герои, а эпизодические персонажи! Не обесценивает ли это толстовские комплименты? И еще одно место отзыва было истолковано как скрытая мина, подложенная под «Тихий Дон». «Роман Шолохова, – писал Алексей Толстой, – это «Война и мир» в областном масштабе. Это не умаляет его значения. Кстати сказать, кое-где чувствуется и прямая преемственность. Но эта преемственность органическая. Поскольку у Л. Толстого был шире кругозор, образование, знакомство с историей, поскольку его знание сродного его общественного круга выходило за пределы Ясной Поляны и Хамовников – постольку шире и могущественнее размах Л. Толстого». Эти слова об областном масштабе картин «Тихого Дона», об интеллектуальном превосходстве Льва Толстого были истолкованы Шолоховым или его окружением как оскорбление живого классика советской литературы, как злонамеренный, мстительный выпад Рюрикова.
Не сомневаюсь, Рюрикову все это и в голову не приходило, иначе он бы ни за что не напечатал отзыв Алексея Толстого. Он был уверен, что этот хвалебный отзыв будет приятен Шолохову, и таким образом он, Рюриков, продемонстрирует, что как главный редактор «Литературной газеты» он выше личных обид. Но Шолохову и тем, кто стоял за ним или пользовался его именем, нужен был не мир в литературе, а пост главного редактора «Литературной газеты» для своего человека, который на этих «ключевых позициях» в соответствии с их интересами и вкусами «освободит обойму от залежавшихся там патронов, а на смену им вставит новые патроны, посвежее, в которых не отсырел идеологический порох», на которые не подействовала «слякотная погода, именуемая «оттепелью» – такую программу для будущего главного редактора наметил в своей речи на писательском съезде Шолохов.
«Пока все можете оставаться на своих местах»
Назначение Кочетова главным редактором вызвало в «Литературке» шок. Его мало знали в Москве, но все-таки докатилось и до нас, что за недолгое правление ленинградской писательской организацией он восстановил против себя большинство писателей: на отчетно-выборном собрании Кочетова с треском провалили. Трудно было понять, почему после такого скандального провала власти решили предоставить ему возможность проявить себя в столице, развернуться на всесоюзном поприще (потом это стало своеобразной традицией: Олег Шестинский после того, как ленинградские писатели таким же образом избавились от него, был отправлен в Москву на пост главного пастыря писательского молодняка).
Вскоре кто-то принес в редакцию эпиграмму:
Живет в Москве литературный дядя,
Я имени его не назову.
Скажу одно: был праздник в Ленинграде,
Когда его перевели в Москву.
Автор эпиграммы скрыл свое имя. Будущее показало, что такая предосторожность была не лишней. Через несколько лет высокопоставленные почитатели и покровители Кочетова исключили из партии Зиновия Паперного за неопубликованную пародию «Чего же он кочет?» на роман Кочетова «Чего же ты хочешь?». Стоит напомнить, что даже в сталинские времена, когда Вера Панова пожаловалась на Александра Раскина, ее разозлила его прекрасная пародия на «Кружилиху» (он как-то рассказал мне эту печальную для него и постыдную для Пановой историю), ему придумали все-таки другую кару: дали команду не печатать его пародии и эпиграммы.
Меньше всего мы ожидали, что после начавшегося в стране потепления газету отдадут литературным «ястребам», людям, как мы наивно полагали, уже вчерашнего дня. Назначение Кочетова казалось нелепым недоразумением, вызванным, наверное, строили мы догадки, отсутствием у начальства правдивой информации. Боже мой, как мы были еще слепы…
Вспоминая прошлое, порой удивляешься самому себе: как мог не видеть столь очевидное сегодня, как мог не понимать того, что нынче воспринимается как само собой разумеющееся. Но что поделаешь – так было: не видел, не понимал. Назначение Кочетова показалось громом среди ясного неба.
Но чему мы так поражались? Ведь только что убрали из «Нового мира» Твардовского. Убрали после свирепой проработочной кампании, мишенью которой было несколько материалов отдела критики журнала, признанных «идейно-порочными». Казалось, эта расправа не должна была оставить места прекраснодушию. Но почему-то – наверное, очень уж хотелось перемен к лучшему, это лишало трезвости – мы восприняли удар по «Новому миру» как огорчительный, но все-таки случайный эпизод (может быть, свою роль здесь сыграло и то, что Твардовского сменил Симонов, который, полагали мы, будет в журнале придерживаться того же курса). Стрелка барометра общественной атмосферы в стране, были убеждены мы, неотвратимо склоняется в сторону отметки «ясно». Мы многого тогда не знали, еще меньше понимали, принимая на веру декларативные заявления высоких руководителей о наступившей в стране поре решительных перемен, исправления тяжелых ошибок прошлого. Мы думали, как только уйдут с политической сцены люди из ближайшего окружения Сталина – Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов – дело быстро пойдет на лад, будут разбиты сковывающие страну оковы. Увы, все происходило не так: каждый шаг вперед давался с большим трудом, на партийном Олимпе одних сталинистов сменяли другие, не менее заядлые. Сейчас, читая мемуары таких выдвинувшихся тогда в первый ряд правителей страны деятелей, как А.А. Громыко или Д.Ф. Устинов, убеждаешься, что руководство партии и государства – почти поголовно – было сталинистским.