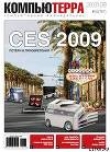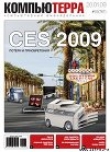Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Под неусыпным надзором
Я уже писал в связи со статьями Исаковского и Твардовского, как важно было для нас повышение эстетических критериев. С этой идеей Смирнов пришел в газету, как мне кажется, принимая за чистую монету все чаще повторявшиеся тогда в так называемых партийных документах, но носившие по преимуществу этикетно декларативный характер призывы «поднять», «усилить», «крепить» художественное мастерство и взыскательность. А тут еще Хрущев на всю страну заявил, что некоторые книги нельзя читать без булавки. Сергей Сергеевич сделал из простецкой хрущевской реплики далеко идущие выводы, счел, что она означает начало широкого наступления на литературную серятину. Хотя, по правде говоря, это еще был вопрос, какие именно книги нагоняли сон на Хрущева. Мы довольно скептически относились к убеждению Сергея Сергеевича, что власть предержащие так уж сильно заинтересованы в эстетическом совершенстве литературы, но это не мешало нам очень горячо, с большим энтузиазмом поддерживать идею Смирнова, мы видели в ней самую главную свою задачу. Мы считали, что нужно способствовать утверждению в литературе «гамбургского счета», во всяком случае по мере возможностей двигаться к этому, осточертели сановные псевдоклассики, дутые литературные репутации, бездарные полуграмотные сочинители и рифмоплеты, чувствующие себя хозяевами литературы.
Мы понимали, что здоровье литературы во многом зависело от литературной критики, от ее независимости, эстетической взыскательности. Состояние же критики никак не радовало, и хотя «оттепель» открыла какие-то возможности для людей честных и способных, тон все-таки задавали те, кто чутко улавливал, куда дует ветер со Старой площади, я уже не говорю о групповых заставах, обороняющих «кормушки».
Труднее всего было выдержать более высокие критерии в текущем рецензировании. Судя по тому, что на нас тотчас же начались злобные нападки, посыпались жалобы в высокие инстанции – и все это потом уже не прекращалось, – кое-что здесь нам все-таки удалось, попадания, видно, были точными. Хотя и нам, не хочу этого скрывать, приходилось дипломатничать, взвешивать, не всегда давать себе волю, закрывать глаза на какие-то слабые, плохие книги, не рецензировать их, если не можем сказать правду, – впрочем, «замалчивание» тоже ставилось нам в вину авторами, жаждавшими дифирамбов, а главное уверовавшими в то, что они им причитаются обязательным приложением к гонорару по высшей ставке.
Большие надежды возлагали мы на запланированную дискуссию о состоянии и задачах литературной критики, которая – так получилось само собой – переплелась с развернувшейся дискуссией о художественном многообразии. Мы надеялись, что с помощью дискуссии о критике удастся отбросить некоторые совсем уж обветшавшие догмы, разоблачить заскорузлые идеологические стереотипы. Вторая, сопутствующая цель, которая тоже имелась в виду, подразумевалась, заключалась в том, что мы решили «приучить» публику к дискуссиям, к тому, что их следует проводить не только в связи с большими праздниками литературы – так именовались в передовых статьях писательские съезды,– дискуссии должны становиться постоянным инструментом анализа и осмысления насущных проблем литературы.
Начинать дискуссию о критике мы намеревались острой статьей Георгия Мунблита, автор точно нащупал несколько реальных болевых точек современной литературной ситуации, для затравки статья вполне годилась. Дали ее читать Смирнову, к моему удивлению, он статью зарубил, сказав, что она недостаточно широко ставит проблему, начинать ею дискуссию нельзя, возникнет перекос. Но еще больше я удивился, когда вместо статьи Мунблита он предложил открыть дискуссию своими пространными «Заметками о критике». Когда его статья обсуждалась на редколлегии, у меня произошел первый серьезный спор с Сергеем Сергеевичем.
Ничего не имея по существу против его «Заметок», я был категорически против того, чтобы ими открывать дискуссию. Я считал это предложение тактически неграмотным, чреватым существенными осложнениями и потерями, ставящими под удар позицию газеты. Смирновские «Заметки о критике» наверняка будут долбать, на то и дисскуссия, причем долбать прежде всего и больше всего «справа», здесь нет предела, здесь безграничный идеологический простор, а допускаемая цензурой территория «слева» от позиции Смирнова совсем не велика и тут граница на замке, не перешагнешь ее, критике не разгуляться. Надо учитывать этот неизбежный крен. И наивно думать, что мнение главного редактора – это одно, а позиция газеты – совсем другое, что их можно отделить, далеко развести. Удары по смирновским «Заметкам» обязательно будут ударами по позиции «Литературки», не могут не быть. Разумнее выступлением главного редактора завершить дискуссию, раздавая всем участвующим в ней сестрам по серьгам. А если мы начнем дискуссию «Заметками», свою серьгу придется получить и Смирнову, и газете, деваться будет некуда. Хотим мы того или не хотим, подводя итоги дискуссии, в поисках равновесия, «золотой середины», придется отступать от смирновских «Заметок» «вправо», а может быть, и критиковать их.
Все это я выложил на редколлегии, но без успеха. Сергей Сергеевич остался глух к моим аргументам, он ни за что не хотел консервировать свою статью до конца дискуссии. Что говорить, каждому автору охота побыстрее увидеть свое сочинение напечатанным, это естественно, и Сергея Сергеевича как автора вполне можно понять, но как главный редактор, я был убежден в этом, он совершал ошибку.
Смирнов упирал на то, что если он откроет дискуссию, сама возможность критиковать статью главного редактора на страницах руководимого им издания, предоставляющаяся каждому желающему принять участие в дискуссии, – это самое лучшее подтверждение демократичности позиции газеты, практическое осуществление, как бы сегодня сказали, принципа плюрализма, обеспечивающего нормальное литературное развитие. Довод серьезный, от него не отмахнешься. Но я считал и сказал об этом на редколлегии, что демократизм, отсутствие групповых пристрастий не обязательно доказывать именно таким образом. Но никого не убедил…
Увы, дискуссия кончилась так, как я предсказывал на редколлегии. И не в том дело, что я был таким уж прозорливым. Чтобы угадать это, не надо было быть провидцем, требовалось немного трезвости, – простенькая двухходовая шахматная задачка из области газетной тактики. И никакого злорадного торжества – видите, я предупреждал, а вы не хотели слушать,– я не испытывал, все это было очень огорчительно, удар газете был нанесен весьма чувствительный. В сущности, дискуссия была не завершена, а прервана (как это произошло, чуть позже я расскажу).
В итоговой редакционной статье «Идейная позиция писателя (по поводу дискуссии о литературной критике и многообразии литературы)», которая была затребована в ЦК и там «изучалась», «выверялась», «выправлялась» и т. д. (на редколлегии потом Михмат сообщил, что ее читали три секретаря ЦК – вот как было дело поставлено), пришлось каяться, признавать какие-то обнаруженные бдительными поликарповскими подручными ошибки, в том числе и в статье Смирнова. Газету таким образом заставили присоединиться к злобным нападкам на себя своих противников: «Автору «Заметок о критике» необходимо было прежде всего глубже и шире поставить вопрос о партийности и идейности как основе нашей литературы, подчеркнуть благотворное влияние партийного руководства на советскую литературу. Справедливо критиковались «Заметки о критике» за нотки либерализма, недооценку принципиального значения недавней идейной борьбы… В «Заметках о критике» С.С. Смирнова не было в должной степени подчеркнуто значение идейной позиции писателя – и в этом их существенный недостаток». Досталось в редакционной статье и мне: «У некоторых участников дискуссии наметилась ошибочная тенденция принижения героического, некоего уравнивания героического и рядового, более того – недоверие к героическому в жизни. Так, отстаивая право художника живописать «прозу войны», Л. Лазарев в статье «Пядь нашей земли» («Литературная газета» от 18 июня 1959 г.) ни словом не обмолвился о книгах о войне, написанных в ином духе – духе высокой патетики. Л. Лазарев выделяет в современной нашей литературе о войне особое «некрасовское» направление, характерное некоей «окопной» правдой, и именно этой группе писателей отдает предпочтение. Получается не столько борьба за многообразие, сколько пропаганда одного стиля в творчестве, то есть пропаганда однообразия».
Сергей Сергеевич настойчиво внушал нам, что критика эта вполне обоснована и заслужена нами, в ней есть рациональное зерно и следует внимательно прислушаться к ней, учесть ее, сделать из нее надлежащие выводы. И если бы внушал это только нам – из педагогических соображений, чтобы мы не зарывались,– еще куда ни шло. Но он и себя старался убедить, что попало нам не зря, за дело, что мы – и он тоже в своих «Заметках» – впали в ересь эстетства и теперь должны замаливать идеологические грехи. Оказалось, что позиции руководства газеты не тверды, что Смирнов готов их сдавать, отступать, не держит ударов со Старой площади. На «Новый мир» тоже шла постоянная атака, еще более жесткий нажим, им тоже приходилось маневрировать, искать обходные пути, порой каяться, правда, сквозь зубы, во всяком случае, не с такой готовностью и не так истово, как Смирнов. Энергия сопротивления у Твардовского не иссякала, и он не намерен был идти навстречу требованиям Поликарпова, огрызался, отбивался. Конечно, с Твардовским тот же Поликарпов и более высокие цековские чины – Поспелов, Ильичев – разговаривали по-иному, чем со Смирновым, – поменьше было металла в голосе и командного рыка. Твардовского побаивались. И не только потому, что он был человеком, не позволявшим наступать себе на ногу, дававшим сдачу, но и потому, что он был автором ставших уже классическими «Страны Муравии» и «Теркина», первым поэтом страны, с ним считались на самом верху, к нему явно благоволил Хрущев. Кстати, думаю, что на Старой площади были обеспокоены и перспективой наметившегося сближения «Нового мира» и «Литературной газеты» и решили не медля нанести упреждающий удар по более слабому звену – «Литературной газете».
Конечно, ввязываясь в борьбу за повышение эстетических критериев, мы в общем – кто в большей, кто в меньшей степени – отдавали себе отчет в том, что на пути, который намечен, нас поджидают серьезные опасности – вся эта пекущаяся о идейной «чистоте» рать завопит об эстетстве, о пренебрежении идейностью, партийностью. Видел эти опасности, разумеется, и Смирнов – и быть может, более отчетливо, чем мы, ведь ему непосредственно приходилось иметь дело с теми людьми, от которых зависела судьба газеты, которые командовали ею. Он, несомненно, ломал голову над тем, чем и как обеспечить благорасположение или хотя бы не враждебное отношение начальства, более или менее застраховать новый курс «Литературки». И клюнул на предложение Рябчикова организовать выездную редакцию «Литературной газеты», послать специально оборудованный железнодорожный вагон со сменяющимися бригадами писателей и журналистов – каждую, кажется, на месяц – в Сибирь и на Дальний Восток, так сказать, по маршруту заканчивавшейся тогда печатанием поэмы Твардовского «За далью – даль». «Бригадники» будут присылать материалы главным образом об увиденных по пути великих достижениях, которые станут, уверял Рябчиков, украшением «Литературки», участвовать в читательских конференциях, выступать в порядке шефства в местных газетах, по радио и телевидению. Ничего нового в этом мероприятии не было, но расчет был на то, что реанимация гремевших в годы первой пятилетки выездных редакций столичных газет будет греть сердце начальства, обеспечит «Литературке» благосклонность властей. Вояж был организован не только с широким размахом, но и с большой помпой – первую бригаду принимала Фурцева, напутствовала, благословляла...
Ничего путного из этой затеи не получилось, да и не могло получиться – время другое, задачи – и общественные, и журналистские – совсем иные. К тому же с самого начала Рябчиков пустил это дело по линии самой беззастенчивой показухи и крикливой рекламы. На присылаемых в газету материалах лежала печать неистребимого репортерского верхоглядства, почти ничего до полосы нельзя было довести. Эта верноподданническая показуха не стала укрывающей нас дымовой завесой, не вызвала, как ожидалось, у начальства горячего прилива любви к «Литературке». Начатое под барабанный бой мероприятие закончилось незаметно, без победных фанфар. Пожалуй, единственным ощутимым положительным результатом стала смена руководства отдела внутренней жизни – на место провалившегося Рябчикова пришел Радов…
Как выяснилось, в поликарповском ведомстве за нами с самого начала было установлено неусыпное наблюдение, копился материал, свидетельствующий о нашей неблагонадежности, смутьянстве, в следственное «дело» заносились даже заголовки статей и рецензий. Прошло немногим больше полугода после назначения Смирнова и четыре месяца после писательского съезда как все это газете предъявили. Неожиданно в ЦК было собрано инструктивное совещание руководителей газет, журналов, издательств, творческих союзов, на котором Поликарпов сделал доклад, посвященный нашим прегрешениям, ошибкам, преступлениям, уклонам,– торопились обломать рога, пока не окрепли, сразу же пресечь обнаружившуюся крамолу. На совещание были приглашены все члены редколлегии «Литературки», чего обычно не делалось, вела совещание сама Фурцева, курировавшая в Президиуме ЦК культуру, что подчеркивало важность мероприятия – чиновникам от идеологии все эти протокольные тонкости зрелого бюрократического уклада были, разумеется, понятны. Идейно-воспитательная порка проводилась по первому разряду.
На летучке Смирнов, очень подробно пересказывая и комментируя доклад Поликарпова, – разве можно было хоть что-нибудь упустить из столь ценных указаний,– изо всех сил пытался соединить несоединимое. С одной стороны, донести до нас, что критика была серьезной, глубокой, основательной, как и полагается партийный критике, иной она просто не может быть. С другой, представить дело в таком свете, словно бы ничего особенного, ничего страшного не произошло. Это как бы плановое профилактическое обследование нашего идеологического здоровья, и нам предстоит в соответствии с установленным диагнозом и предписаниями самых авторитетных врачей заняться некоторыми необременительными оздоровительными процедурами. Все это должно пойти нам только на пользу. Если мы несколько скорректируем наш курс, строгое, но справедливое партийное начальство широко раскроет нам свои объятия.
Сергей Сергеевич был человек искренний, он в это верил или очень хотел верить, внушал себе, заводил себя,– не зря Твардовский как-то назвал его «самовзводом». И он отталкивал от себя мысль, что все, что мы пытались делать в газете, в принципе чуждо, враждебно Поликарпову.
«Речь на совещании шла,– сообщил нам Смирнов,– главным образом о разделе литературы, и я прошу товарищей из раздела литературы прислушаться к этим замечаниям, потому что мы согласны с ними, и нет сомнений, что эти замечания правильные…»
Приклеивание политических ярлыков, проработочное рычанье, невежественные благоглупости – вот из чего состоял доклад Поликарпова, представленный в качестве точки зрения ЦК, которая, конечно, обсуждению не подлежала, а должна была служить руководством к действию. Поэтому выступление Смирнова сплошь набито раболепными «полностью согласен», «совершенно справедливые замечания», «правильно говорили» и т.п. Впрочем, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что Сергей Сергеевич в своих комментариях отчасти «работал на публику». Нет, не столько на нас, угрюмо слушавших его выступление, но прежде всего на Поликарпова, который не поленится изучить стенограмму, чтобы проверить, не искажены ли в пересказе его ценные указания и в достаточной ли степени Смирнов, как писал Щедрин, «самообыскался», не уклонился ли от оздоровляющего самобичевания.
«Газета допускала (хочу обратить внимание на это повторенное Смирновым очень характерное словечко из лексикона партийных руководителей литературы – Л. Л.) на своих страницах (это совершенно естественно) высказывание различных точек зрения, тем не менее сплошь и рядом недостаточно проясняет свою собственную линию… Газета не может в дискуссии, как совершенно справедливо нам сказали, ограничиваться тем, чтобы печатать разные точки зрения, не прокладывая в дискуссии собственного русла, не ведя и не организуя эти дискуссии…»
Голосовали же мы за одного кандидата, и это называлось выборами, да еще самыми демократическими. Вот и дискутировать следовало в таком же духе.
Сергей Сергеевич продолжал:
«При всем том, что мы должны всесторонне оценивать произведение, ни в коем случае не отрывая содержание от формы, и мы в тех коренных статьях, которые были по вопросам мастерства (я имею в виду статью Исаковского, статью Твардовского), по которым не было никаких замечаний, наоборот, было сказано, что газета правильно ведет свою линию на повышение мастерства,– вместе с тем мы не должны забывать о том решающем критерии, который у нас есть при оценке произведений…»

О бесподобный язык тех лет: говорится одно, подразумевается другое, а делать надо третье. С помощью нехитрых оговорок: «вместе с тем», «наряду с этим», «нельзя забывать и», «тем не менее» и т. п. разом снимается и перечеркивается то, что вроде бы утверждалось перед этим. Указание на решающий критерий (разумеется, это идейность) подрывало курс на повышение эстетических критериев: какая там художественность, к чему она, если ценность произведения определяется прежде всего и главным образом его идейностью, вернее, тем, что Поликарпов под идейностью подразумевает. Нам внушали, что важен не талант, а его направление…
«Совершенно справедливое замечание,– начал Сергей Сергеевич новую тему, – что в целом ряде статей, которые у нас появились, ощущается желание смягчить остроту той идейной борьбы, которая происходила в недавнем прошлом в литературе, очень серьезной и важной идейной борьбы, о которой нам не следует забывать, тем более что нельзя сказать, что элементы этой борьбы не давали себя чувствовать и сейчас».
Современным читателям, наверное, нужно объяснить, что за идейная борьба имеется в виду. Это второй тур – после злополучной встречи с английскими студентами – избиения Зощенко, общегосударственная травля Пастернака, разгром «Литературной Москвы», яростные атаки на только-только заявившую о себе «оттепельную» литературу. Организатором этой борьбы был Поликарпов, особенно отличился на этом поприще Кочетов.
«В данном случае было высказано серьезное замечание по моей статье «Заметки о критике». Это замечание целиком и полностью относится к ней... Я должен признаться, что если бы мне сейчас пришлось ее писать, я написал бы несколько иначе, и упрек в том, что статья несколько вегетарианская, я должен принять».
Каково же было постоянное давление, многолетняя обработка психики (за собственное мнение – взыскание, за свободомыслие – вон из партии, вон с работы, упорствуешь – в лагерь), что неглупый, не робкого десятка человек уверовал, что его собственные наблюдения, его мысли ничего не стоят по сравнению с руководящим словом, сказанным на Старой площади, и стал вот так каяться. Передавали, что Кочетов, прочитав нашу покаянную редакционную статью, написанную на основе доклада Поликарпова, презрительно хмыкнул: «Слабы у Смирнова идеологические поджилки». Но дело здесь не только, даже не столько в личной стойкости. Для властей Кочетов был свой в доску, и ему разрешались вольности, которые ни за что не прощали Смирнову. Я вспомнил, как один знакомый чешский журналист мне сказал: «У нас уже разрешили критиковать китайцев, но только самым отъявленным догматикам».
Сергей Сергеевич говорил и говорил – казалось, перечню наших грехов не будет конца. От конкретных замечаний он переходил к более общим и обратно, видимо, так было и в докладе Поликарпова:
«В ряде статей заметны известные шатания и известная идейная неустойчивость. Главным образом здесь речь идет о вопросах взаимодействия героического и бытового, обычного в наших произведениях… Вопрос этот, товарищи, очень важный, и когда мы с вами задумаемся, то в решении этого вопроса до некоторой степени лежит, если хотите, определение дальнейшего пути советской литературы. В этом отношении назывались такие статьи, как статья Лазарева, статьи Сарнова, Маргвелашвили, Трифоновой. Создается впечатление, благодаря целому ряду формулировок, – я опять-таки прошу правильно понять меня: речь шла об отдельных замечаниях, ни одна из этих статей не признана вредной, но какие-то тенденции в этих статьях внушают опасение, и поэтому наше внимание на это обращено…»
Одобрялись на Старой площади лишь произведения приподнимающие, бравурно воспевающие современную действительность, то есть изображающие ее такой, какой хотело бы видеть ее начальство.
И опять конкретное замечание, из которого Поликарпов делал далеко идущие выводы:
«Упоминалась неудачная фраза Лидина в «Дневнике писателя»: что, мол, писатель определяет эпоху, писатель – царь и бог человечества. Это, конечно, у Лидина неудачная фраза, и мы признали, что это неудачная фраза, и сказали, что наша газета не собирается проповедовать эти вещи, проповедовать культ писателя. Мы с вами знаем и понимаем, что писатели воспринимают себя прежде всего как верных помощников нашей партии, проводников политики партии, и нет сомнений, что более важных задач, чем эта, у писателей нет…»
Похоже, что Поликарпов действительно конспектировал каждый наш номер – так он однажды сказал Михмату. Поразительная реакция на то, что в статье Лидина было всего лишь красивой фразой, не более того, никакого реального содержания, близкого тому, что обнаружил Поликарпов, автор, конечно, в виду не имел. Лидин лишь повторил общее место: по давней российской традиции в писателе видели властителя дум, нравственного наставника. Это было расценено Поликарповым как посягательство на власть партии. Только партия, ее мудрые руководители способны и имеют право нести нам свет истины. А писателей, которые возомнили или возомнят себя высокой нравственной инстанцией, сразу же поставят на место, дадут им по рукам. Никогда прежде (даже при Сталине соблюдался некоторый декорум, писателей величали «инженерами человеческих душ») так тупо и агрессивно, как это делал Поликарпов, не утверждалось: у владычицы-партии золотая рыбка – литература должна быть на побегушках…
Вывалив на нас груду этих и других такого же рода замечаний и указаний, свидетельствующих о том, что на Старой площади нас читают через лупу, что на нас идет охота, нас обложили, закончил, однако, Сергей Сергеевич духоподьемно:
«Мы приехали из ЦК в очень хорошем, бодром настроении и считаем, что то, что там было сказано, должно нам действительно помочь, и это сказано вполне справедливо, нам нужно внимательно к этому прислушаться, потому что это критика еще мягкая, нас следовало бы критиковать более жестко».
Все это Сергей Сергеевич говорил, успокаивая не только нас, но и себя. Какое уж там хорошее, бодрое настроение! С той поры нас в покое уже не оставляли, вся газетно-журнальная свора была спущена на нас, рвала на части. За две недели ноября тринадцать выступлений, посвященных «Литературке». Пошли на нас в атаку и внутри редакции – те, кто хотел спокойной, одобряемой на Старой площади жизни…
Смирнов пришел в «Литературку» с желанием выпускать острую и живую газету. Но после сделанного нам Поликарповым официального внушения на дискуссиях пришлось поставить крест. Иногда вспыхивали острые споры, как между М. Рыльским и К. Паустовским, обменявшимися открытыми письмами, в которых были затронуты некоторые важные и больные проблемы, напрашивавшиеся на широкое обсуждение, были и жаждавшие их обсудить. Но, увы, пришлось ограничиться лишь публикацией писем и на этом поставить точку. Со Старой площади поступила команда: «Не раздувать!»
Об одном несостоявшемся выступлении, которому я придавал большое значение, я до сих пор вспоминаю с горечью. История эта заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробно.
Как-то то ли в ЦДЛ, то ли во дворе Союза писателей я столкнулся с Борисом Полевым. Утром я прочитал в «Комсомольской правде» большое его письмо «Таким ли должен быть памятник героям Сталинграда?», в котором он, побывавший там во время боев за город, с возмущением писал о том, что многие исторические места сталинградской обороны уничтожены или вот-вот будут уничтожены, резко критиковал проект мемориала на Мамаевом кургане за помпезность, дорогостоящее и безвкусное украшательство:
«Люди вправе ожидать, даже требовать, чтобы в этом городе, возрожденном после войны, им показали заповедные уголки, своим видом напоминающие о том, что тут было, как бы сохраняющие героический дух минувшего времени. Мне кажется делом большой важности восстановить такие наиболее памятные места в разных концах города. Сейчас это нетрудно и недорого сделать.
Сам же памятник героям этой легендарной битвы должен, как мне кажется, быть строгим, мужественным и простым. Кто из участников и свидетелей битвы не мечтал о таком увековечении?»
Стоит сказать, что все это писалось задолго до того, как слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали несомненными. Помню, в ту пору писателю, сказавшему, что в Москве необходимо установить мемориальные доски, увековечивающие события и героев войны, один очень ответственный товарищ бросил реплику: «Нечего превращать нашу столицу в кладбище».
Я сказал Полевому, что его письмо мне очень понравилось (так сложилась моя фронтовая биография, что мне было не безразлично, какой монумент воздвигнут в Сталинграде) и спросил, будет ли «Комсомолка» давать отклики.
– Скорее всего, нет, – ответил Полевой.
– Жаль, что не у нас напечатали, – сказал я, явно преувеличивая свои служебные обязанности и возможности. – Мы бы обратились к тем, кто там воевал, к писателям, связанным со Сталинградом…
– А что вам мешает это сделать сейчас? Дело-то общее. И это будет прекрасно, если не одна «Комсомолка» выступит… – загорелся вдруг пришедшей ему в голову мыслью Полевой.
– Так-то оно так, но после другой газеты… – промямлил я, уверенный в тот момент, что это совершенно невозможно – пойти по следам другой газеты, это явное нарушение принятых в газетном мире законов.
«А почему, собственно, нельзя? Кто устанавливал навеки эти законы? Разве мы что-нибудь отбираем у «Комсомолки», ведь она дальше не собирается этим заниматься? А нам кажется, что точку ставить еще рано» – так примерно рассуждали мы в отделе литературы, когда я рассказал о разговоре с Полевым. И решили сделать полосу.
Естественно, что мне сразу же пришли в голову как возможные авторы – Некрасов и Симонов. Я позвонил Некрасову в Киев, а Симонову в Ташкент – он тогда там жил. Оба они уже прочитали письмо Полевого в «Комсомолке» и сразу согласились написать. Симонов посоветовал мне обратиться к Михаилу Луконину, который детство и юность провел в Сталинграде, а из военных – мы хотели, чтобы в обсуждении непременно участвовал кто-нибудь из военачальников, прославившихся в Сталинграде, – к генералу Родимцеву. «А как его отыскать?» – спросил я. «Кажется, он служит теперь в Петрозаводске, – ответил Симонов. – Я выясню и позвоню вам». Назавтра Симонов – он ничего не забывал – позвонил мне и продиктовал телефон Родимцева. Я позвонил Родимцеву и предложил прислать корреспондента. «Зачем, – удивился он, – я сам напишу». Луконин связал нас с маршалом Еременко, который тоже дал свое согласие и вскоре прислал статью – это был самый большой материал на полосе.
В общем полосу мы сделали очень быстро. Она состояла из выступлений всех этих авторов и большой фотографии макета мемориала на Мамаевом кургане. Увы, у меня полоса не сохранилась, не нашел я ее и в архиве «Литературной газеты», только в архиве Симонова раскопал копию его заметки «О конкурсе на проект памятника защитникам Сталинграда», которая в полосе была заверстана под снимком. Я воспроизвожу ее (наверное, читатели уже поняли, раз я заговорил о поисках в архивах, значит, полоса света не увидела – как и почему, чуть позже расскажу), по-моему, некоторые общие соображения Симонова не утратили актуальности:
«Я рад предложению «Литературной газеты» высказаться на ее страницах о будущем памятнике героям Сталинградской битвы.
Мне кажется, что это важный вопрос, и Борис Полевой, уже писавший об этом на страницах «Комсомольской правды», был очень прав, что громко заговорил о принципиальной важности и того, каким будет этот памятник, и того, в какой обстановке должно происходить создание и обсуждение его проектов.
Начну со второго. Сталинградская эпопея – гордость нашего народа и его армии. Создание памятника героям Сталинграда – такое же всенародное дело, как создание Дворца Советов или Пантеона.
Думается, что право любого советского человека и в том числе в первую очередь участников минувшей войны, среди них участников битвы за Сталинград, – знать, каким памятникам хотят скульпторы и архитекторы увековечитъ в сознании будущих поколений это великое и героическое событие.
А проект, конечно, должен быть не один. На такой памятник должен быть объявлен закрытый и открытый конкурс. Да и как же иначе! Разве мы можем, думая о таком памятнике, все многочисленные и разнообразные возможности будущего творческого решения этой задачи заранее ограничить тем, что будет предложено одной архитектурной мастерской, одним, даже пусть очень даровитым скульптором?
Польза конкурсных проектов очевидна. Вспоминая, например, конкурс на памятник Маяковскому в Москве, и все обсуждения и колебания, творческие споры вокруг него, я думаю, что не будь этого конкурса – на площади Маяковского, вполне возможно, стоял бы не нынешний замечательный памятник Кибальникова, а другой – менее значительный, менее сильный и смелый.
Ведь были и другие проекты, и сами авторы считали их более выдающимися, чем проект Кибальникова, и у этих авторов были свои и очень энергичные сторонники.
К несчастью, у нас в искусстве и до сих пор еще порой случается так, что иной маститый художник подкрепляет силу своего таланта еще большей силой напора, дополняет свое искусство мощными организационными мерами. От таких вещей мы должны быть полностью застрахованы, в особенности, когда речь идет о произведениях искусства, которые должны стать достоянием сотен миллионов зрителей.