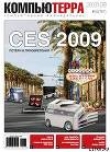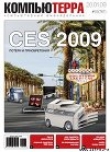Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Постановление Секретариата ЦК было плодом невежества и злобы – это было ясно и тогда. Но такие документы не обсуждались и не оспаривались, даже когда были очевидно бредовыми. Полагалось признавать ошибки и каяться, что и пришлось сделать «Литературке». В редакционной статье «Против искажения исторической правды» она секла меня и себя.
Так в одной и той же статье я выступил и защитником «литературных лежебок» (так писала «Правда»), уводящим литературу от насущных задач современности, и проповедником «самодельного, слепого увлечения архивным «первооткрывательством», как было припечатано в редакционной статье «Литературной газеты». Я рассказал о двойной экзекуции моей статьи, потому что эта история, выглядящая сегодня полуанекдотической (тогда, впрочем, не казавшаяся такой уж смешной), вскрывает механику партийного руководства литературным делом. По команде со Старой площади на вольнодумцев, на отбившихся от партийно-государственных рук, на шагнувших не туда (как я со своей статьей о томе «Новое о Маяковском») наваливались «автоматчики» (этим армейским определением, сменившим сталинское «инженеры человеческих душ», упивались ревнители «идейной чистоты», главные действующие лица проработочных собраний и пленумов в Союзе писателей), пресса, бьющая наповал по намеченным в «сферах» целях, запуганный и в свою очередь наводящий страх цензорско-редакторский аппарат.
«Автоматчики» смыкают ряды
Когда, как в «оттепельные» времена, не удавалось добиться должного послушания силами одних «автоматчиков», в наведении порядка принимало участие самое высокое начальство. Учить писателей уму-разуму призывали соответствующим образом информированного и нацеленного, попросту говоря, науськанного Хрущева.
Предстоял пленум правления Союза писателей, повестка дня которого – «О некоторых вопросах развития советской литературы после XX съезда КПСС» – была сформулирована таким образом, что он мог быть повернут в любую сторону. Суслов и Поликарпов приложили немало усилий, чтобы на этом пленуме расставить все в литературе на намеченные ими места.
За день до пленума (в мае 1957 года) была организована встреча в ЦК некоторых участников пленума с руководителями партии и правительства. На встрече выступил Хрущев, речь которого должна была предопределить и содержание дискуссии, и ее главные итоги, и объекты критики. Хрущев, то ли боясь своих верных делу Сталина соратников – через несколько недель на пленуме ЦК произойдет решающая схватка с ними, которую он с большим трудом выиграет, – то ли опасаясь нарастающей волны антикультовых настроений и выступлений в низах, особенно в среде интеллигенции, а может быть, и того и другого, довольно неуклюже маневрировал, отступая от основных положений своего доклада на XX съезде («...Некоторые товарищи односторонне, неправильно поняли существо партийной критики культа личности Сталина. Они пытались истолковать эту критику как огульное отрицание роли И.В. Сталина в жизни нашей партии и страны и стали на ложный путь предвзятого выискивания только теневых сторон и ошибок в истории борьбы нашего народа за победу социализма, игнорируя всемирно-исторические успехи Советской страны в строительстве социализма»). Перейдя к литературе, Хрущев разнес роман «Не хлебом единым», который, видимо, читал и который, скорее всего, ему понравился («В книжке Дудинцева есть правильные, сильно написанные страницы, но общее направление книги неверно в своей основе»). Еще больше досталось «Литературной Москве», которую Хрущев, похоже, и не раскрывал, может быть, ему показывали соответствующим образом препарированные цитаты («В этом альманахе были опубликованы порочные в идейном отношении произведения и статьи, вызвавшие резкое осуждение со стороны нашей общественности и прежде всего писателей»). Зловещим предупреждением прозвучало в речи Хрущева напоминание о недавних кровавых событиях в Будапеште («Мятежа в Венгрии не было бы, если бы своевременно посадили двух-трех горлопанов») – это означало, что в случае чего руководство страной не остановится перед тем, чтобы применить испытанные сталинские педагогические приемы.
Можно не сомневаться, что эта речь была изделием сусловско-поликарповского аппарата. Хрущев в данном случае выступал ретранслятором взглядов реакционно настроенного руководства идеологических служб и пригреваемых им писателей, таких, как Кочетов, Грибачев, Софронов, Соболев, ретранслятором, многократно усиливающим авторитетность их взглядов, они как бы приобретали статус государственных предписаний. Твардовский записал тогда в дневнике – его впечатления и настроения показательны: «Речь Хрущева – она многими благоговейно и дословно записана – рассеяние последних иллюзий. Все то же, только хуже, мельче. Рады одни лакировщики, получившие решительную и безоговорочную поддержку… Вечером после совещания поехали на могилу Фадеева. С поминок на поминки, как сказал удрученный Овечкин. Процентов 70 участников совещания также были удручены, казалось, что сам Сурков…»
Кстати, по моим наблюдениям, Сурков терпеть не мог софроновско-грибачевскую компанию. Однажды по каким-то газетным делам я разговаривал с ним в фойе ЦДЛ. Транслировали по внутреннему радио собрание, которое шло в зале. Витийствовал Грибачев.
– Не могу слушать этого господина, от сверкающей головы которого на потолке зайчики, – неожиданно, без связи с нашим разговором, зло и презрительно сказал Сурков.
На совещании в ЦК судьба пленума была решена, торжествовали те, кого Твардовский назвал лакировщиками, поддержанные Хрущевым, они победили еще до того, как началось сражение. Сменяя друг друга на трибуне, «автоматчики» повторяли на пленуме сказанное вчера Хрущевым об идейных шатаниях, об огульной критике Сталина, у которого были большие заслуги, старались перещеголять предыдущих ораторов в отыскивании новых и новых пороков в приговоренных к идейному расстрелу произведениях, требовали к ответу их авторов, редакторов, их опубликовавших, признания ими своих ошибок, покаянных речей.
От всего этого веяло безысходным мраком. Казалось, все кончено, литературе после такого удара в ближайшем будущем не подняться. Если бы не одна деталь, врезавшаяся мне в память. Она пробуждала надежду. В полупустом зале произносились погромные речи, а в шумных фойе на столах продавали только что вышедшие крамольные книги: «Не хлебом единым» и «Оттепель», тут было настоящее столпотворение, жаждущие купить эти книги так напирали, что один из столов опрокинули. Значит, страха у людей стало поменьше, и, быть может, «заморозки» не продержатся долго.
Однако победа «кочетовцев» на пленуме была закреплена еще одной, состоявшейся через несколько дней встречей представителей художественной интеллигенции с руководителями страны на подмосковной даче. Рассказывали, что там к восторгу «автоматчиков», Хрущев, не выбирая выражений, клеймил «отщепенцев», грозил им всяческими карами («Мы не станем цацкаться с теми кто нам исподтишка пакостит»), набросился с совершенно неслыханной для государственного деятеля грубостью на Маргариту Алигер, кричал, что беспартийному Соболеву доверяет больше, чем ей, члену партии. Все это носило совершенно неприличный характер. Объясняли хрущевские эскапады тем, что он перебрал – прием был роскошный, коньяк и вино лились рекой, к тому же было жарко и душно, вот его и развезло...
Я думаю, что дело не в этом, во всяком случае, не только в этом. Хрущев был человеком импульсивным, заводным, самовоспламеняющимся. Я лишь однажды видел его вблизи – когда он выступал на Третьем съезде писателей. Сначала он просто читал подготовленную ему речь, затем стал отрываться от текста, импровизировать – с некоторой робостью, ненадолго, но почувствовав, что слушают его хорошо, реагируют живо и доброжелательно, осмелел, отодвинул в сторону страницы и стал рассказывать длинные истории о друге юности – рабочем поэте Махине, о трагической судьбе какого-то вора. Его неудержимо несло, он уже не мог остановиться – это не он говорит, а его говорит, подумал я.
Очень похожее, видимо, произошло и на том загородном правительственном обеде. Можно не сомневаться, что сусловско-поликарповская контора прожужжала Хрущеву уши, какую большую роль сыграло его выступление перед участниками пленума, благодаря ему пленум прошел на высоком уровне, наиболее авторитетные писатели его поддержали и т.д и т.п. Он в это поверил, поверил, что понравился, и решил, что с этой публикой можно разговаривать как со своими – в высшем свете партийно-государственной номенклатуры был принят такой хамский тон. Так что духота и горячительные напитки вряд ли сыграли тогда решающую роль. Потом Хрущев в таком же тоне несколько раз объяснялся с деятелями литературы и искусства и не за банкетным столом…
Кочетов после пленума ликовал – наша взяла, теперь не надо оглядываться, осторожничать, теперь он может развернуться вовсю. Обычно не очень словоохотливый, он выступил на летучке с большой программной речью, не сулившей ни литературе, ни газете, ни нам ничего хорошего – руль перекладывался еще круче вправо, дальше некуда. Речь эта, мне кажется, представляет интерес для истории литературы, и я процитирую из нее несколько наиболее выразительных мест, сопровождая их комментариями, вскрывающими сейчас не всегда понятную суть дела.
«По моему убеждению, по моим представлениям, – заявил Кочетов, – этот писательский пленум имеет не меньшее, а я думаю, даже большее значение, чем Второй съезд писателей, поскольку на Втором съезде оказалось много нерешенных вопросов, а некоторые запутаны».
Это могло означать только одно: возвращение к установкам, которые определяли литературную жизнь не только до XX съезда партии, но и до Второго съезда писателей, то есть к сталинско-ждановским установкам.
«Прежде всего, – конкретизировал свою мысль Кочетов, – были запутаны вопросы ложным лозунгом консолидации во имя консолидации. Как известно, на этой основе все и смешалось. Были составлены без всякого определенного принципа редколлегии многих печатных органов, которые по существу потом коллегиально не смогли работать, потому что в них вошли люди крайних взглядов…»
Это был намек не только на раскол в редколлегии «Литературной газеты», на его конфликт с Овечкиным, Всеволодом Ивановым. Кочетов уже планировал вскоре развернутую газетой атаку на новые журналы – «Москву» и «Молодую гвардию», позиция которых была близка к «Новому миру», «Литературной Москве» и старой «Литературке». Вскоре были напечатаны заушательские «Заметки о журнале «Москва» И. Кремлева. Вслед за этим было организовано такого же направления обсуждение журнала в Союзе писателей – в опубликованном «Литературкой» отчете с вполне нацеленным названием «С позиций партийной принципиальности» задавался риторический вопрос: «Какие же выводы для себя сделали редакция журнала «Москва» и его главный редактор Н. Атаров?.. Обретет ли «Москва» в самые кратчайшие сроки верные ориентиры, прочную идейную и художественную платформу?»
По такому же сценарию разворачивалась атака на журнал «Молодая гвардия». Появился обзор этого журнала Б. Соловьева «Так ли надо воспитывать молодежь?», в котором давался, конечно, отрицательный ответ на этот вопрос.
Все эти материалы нельзя назвать доносительскими только потому, что они были «заказными», инспирированными тем же Поликарповым и его подручными, служили им поводом – этого требует «общественность» – для «оргвыводов». Н. Атарова и А. Макарова сняли, сформировали из кочетовских единомышленников новые редколлегии. Эти кадровые перемены, вызванные «заморозками» и направленные на то, чтобы подморозить общественную жизнь, имели тяжелые долгосрочные последствия. Отвоевав эти издания во время наступления реакции, поддержанной верховной властью, «охранители» уже не выпускали их из своих рук. Другие органы печати то разворачивались и дерзали, то пережидали, притихали – в зависимости от общественной погоды, от давления властей, эти же постоянно гнули свое.
Затем Кочетов принялся громить поверженных на пленуме отступников от «принципа партийности», изображая дело так, что все или почти все писатели, имеющие вес в литературе, на его, Кочетова, стороне: «...Осталась кучка литераторов, главным образом собравшаяся вокруг альманаха «Литературная Москва», со своей программой, глубоко ошибочной или глубоко неверной от начала до конца…Нам предстоит разобраться литературными средствами, как небольшая группа, сплоченная вокруг альманаха «Литературная Москва», как она сумела создать впечатление, что она и есть московская организация».
Потом Кочетов взялся за сотрудников газеты. Ясно было, что гайки будут закручиваться все туже и нам не поздоровится.
Тошнотворное чувство вызвала эта речь победителя, за спиной которого стояли власти, упивающегося возможностью топтать поверженных. Горе побежденным, думал я, имея в виду не только писателей, отданных Хрущевым на растерзание кочетовской камарилье, но и судьбу газеты, и свою собственную судьбу. За предыдущие месяцы Кочетов сильно разорил «Литературку», буквально на глазах падал ее авторитет. Теперь ей будет конец, он ее доконает. Та бешеная «антилиберальная» программа, которую заявил на летучке Кочетов и которую будет, закусив удила, проводить в жизнь, закончится крахом газеты.
Так и случилось. Удручающие сводки докладывал на летучках отдел писем: читательская почта таяла день ото дня. Кто же станет писать в газету, которая старательно обходит все острые проблемы, отворачивается от реальной жизни, знать ее не хочет? Это были плоды деятельности прежде всего отдела внутренней жизни, который Кочетов нацелил на «воспевание» и «прославление». Ощутимо убывало число читателей-подписчиков – за один год газета потеряла свыше ста тысяч.
Еще хуже были дела в отделе литературы и искусства. «Литературка» стала походить на еще не забытую литераторами старшего поколения «Культуру и жизнь» – главный палаческий орган конца сороковых газет (это было детище Управления пропаганды и агитации ЦК, возглавляемого тогда Г. Александровым, отчего газету окрестили «Александровским централом»). В каждом номере «Литературка» кого-нибудь поносила и громила. Журнал «Пионер» – за рассказ Макса Бременера «Первая ступень», «Театр» – за дискуссию о пьесе Александра Штейна «Гостиница «Астория», «Юность» – за повесть Лазаря Карелина «Общежитие», «Искусство кино» – за статью Александра Аникста «О социалистическом реализме». Это неполный перечень всего за два месяца…
«Литературная газета» той поры, преследовавшая все мало-мальски талантливое в литературе, все неординарное, весьма способствовала тому, что у читателей выработалась привычка, ставшая стойким рефлексом: если газеты ругают какую-то вещь, значит, надо обязательно прочитать, ведь зря ругать не станут, только когда в книге есть что-то острое и интересное.
Шефом отдела русской литературы и членом редколлегии Кочетов взял Михаила Алексеева – молодого писателя, взращенного «Воениздатом». Я его не читал, единственное, что слышал о нем до его прихода в газету, было связано с паскудной историей тяжбы «Воениздата» с Василием Гроссманом, затеянной после публикации разгромной статьи Михаила Бубеннова о романе «За правое дело». «Воениздат» не только не стал издавать роман, но решил через суд востребовать выданный автору аванс. На этом суде интересы издательства очень напористо отстаивал Алексеев. Этот эпизод, как показала потом его работа в «Литературке», не был в биографии Алексеева случайным. Он принадлежал к единомышленникам Кочетова, деятельно реализовал его программу удушения «оттепельной» литературы. Но был человеком более гибким, чем Кочетов, более дипломатичным, не во всех случаях лез демостративно напролом, варил тот же суп, стараясь не разжигать слишком большого огня.
При Алексееве был выделен на правах некоторой автономии отдел литературоведения и эстетики. Алексеев не скрывал, что мало смыслит в этих материях, его совершенно не занимали эти, как ему казалось, далекие от текущей литературной жизни проблемы. Отдел возглавил Сурен Зурабович Гайсарьян – человек мягкий, доброжелательный, ценитель поэзии, влюбленный в стихи Блока и Есенина. По многолетнему профессиональному опыту он был журналист, а не литературовед, но у него был давний интерес к литературоведческим проблемам, к научной литературе. Как и многие его ровесники, он был осторожен – даром не прошел опыт 30-х годов, когда за опрометчиво написанное слово, за не ту цитату можно было не только вылететь из газеты с волчьим билетом, но и отправиться в гости к Ежову или Берии. Потом, когда судьба нас снова на какое-то время свела в журнале «Вопросы литературы», он иногда рассказывал о ледянящем страхе тех лет, считая, что, как и многие его ровесники, чудом уцелел. Гайсарьян, как мог, оберегал и защищал своих сотрудников – Александра Лебедева, умного, желчного, позже завоевавшего себе имя талантливой книгой о Чаадаеве, и автора этих строк.
Кочетову мы были поперек горла, это прежде всего нас и Владимира Огнева он имел в виду, говоря о тех, кто в редакции сочувствует направлению «Литературной Москвы». Он не раз грозил на летучках и собраниях, что доберется до нас. И если мы с грехом пополам на своем теоретическом хуторе пережили кочетовское правление, то во многом благодаря заступничеству Гайсарьяна, под его крылом, хотя нас порой и раздражали его осторожность, его законопослушность. Конечно, надо было уходить из кочетовской газеты. Работать там было тяжко и стыдно, но из моих попыток найти себе новое место ничего не получилось, в редакциях, направление которых мне было по душе, все было забито. А уйти просто на улицу я не мог: две дочери – восьми и четырех лет. Я уже и до и после аспирантуры хлебнул существование без работы и постоянного заработка,
Алексеев для освещения текущей литературы набрал новых сотрудников, в сущности, от них требовалось лишь одно: неуклонно проводить кочетовский курс, верно служить Алексееву. Были среди них и люди, не лишенные журналистских способностей, – Дмитрий Стариков и Владимир Бушин, хотя некоторые их статьи заставляли говорить: да, способные, но способные на все. Правда, они были скорее исключением. В основном отдел состоял из людей, не умевших не то что написать что-нибудь путное, но как следует отредактировать статью.
Но и это еще куда ни шло. С появлением их в газете стали беззастенчиво обделываться какие-то нечистоплотные групповые делишки. Стали случаться и вовсе из ряда выходящие происшествия, попахивающие уже уголовщиной…
Все это прежде было совершенно немыслимо. Нет, я не хочу сказать, что раньше редакция состояла из одних ангелов. Время от времени на партийных или профсоюзных собраниях кому-то внушали, что когда пьют, надо закусывать, чтобы потом ночевать дома, а не в отделении милиции. Кого-то песочили за чрезмерное пристрастие к «амурно-лировой охоте». Наказывали за небрежную работу, за профессиональные проступки: за несвоевременно сданный материал, что повлекло за собой опоздание газеты, за плохо отредактированный – правка в полосе превысила нормативы. За проскочившие ошибки.
Я однажды в каком-то отчете ляпнул: секретарь ЦК и МК КПСС Е.А. Фурцева. Она обратила на это внимание – вообще ни одна ошибка не остается не замеченной – и не поленилась позвонить в газету, чтобы напомнить, что она секретарь не МК, а МГК. Она не гневалась, не ругалась, а только указала на ошибку. Мне была за это изрядная, но вполне справедливая выволочка. Помню, напечатали: «Чернышевский призывал к революционному свержению самодержавия и крестьянства», – за что взыскания получили все – от готовившего статью редактора до дежурного члена редколлегии, который вел номер. Вообще газетные «ляпы» – это какая-то непостижимая стихия, здесь действуют совершенно иррациональные силы. Проскочила грубая ошибка, вызвавшая много шума, виновники получили строгие взыскания, проведены собрания да совещания, все нацеливаются на борьбу с ошибками, усиливается контроль и проверка. До ряби в глазах читаются и перечитываются стоящие в полосе материалы, а «ляпы» сыплются, как из дырявого мешка. Это вроде эпидемии. Но постепенно бдительность ослабевает, спадает нервное напряжение, редакторы успокаиваются, и ошибки сходят на нет. До следующей вспышки эпидемии…
Так что всякое бывало в нашей редакционной жизни. Но вот появившийся недавно заместитель Алексеева Юрий Пухов напечатал большую – почти на полосу – обзорную статью о литературе 30-х годов, скучноватую, но обстоятельную, серьезную. За статью эту, которой газета отмечала приближающееся 40-летие Октябрьской революции, он получил премию. На летучке Рябчиков заливался соловьем: «Юрий Сергеевич Пухов, бесспорно, одаренный, талантливый человек с большим будущим. Проделал он огромную работу…» Вскоре, однако, выяснилось, что работал Пухов в основном с помощью ножниц и клея. В «Комсомольской правде» появилась реплика «Не солидно!», подписанная «Дотошный читатель». В ней путем сопоставления цитат демонстрировалось, что статья Пухова представляет собой плагиат, она «цельностянута». «Оказалось вполне достаточным, – писал Дотошный читатель, – прочитать (без ссылки на источник) макет «Очерка истории русской советской литературы», выпущенный в 1952 году Институтом мировой литературы Академии наук СССР». В последнем абзаце реплики звонкая пощечина отвешивалась «Литературке»: «Важно еще, конечно, найти и газету, публикующую подобные оригинальные работы. Как видно, сделать это иногда возможно».
Позор для газеты был неслыханный – мало того, что напечатан плагиат, так еще собственного сотрудника, к тому же не рядового. На летучке Алексеев пытался вывести своего зама из-под удара (Пухов немедленно заболел и в дальнейшем на разбирательствах отсутствовал), приведя его смехотворные объяснения: «Мы, литературоведы, народ особенный. Мы вынуждены для своей работу накапливать массу разных материалов, выписывая их из чужих трудов». И добавил от себя: «Короче говоря, я его понял так: иной раз забываешь, где свое, где чужое. Это, так сказать, беда профессионального порядка». Не надо, мол, судить об этом строго, дело житейское. Такая оригинальная защита успеха, однако, не имела – подлила масла в огонь…
На летучке и партсобрании разговор не ограничился пуховской историей. Выплеснулось давно накапливавшееся, пошла речь вообще о тех нравах, которые принесла с собой вся эта публика. Вспомнили о том, что Пухов расхвалил книгу своего шефа, а Алексеев отнесся к такому подхалимажу вполне благосклонно. Вспомнили о неопрятной истории, связанной с другим сотрудником алексеевского отдела Туницким: он организовал положительную рецензию на книгу, которая не была выпущена в свет, задержана на выходе, – работая в издательстве, он проталкивал эту книгу, решил порадеть ей и в газете. Вспомнили, что бездарные книги «своих» выдавались за шедевры. Вспомнили, что почти каждый отчет газеты о писательских обсуждениях и собраниях вызывал резкие протесты из-за явной необъективности и недобросовестности.
Что касается Пухова, которого под давлением коллектива пришлось все-таки из газеты выпроводить, то его не выбросили на улицу, не оставили без куска хлеба. Райком хлопотами Кочетова смягчил ему взыскание до выговора без занесения в личное дело, и его пристроили преподавателем в Литературный институт, где он долгие годы учил и воспитывал подрастающую писательскую смену. Тихо, не допустив разбирательства, куда-то сплавили Туницкого…
В кочетовской «Литературке» процветала самая разнузданная групповщина, были отброшены прочь элементарные, обязательные нормы литературной и журналистской этики. Бесстыдство дошло до того, что в газете была напечатана большая хвалебная статья Юрия Жданова (сына сталинского сатрапа) «Третьего не дано!» о кочетовском романе «Братья Ершовы». Друзин и Алексеев решили порадовать своего хворавшего тогда шефа: статья такого автора не могла не греть сердце Кочетова. А то, что какие-то чистюли будут это осуждать, возмущаться, на это наплевать – у «автоматчиков» своя этика…
В последний год Кочетов явно поостыл к газете, реже появлялся в редакции, чаще брал отпуска – то для писания собственных сочинений; то по болезни. Мне тогда казалось, что, поставив на ключевых участках редакции своих людей, точно выдерживающих заданный им курс, перешерстив коллектив, он успокоился – дело катится самоходом в нужном направлении. Правда, в отсутствие Кочетова – и это было заметно – разоблачительный напор ослабевал, агрессивность спадала, словно какой-то невидимый песок попадал в колеса этой вроде бы отлаженной Кочетовым машины. Ни у Алексеева, ни тем более у Друзина, которого в ту пору по-настоящему занимали лишь свои, сугубо личные дела, такой ярости не было.
Сейчас я думаю, что дело было не столько в Кочетове, Друзине, Алексееве, их характерах, а в том, что постепенно снова стала меняться общественная атмосфера в стране. После разгрома так называемой антипартийной группы, когда от руководства партией и государством были отстранены наиболее авторитетные и твердокаменные сталинисты – Молотов, Маленков, Каганович, опять наступила «оттепель», медленно, робко она все-таки брала свое. Усилилась критика культа личности, стали появляться новые материалы о творившихся при Сталине злодеяниях, энергичнее пошла реабилитация. Кочетов и его подручные чувствовали, что ветер меняет направление и уже не с прежней силой дует в их паруса. Это поумерило их бившую через край «боевитость».
Кочетов превратился в фигуру одиозную, он восстановил против себя большинство писателей – негодовали даже вполне благонамеренные, многие демонстративно бойкотировали «Литературку». На летучках и планерках сотрудники международного отдела и отдела внутренней жизни жаловались, что даже их постоянные авторы под разными предлогами отказываются писать для «Литературки», ездить по ее командировкам. Все это было известно на Старой площади. В условиях, когда Хрущев, закрепляя победу над «антипартийной группой», усиливал критику культа, ставленник Суслова и Поликарпова Кочетов становился для них опасен, мог своей агрессивной, демонстративной защитой сталинизма бросить тень на них, подвести их под монастырь – Хрущева они все-таки боялись. Стали поговаривать, что Кочетова будут убирать из газеты, – мавр сделал свое дело и ему пора уходить.
Решил судьбу Кочетова, мне кажется, приближавшийся третий съезд писателей. Он уже откладывался, но больше тянуть с ним было невозможно. А перед съездом надо было что-то делать с «Литературкой». Ее и так уже долбали все, кому не лень, – на каждом писательском собрании, в газетах и журналах, даже вполне умеренных по своей позиции. Не надо было быть пророком, чтобы предвидеть, что на съезде «Литературку» будут разносить, что она станет главным объектом самой жесткой критики и будет уже не до обсуждения других, по мнению начальства, важных и насущных тем. А это может как бумеранг ударить по поликарповской конторе: куда смотрели, почему своевременно не приняли мер, довели дело до публичного скандала? И в Большом доме решили в угоду писательскому люду сбросить боярина с крыльца, убрать вызывающего такое раздражение Кочетова из газеты и несколько разрядить обстановку.
Кочетова снимали не потому, что он не справился с порученным делом, – справился, сделал все, что от него требовалось, даже перевыполнил план. Но сейчас он был уже не по погоде, надо было его вывести в резерв до новых «заморозков», тогда он сможет снова развернуться. Есть генералы, которые лучше всего действуют в обороне, а есть предназначенные для лихих атак. Кочетов был хорош в идеологическом наступлении против обороняющихся «либералов», при полном превосходстве атакующих, когда можно действовать напролом, нахрапом. Он совершенно не годился в иной обстановке, когда приходилось маневрировать, избегать наступления в лоб. И Поликарпов, который был с Кочетовым, как сказано в «Маугли», «одной крови» (разумеется, идеологической), вынужден был убрать его из «Литературки».
Конечно, все это было сделано самым деликатным образом, перстами легкими, как сон. Сообщение, которое напечатала 12 марта 1959 года «Литературная газета», составлено так, чтобы никоим образом не задеть самолюбия Кочетова, не бросить на него тень, не раздражить «автоматчиков». А главное, чтобы, не дай бог, ни у кого не возникла мысль, что его снимают за ошибки, за неверную литературную политику. Вот разве что не выразили благодарность за проделанную большую и плодотворную работу. В сообщении говорилось: «Секретариат правления Союза писателей СССР, учитывая настоятельную рекомендацию врачей о необходимости длительного лечения тов. В.А. Кочетова и его желание сосредоточиться после лечения на литературно-творческой работе, удовлетворил просьбу В. А. Кочетова об освобождении его от обязанностей главного редактора «Литературной газеты». Главным редактором «Литературной газеты» утвержден тов. С.С. Смирнов».
Новый главный редактор, новая редколлегия
Не знаю, были ли на место Кочетова какие-то другие, кроме Сергея Сергеевича Смирнова, кандидатуры. Но нетрудно догадаться, почему сусловско-поликарповское ведомство остановилось именно на нем. Надо было утихомирить, задобрить прежде всего московскую и ленинградскую писательские организации, которым кочетовская «Литературка» насолила больше всего, снять перед съездом возникшее там опасное напряжение (в дальнейшем же, если я правильно реконструирую стратегический план тогдашнего заведующего отделом культуры ЦК Поликарпова, предполагалось прикончить эти зараженные «ревизионизмом» организации обходным маневром – при помощи недавно созданного и быстро расширяющегося за счет массового приема не отличающихся талантом, но верных людей Союза писателей РСФСР и его газеты «Литература и жизнь»). Смирнов возглавлял тогда московскую писательскую организацию, большинство писателей к нему хорошо относились – он был человеком отзывчивым, демократичным, старался по возможности помогать «рядовым» писателям, условия существования которых оставляли желать лучшего. Сам он занимался благородным делом – замалчивавшейся обороной Бреста и много сделал для того, чтобы вернуть честь настрадавшимся у немцев в плену и у нас в лагерях защитникам Бреста. Наконец, он был человеком со вкусом, отдававшим себе отчет в подлинной – по таланту, а не официальной иерархии писателей. Поликарпов учитывал репутацию Смирнова. Но для него было еще очень важно, что серьезных идеологических грехов за Смирновым не числилось, разве что был заместителем Твардовского в разогнанном в 1954 году «Новом мире», впрочем, официальную критику принял, не упорствовал. Пришлось Смирнову как главе московской писательской организации проводить постыдное собрание, на котором клеймили Пастернака, и власти могли убедиться, что человек он дисциплинированный, «управляемый», что им можно «руководить» и он будет прислушиваться к тому, что ему «подсказывают»,– это для Дяди Митяя было, наверное, важнее всего. Был к тому же Сергей Сергеевич хорош собой, обаятелен, располагал к себе – высокий, статный, с волевым плакатным лицом, говорил громко и уверенно, смеялся громко, от всей души, оказывался всегда в центре любой группы людей, не просто компании, а именно группы.