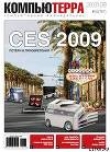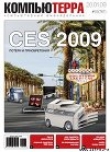Текст книги "Шестой этаж"
Автор книги: Лазарь Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Кочетов же в схожей ситуации со скандалом выгнал Фролова из газеты. Дело было в том, что Фролов напечатал в «Октябре» статью, в которой критиковал некоторых писателей, близких по духу Кочетову, и выступил против некоторых ретроградных идей, дорогих сердцу нашего главного редактора. Расправа последовала немедленно. «Литературка» выступила против члена своей редколлегии с хамской, зубодробительной репликой, в тот же день Фролов был уволен из газеты, хотя для этого требовалось решение секретариата правления Союза писателей. Но в то время Кочетов уже плевал на секретариат. Панферов, главный редактор «Октября», не смолчал – ответил на реплику «Литературки». Тогда Кочетов в редакционной реплике всыпал и Панферову. Кочетов уже присвоил себе право всех, кто ему не угоден, «отлучать», «громить», «клеймить». Однажды даже правовернейший из правовернейших Владимир Щербина был объявлен им «ревизионистом» (кажется, это был единственный случай, когда Щербина, у которого во рту была каша и понять его было очень трудно, отбивая кочетовские обвинения, говорил внятно). Выступая вскоре после изгнания Фролова на редакционном собрании, Кочетов с перекошенным от злости лицом обличал ненавистного изменника: «Змей либерализма тихой сапой вполз в нашу газету!» Это было нелепо и смешно: меньше всего Володя – рубаха-парень, добрая душа был похож на коварного змея…
Нередко воинствующий догматизм, оголтелая узколобость, свирепая нетерпимость выдавались у нас за принципиальность, за фанатичную преданность идее. Он, конечно, отстаивает неправое дело, защищает ложные, мракобесные идеи, но делает это из убеждения, вполне бескорыстно – так иногда говорили и говорят о неистовых ревнителях. Но сталкиваясь с некоторыми из них, я имел возможность убедиться, что искренне пламенеющими они на самом деле не были. Двигал ими не самозабвенный идейный порыв, а самый обыкновенный, самый пошлый расчет, твердое знание правил аппаратных игр. Крайняя, агрессивная охранительная позиция, стремление быть святее папы было делом беспроигрышным – они это хорошо понимали. Но стоило начальству только пальчиком погрозить, как эти бесстрашные блюстители идейной чистоты тут ж поджимали хвост.
Однажды я был свидетелем сцены, словно бы специально поставленной для подтверждения того, о чем я говорю. Меня вызвал Кочетов в связи с материалом, который я вел. В это время зазвонила «вертушка». «Михаил Андреевич» – назвал Кочетов своего собеседника (я понял, что звонит Суслов), встал (что меня поразило) и весь дальнейший разговор вел стоя (по стойке «смирно» – определил я для себя). Соответствующим позе был и его тон. Судя по оправдывающимся репликам Кочетова, Суслов его отчитывал. Кочетов же заверял его, что учтет справедливые замечания и тотчас выполнит полученные указания. Речь шла, догадался я, о набранной и запланированной в следующий номер разгромной статье Виктора Дорофеева (был такой критик, занимавший официальное положение в комиссии по критике Союза писателей) о романе Александра Маковского «Год жизни».
Статья эта была заказана по инициативе Кочетова и одобрена им (о чем Кочетов Суслову, разумеется, не заикнулся) – Маковского Кочетов не жаловал, был рад отвесить ему на страницах газеты увесистую оплеуху, тем более, что роман «Год жизни» шедевром не был. Суслов, который, как говорили, благоволил к Маковскому, счел подготовленную статью ошибкой газеты. Разгромная статья была туг же отправлена в корзину, а вместо нее была напечатана спешно заказанная приторно комплиментарная рецензия Аркадия Эльяшевича.
Но откуда Суслов мог узнать о подготовленной статье – ведь от нашей редакции до его кабинета расстояние почти такое же, как до луны? Были две возможности, два пути. Первый – утечка информации из редакции, благодаря которой до Маковского дошли слухи о готовящемся разгроме его романа, и он пожаловался Суслову, упредил удар. Второй, более вероятный, – Суслову, зная его расположенность к Маковскому, доложили старательные сотрудники агитпропа или отдела культуры ЦК.
Дело в том, что существовал, не знаю, когда и кем заведенный, четкий порядок повседневного неусыпного партийного контроля над газетами – начав работать в «Литературке», я его еще застал – в ЦК посылался план номера и важнейшие из запланированных материалов.
Потом в пору «оттепели» на Старую площадь отправляли лишь план с краткими – в одной фразе – аннотациями основных статей, сами же статьи представлялись для предварительного просмотра уже только по требованию, если что-то в аннотациях настораживало цековских работников или у автора статьи в этом самом высоком нашем ведомстве была дурная репутация, он числился в «смутьянах». Редакторы, которым эта вторая, дополнительная цензура нередко досаждала, отравляла жизнь не меньше, чем первая, основная, были рады, разумеется, хоть такому послаблению. Считалось, что им пошли навстречу, оказали доверие, развязали руки для самостоятельных действий. На самом деле, мне кажется, тут была иная подоплека. Сотрудники ЦК, курировавшие периодическую печать, не меньше, чем редакторы, были заинтересованы в новом порядке: существенно сокращался объем работы, а главное – они избавлялись от тяготившей их постоянно чреватой неприятностями, а то и строгими взысканиями ответственности за опубликование материалов, с которыми они были или должны были быть знакомы, а высокое начальство обнаружило в этих материалах не замеченную ими крамолу.
При новом порядке ответственность редакторов возрастала, но и свободы у них становилось побольше. Те, для кого она была желанной (а желали ее далеко не все, иных страшила возраставшая ответственность), не преминули воспользоваться открывшимися возможностями, стали действовать на свой страх и риск, считая, что опубликование острой статьи, обратившей на себя внимание читателей, стоит полученного за нее замечания или выговора; случалось, и местом редакторским приходилось за это расплачиваться – некоторые шли и на это.
Что поделаешь, таков был тогда неизбежный в редакторском деле профессиональный риск. Как-то у Анатолия Аграновского мы обсуждали возможные варианты совершенно неясного исхода одной рискованной газетной акции. В нашей компании газетчиков оказался посторонний человек – незнакомый мне приятель Аграновского, то ли научный работник, то ли врач – так почему-то подумал я. Он внимательно слушал нас, а потом под конец вдруг сказал:
– И у вас, оказывается, не знаешь, где можешь гробануться.
Это был (я тихо спросил у Аграновского) летчик-испытатель Марк Галлай, один из самых блестящих представителей этой опасной профессии.
В более поздние времена, при Сергее Сергеевиче Смирнове, когда в номере стояли взрывчатые материалы, которые могли быть затребованы на Старую площадь для ознакомления (после чего, один бог знает, в каком виде они появятся на газетной полосе, да и появятся ли вообще), Косолапов, которому был не чужд азарт газетчика, несколько раз мне говорил:
– А план номера мы сегодня отправим на Старую площадь попозже, когда там уже надевают пальто и застегивают портфели.
Поразительное это было время – весна и лето после XX съезда. Возвращались из лагерей и ссылки репрессированные, началась реабилитация расстрелянных, замученных в тюрьмах. Однажды наш университетский учитель Абрам Александрович Белкин, читавший нам курс русской литературы XIX века и потом, во время космополитической кампании, изгнанный из университета, лишившийся любимого дела, что было для него и для студентов невосполнимой потерей, потому что преподавателем он был, как говорится, милостью божьей, пригласил нас, нескольких своих бывших студентов, к себе. Ему хотелось познакомить нас со своим учителем, только что возвратившимся из мест отдаленных, Валерьяном Федоровичем Переверзевым. Выяснилось, что Абрам Александрович каким-то образом поддерживал с ним связь и даже, как мог, материально помогал ему – разумеется, тайно. В пору сводившего с ума страха, когда рвались человеческие связи – жены отказывались от мужей, дети – от родителей, это был поступок, на который далеко не каждый решался. О Переверзеве, о его работах, отправленных в спецхран, мы ничего толком не знали – в читавшемся нам курсе истории критики во всю чехвостили «переверзевщину» за ревизию марксизма, за вульгарный социологизм – вот, пожалуй, и все. Абрам Александрович рассказал, что Переверзев сел в 1938 году не в первый раз. За участие в революционном движении он при царе шесть лет провел в тюрьме и в нарымской ссылке, правда, условия были несколько иными – свою первую книгу о творчестве Достоевского он написал тогда…
Мы просидели у Абрама Александровича чуть ли не до утра. Валерьян Федорович, несмотря на преклонные годы – ему было уже за семьдесят, – оказался человеком крепким, не утратившим живого интереса к окружающему миру, с какими-то удивительно веселыми глазами. Его совершенно не тяготил бесконечный сумбурный ночной разговор. Казалось, он присматривался к нам, своим литературным внукам, хотел понять, чем мы живем. Поразительно, но он был куда большим оптимистом, чем мы, не испытавшие и малой части того, что выпало ему на долю. При этом он был терпимее, вернее, мудрей, чем мы, о многом судившие тогда с безоглядной категоричностью. Он защитил одного своего ученика, который тоже был нашим университетским преподавателем от наветов – ходили слухи, что, вызванный на допрос, он свидетельствовал против него, своего учителя:
– Это не так, он держался осторожно, но ничего во вред мне не сказал. Для этого требовалось немалое мужество. Вы должны это понять. А к тем, кто сам сидел и на следствии давал на меня показания, у меня нет никаких претензий. Бессовестно их попрекать. Кто там побывал, знает, каким образом добывали показания.
В этой небольшой компании оказался еще один человек, только что вышедший на волю, приятель хозяина дома по довоенному времени, по ифлийской аспирантуре – громогласный, излучавший доброту и жизнерадостность Лев Копелев. Кажется, он и жил тогда у Белкина. Вернее, скрывался от милиции. Он еще не был реабилитирован, не имел московской прописки, милиция, видимо, по чьей-то наводке застукала его на квартире жены и строго предупредила, что Москву он должен покинуть. Такие встречи, такие беседы о пережитом, споры о том, что нас ждет впереди, стали тогда частью московского интеллигентского быта.
Многое менялось. Смелее, разнообразнее стали журналы и газеты. «Литературке», которая при Кочетове пошла резко вниз, стала наступать на пятки рванувшая вперед «Комсомолка», немало интересного появлялось в «Известиях». По всей стране шли послесъездовские партийные собрания – и далеко не всюду партфункционерам удавалось удержать их в традиционных, много лет назад выработанных и, казалось, навсегда установленных рамках. В соответствии с этим то ли регламентом, то ли ритуалом полагалось единодушно осудить то, что было осуждено высокими партийными инстанциями, горячо одобрить то, что одобрено ими, и, конечно, дружно приветствовать их очередные такие правильные и такие своевременные решения.
По этой наезженной колее и двинулось сначала собрание в Союзе писателей – я был на нем, предполагалось, что газета даст о нем подробный отчет, который я еще с кем-то должен был писать. Однако привычный ход собрания неожиданно переломило выступление Павла Бляхина, одного из старейших писателей, члена партии с 1903 года, автора гремевших в 20-е годы «Красных дьяволят». Он начал так
– В своей замечательной речи на съезде Анастас Иванович Микоян сказал, что ленинские нормы в партии и стране восстановлены. Это неправда, товарищи! Не надо принимать желаемое за действительное…
Бляхин говорил затем о том, что вместо социалистического аппарата, над созданием которого бился Ленин, выращен аппарат бюрократический, бездушный, бесчеловечный, насквозь карьеристский, именно на него опирался Сталин. Говорил о государственном антисемитизме, с особой силой проявившемся в новоявленном деле Бейлиса – деле «врачей-убийц», говорил о тысячах и тысячах невинных людей, которые все еще томятся в лагерях, реабилитация идет крайне медленно, всячески тормозится людьми, сопротивляющимися переменам в стране.
Выступление Бляхина взорвало благочинное течение собрания, стало невозможным читать заготовленные дома гладкие выступления, заговорили о том, что давно наболело, но чего на собраниях никогда не касались (это тогда родился шутливый лозунг: «Поднимем уровень выступлений с трибуны до уровня кулуарных разговоров!»). В этот день собрание не кончилось, не кончилось оно и на следующий день. Три дня один за другим выступали писатели с речами, столь острыми, откровенными, безоглядными, что порой хотелось ущипнуть себя, не привиделось ли это, не приснилось ли? Говорили без обычного сглаживания острых углов, без дипломатических умолчаний о воцарившихся в искусстве лжи и лакировке, цензурном и редакторском произволе. Настаивали на настоящем расчете с прошлым, требовали обновления прогнившего, обюрократившегося Союза писателя. Некоторые беспощадно судили и себя – Елизар Мальцев сказал, что не будет больше переиздавать свой роман «От всего сердца», за который получил Сталинскую премию, потому что в нем нет правды о горькой судьбе деревни.
Мой тесть, старый коммунист, которому я, возвращаясь домой, подробно по своим записям воспроизводил услышанные речи, сказал мне, что такие собрания если и бывали, то разве что в первой половине 20-х годов…
Но все это один ряд событий. Был, увы, и другой, – он никак не радовал, свидетельствуя, что начавшийся процесс обновления всячески тормозится. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» было принято только 30 июня, через четыре месяца после доклада Хрущева на XX съезде, – не было никаких сомнений, что проходило оно непросто, при упорном сопротивлении наследников Сталина. Критика сталинских порядков, содержавшаяся в докладе Хрущева, смягчена в постановлении многими оговорками, звучит гораздо глуше, утоплена в общих фразах.
Никакого отчета о трехдневном, из ряда вон выходящем писательском собрании «Литературка» не дала, появилась лишь коротенькая – несколько строк – информация о том, что 28-31 марта состоялось собрание, на котором первый секретарь СП СССР А.Сурков сделал доклад «Итоги XX съезда КПСС и задачи советских писателей», в обсуждении доклада приняло участие 29 человек. «В выступлениях. – сообщалось в заметке, – острой критике подверглись серьезные недостатки в работе Союза писателей, слабости современной литературы. Некоторые участники собрания критиковали «Литературную газету». Собрание единодушно одобрило решения XX съезда». Указание подобным образом «осветить» собрание было получено из ЦК. Там, рассказал мне через много лет один из тогдашних сотрудников отдела культуры, это собрание вызвало просто бешенство. Даже цековские либералы – а либералы в ту пору появились повсюду, в самых разных слоях общества, – расценили собрание чуть ли не как «провокацию»: зарвались, подыграли по легкомыслию «ястребам».
К этому доводу, вернее сказать, приему укрощения вздымающейся волны общественного недовольства – под видом осуждения раздражающих начальство «крайностей» – не раз будут прибегать и в дальнейшем. И когда Ольга Берггольц на семинаре, посвященном литературной жизни в странах народной демократии, а Константин Симонов в Московском университете на межвузовском совещании по вопросам изучения советской литературы выступили с критикой постановления ЦК 1946 года, – их осудили: как можно с этим обращаться к беспартийным, такие вопросы если ставятся, то только перед партийным руководством и только в закрытом порядке, – партийная дисциплина превыше всего.
О выступлении Ольги Берггольц мне рассказал ленинградский писатель Александр Розен, с которым мы незадолго до этого познакомились и подружились, а на совещании преподавателей советской литературы в Московском университете я по долгу службы присутствовал. В Коммунистической аудитории, хорошо знакомой мне по студенческим годам – это была на филологическом факультете самая большая аудитория, где читались общие курсы, завершая совещание, так сказать, «на сладкое», выступили Дудинцев, Каверин, Симонов. Все они находились тогда в центре читательского внимания, представляя «Новый мир» – и в ту пору самый популярный, самый передовой журнал, – его авторы и главный редактор. И на встречу с ними пришли не только преподаватели и участники совещания, но и аспиранты и студенты – в Комаудитории было много молодых лиц. Взбудораженные XX съездом, они хотели услышать, что думают известные писатели о происходящем в жизни и в литературе. Народу было полным-полно.
Речей Дудинцева, рассказывавшего о своем романе «Не хлебом единым» – обычно такое печатается под рубрикой «В творческой мастерской», – и Каверина, прочитавшего очень хвалебные заметки о Зощенко, я в подробностях не запомнил. Хотя оба они выступали хорошо, видимо, для меня, какое-то время уже поварившегося внутри литературы и получившего представление о том, кто из писателей чем дышит, в их речах ничего неожиданного не было. А может быть, их речи из памяти вытеснило выступление Симонова – оно, как нынче говорят, было сенсационным.
Я уже был знаком с Симоновым, несколько месяцев работал под его началом (об этом я еще расскажу), но, честно признаюсь, не ожидал, что он может отважиться на такое выступление. Правда, с тех пор мы виделись несколько раз мимоходом, на бегу, не разговаривали, я не знал, каким потрясением и для него был XX съезд, заставивший его на многое – в том числе и на свою жизнь в литературе – посмотреть иными глазами. Он и начал свое выступление словами о том, что причастен ко многим ошибкам, о которых будет говорить, и несет за них ответственность. В общем, его выступление было для всех разорвавшейся бомбой, хотя одни слушали его с радостным энтузиазмом, другое с опаской, а кое-кто побагровев от возмущения.
С перекошенным окаменевшим лицом сидел руководитель совещания заведующий кафедрой советской литературы Московского университета Метченко – один из самых ортодоксальных наших литературоведов, любимец Старой площади и журнала «Коммунист», несгибаемый блюститель социалистического реализма. Он возглавил кафедру в последний год нашего с Бочаровым пребывания в аспирантуре, сразу же почуял в нас что-то чуждое, сильно невзлюбил и немало попортил нам крови.
Симонов поднял руку на святая святых: говоря о том, что XX съезд поставил в повестку дня пересмотр истории советской литературы, некоторых глубоко укоренившихся ложных представлений, он подверг обстоятельной критике ряд положений доклада Жданова и постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и кинофильме «Большая жизнь», показав, что эти руководящие документы, направлявшие и регламентировавшие литературную жизнь, толкали и продолжают толкать литературу к лакировке, порождают правдобоязнь, заставляют обходить отрицательные явления, даже когда эти явления общеизвестны и всем мозолят глаза.
Симонов говорил больше часа, а потом еще довольно долго отвечал на записки. В одной из них – анонимной, подписанной «Группа участников совещания» или что-то вроде этого, – ему давался самый решительный отпор. Он, мол, оглупляет высказывания Жданова и под видом борьбы с лакировкой призывает к натуралистическому копанию в наших недостатках и ошибках, хочет превратить литературу из оружия революционной борьбы в кривое либерально-буржуазное зеркало. Длинная была записка. Главное же обвинение, которое предъявила успевшая каким-то непостижимым образом во время выступления выработать свою платформу «группа»: кто дал Симонову право подменять ЦК, подвергать ревизии решения партии? Когда Симонов это прочитал, я подумал, что критика постановлений ЦК вряд ли сойдет ему с рук. Уверен, что это выступление сыграло не последнюю роль в том. что вскоре ему пришлось расетаться с «Новым миром».
Когда поредела толпа обступивших Симонова людей, я подошел к нему поздороваться.
– Вы не торопитесь? – спросил он. – Давайте немного пройдемся.
Мы не спеша пошли по Манежной площади, а потом вверх по улице Горького до Пушкинской площади, до «Нового мира». Он рассказывал о том, как идет работа над романом, который продолжает «Товарищей по оружию», потом болтали о каких-то пустяках. Заговорили о совещании. Я сказал, что он очень хорошо выступил, и спросил, отдает ли он себе отчет, что Метченко или кто-то из «Группы участников совещания», пославших ему записку, уже звонят на Старую площадь, а завтра там будет лежать и стенограмма.
– Отдаю, – улыбнулся он. – Они могут не утруждаться. Я видел в зале цековских инструкторов. Они сегодня кого надо сами проинформируют.
И пренебрежительно махнул рукой. Он был в превосходном настроении, как человек, сбросивший с себя какой-то очень угнетавший его груз, принявший трудное решение и не желающий думать о том, что потом будет…
Пестрое, драматичное, противоречивое время переживали мы. Распространились зловещие слухи, затем подтвердившиеся, что в Московском университете и в Ленинграде арестовали нескольких молодых людей. Они то ли на собрании, то ли в каких-то кружках ставили вопрос о том, что дело не в культе личности Сталина, а в системе, которая сделала возможной бесконтрольную власть над страной одного человека. Ссылаясь на «Государство и революцию», они доказывали, что наше государственное устройство не имеет ничего общего с ленинскими идеями. Эти посадки на фоне начавшейся реабилитации репрессированных в сталинское время, ставших стереотипными заверений в восстановлении социалистической законности означали, что критика существующих в стране порядков допускается лишь в отмеренных начальством рамках, ее границы охраняются по-прежнему неусыпно бдящей тайной полицией и карательными органами.
Конечно, доклад Хрущева вызвал гигантский сдвиг в общественном сознании. Страна словно бы пробуждалась от кошмарного сна, но просыпалась она с трудом, мучительно преодолевая многолетнее оцепенение, сковывавший всех страх. На той новой исторической территории, куда общество было перемещено докладом Хрущева, перетягивание каната «левыми» и «правыми», антисталинистами и сталинистами превращалось в напряженную и все более осознанную схватку.
В ту пору Кочетов – это был один из парадоксов реальной, не укладывающейся в никакие схемы жизни – чуть было не погорел на безусловно прогрессивном деле. «Литературка» напечатала статью «Писатели и читатели», в которой Валентин Овечкин критиковал министров – главным образом министра рыбной промышленности Ишкова – с неслыханной, совершенно тогда недопустимой резкостью. Так – наотмашь – выдавать столь высокопоставленным особам наша пресса стала, пожалуй, лишь на третьем или четвертом году горбачевской перестройки. Статья Овечкина была написана по следам двух убийственных по приведенным фактам вопиющей бесхозяйственности, хищнического использования природных ресурсов, преступной технической и экологической политики выступлений «Нового мира» – А. Безыменского и И. Вайнберга «Дорогу техническому прогрессу!» и Н. Дубова «Как губят море» (кстати, эта стати была предложена автором сначала «Литературке», но отвергнута Кочетовым и Шамотой под предлогом, что очень велика). Но выступления «Нового мира» оказались гласом вопиющего в пустыне, руководители раскритикованных ведомств – Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности и Министерства рыбной промышленности – просто пропустили их мимо ушей. И тогда Овечкин написал о том, что молчание в ответ на такие выступления свидетельствует о порочных методах ведения дела, о несостоятельности руководителей.
Разразился большой скандал, взбешенные министры пожаловались в ЦК, потребовали призвать к порядку газету и автора статьи. Через несколько дней в срочном порядке статья Овечкина рассматривалась Президиумом ЦК – самой высшей властной инстанцией в стране. Министры были уверены, что на заседании Президиума, где они «свои», их «поймут» и «щелкоперам» всыпят по первое число. И не стали даже готовиться, не смогли опровергнуть факты, приводившиеся в «новомирских» статьях, явно «поплыли». Конфликт кончился вничью – «указали» и тем, и другим – и газете, и министрам.
На летучке Кочетов сообщил нам, что выступление «Литературки» на Президиуме не осудили, но указали на то, что статья Овечкина написана в недопустимом тоне, и просили учесть – тут Кочетов позволил себе шутливый тон, – что министры тоже живые люди и к ним следует относиться хотя бы с тем же уважением, какого мы требуем к себе. Газете потом пришлось напечатать длиннющий – больше, чем на полполосы – ответ Ишкова, целый месяц готовившийся аппаратом министерства. Ответ маловразумительный, в котором, однако, он вынужден был признать, что Овечкин «в основном правильно вскрыл недостатки в работе Министерства рыбной промышленности СССР».
Кочетову тогда крупно повезло, происшествие это окончилось для него благополучно, а могли и с работы снять, и грядущие историки литературы терялись бы в догадках, ломали голову, как могло случиться, что воинствующего сталиниста сняли за смелое антисталинское выступление газеты. Разумеется, и статьи ненавистного ему «Нового мира», и статья Овечкина не вызывали у Кочетова ни малейших симпатий, пафос их был ему глубоко враждебен, но так сложились обстоятельства, что отказать Овечкину, у которого в ту пору был авторитет первого публициста страны, только что согласившемуся войти в редколлегию, зарезать предложенную им статью он в те дни еще не мог себе позволить…
Общую картину времени грядущие историки воссоздают, определяя основные общественные силы, устанавливая главные направления развития, а между тем некоторые немаловажные события, не укладывающиеся в общую схему, нельзя понять, не зная конкретных обстоятельств и человеческих отношений действующих лиц.
Вот еще одна на первый взгляд очень странная история, из-за которой у Кочетова тоже были неприятности, да еще гораздо большие, чем из-за статьи Овечкина. С грозной критикой «Литературной газеты» выступили тогда все большого калибра официозные органы печати – я бы сказал, как по команде, если бы не знал точно, что это действительно было сделано по прямому приказу сверху.
Мы напечатали академическую по своему характеру и стилю статью Якова Строчкова «Неиссякаемый источник», посвященную ленинской «Партийной организации и партийной литературе», в которой автор доказывал, что статья эта обращена только к партийной публицистике, к членам партии, добровольно принявшим на себя обязательство подчиняться партийной дисциплине.
Что тут началось! Это соображение, вполне резонное и выглядящее сегодня совершенно невинно, вызвало бурю, было расценено как посягательство на сами основы политики партии в области литературы и искусства. И это понятно, вагоны бумаги и цистерны чернил были изведены, чтобы утвердить то, что отвергал Строчков. Не сомневаюсь, если бы его статья была напечатана не в «Литературной газете», которой руководил двухсотпроцентно правоверный Кочетов, а, скажем, в атакуемом «охранителями» «Новом мире», где главным редактором был Симонов, она была бы квалифицирована не просто как грубая ошибка, а как идеологическая диверсия, ревизионистская вылазка или что-нибудь в этом роде. И с редактором бы расправились беспощадно, и автору бы не сносить головы.
Как мог Кочетов напечатать такую статью? Это был иной случай, чем с Овечкиным. Никак Кочетов не был заинтересован в написавшем ее безвестном научном сотруднике Института мировой литературы. Но в отличие от статьи Овечкина эта была ему по сердцу, очень нравилась. Так неужели и у Кочетова были «идейные шатания», неужели в его догматическом панцире были прорехи. Да нет, он был не настолько образован, чтобы разбираться в подобных теоретико-идеологических проблемах. Статья же Строчкова привлекла его по той простой причине, что в ней разделывалась книга Б. Мейлаха «Ленин и проблемы русской литературы конца XIX – начала XX века». С автором этой книги у Кочетова были давние счеты, он Мейлаха, как и многих других ленинградских литераторов, терпеть не мог. А тут счастливо подвернулся случай врезать как следует недругу…
Статья Овечкина была, кажется, последней уступкой Кочетова тому, что приходило в нашу жизнь после XX съезда партии, возникавшему на этой основе общественному мнению – и московских писателей, и коллектива газеты. Нет, если быть совсем точным, предпоследней – вскоре, всего через несколько дней, произошла история, закончившаяся поражением Кочетова, ему не удалось настоять на своем, пришлось отступить.
В Союзе писателей было запланировано обсуждение романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Роман этот, опубликованный в «Новом мире», имел необычайный читательский успех, им зачитывалась вся страна. Книги подобного рода появляются обычно в переломные эпохи и становятся в политически размежевывающемся обществе своеобразной лакмусовой бумажкой, отношение к ним характеризует позицию человека. Слухи о предстоящем обсуждении романа распространились за пределы писательской среды, его ждали, надеясь, предвкушая, что разговор пойдет и о том, о чем еще не решаются писать газеты и журналы.
Кочетов понимал, что на обсуждении роман будет горячо поддержан, что противники романа не отважатся выступить в так настроенной аудитории, и решил нанести упреждающий удар, напечатав разгромную статью Виктора Дорофеева. Не знаю, отдавал ли Кочетов себе достаточно ясно отчет, что в этом случае дискуссия о романе Дудинцева превратилась бы в избиение «Литературной газеты»? Но даже если и отдавал, то это его не останавливало. Как появилась эта статья в редакции, мы понятия не имели, то ли Дорофеев принес ее непосредственно Кочетову, понимая, что главный редактор обеспечит такой статье зеленую улицу, то ли Кочетов, прослышав где-то об отрицательном отношении Дорофеева к роману, заказал ему статью. Во всяком случае на шестой этаж она пришла от Кочетова, нам раздали ее уже набранной, предупредив, что завтра будет обсуждение на редколлегии, в котором мы должны принять участие. Напечатать статью Дорофеева своей властью, минуя редколлегию и отдел литературы, Кочетов не решился, а может быть, надеялся, что на редколлегии выбьет «добро» на публикацию.
Но не тут-то было, участники обсуждения не склонны были поддаваться нажиму, осознавали, что вопрос решается принципиальнейший. Фролов, представлявший статью, сказал, что поставленная в номер в пожарном порядке статья не готова, требует серьезной работы, в таком виде ее печатать нельзя, она не объективна, он не может согласиться с отрицательной оценкой романа Дудинцева. Кочетов, не ожидавший такого выступления, несколько раз довольно грубо перебивал Фролова репликами, обвиняя сотрудников, что они намеренно не привели статью в порядок и вообще работают плохо. Но сбить Фролова не смог, тот снова и снова повторял свое: статья не готова, печатать ее нельзя.