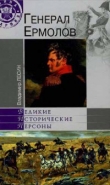Текст книги "Черный караван"
Автор книги: Клыч Кулиев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
21
Вот и Бухара позади. Снова перед нами тяжелый путь. Что путь в самом деле тяжелый – это мы поняли, как только отдалились от населенных мест и вступили в пределы пустыни Кызылкум. Необъятная пустыня! Куда ни глянешь – желтые, бесплодные пески. Как, должно быть, они ненавистны людям! Ни одной живой души крутом, даже птицы замолкли. Один только ветер свободно гуляет, вздымая песчаные вихри, – и больше никаких признаков жизни. А над нами – свинцовое небо… Да и оно, кажется, устрашилось суровой природы и поднялось еще выше. Окидывая взглядом окрестность, я мысленно спрашивал себя: оживляет ли когда-нибудь весна эти унылые пространства?
Кирсанов, видимо, почувствовал, что я переживаю. Закурив, заговорил:
– Вы, господин полковник, напрасно не послушались меня. Этот маршрут – очень трудный. До Ромитан еще есть какая-то тропка. А дальше… дальше – одни пески. Сыпучие барханы, куда ни глянешь. Трудно будет ориентироваться. Пока не поздно, лучше бы пойти вдоль реки.
В Хиву вели две дороги: одна– через пески Кызылкум, другая – по берегу Амударьи. Проводник, которого дал нам кушбеги, вчера, прощаясь с нами, советовал идти через Кызылкумы. По его словам, у берега Амударьи легко можно наткнуться на разъезды красногвардейцев. Кроме того, днем между Чарджуем и Турткулем ходят их сторожевые катера. Старики в последнем селении подтвердили его слова и тоже советовали нам идти через Кызылкумы. Но предупредили, что этот путь тяжелее и что тут могут встретиться всяческие неожиданности.
Я придержал коня, спешился и предложил спутникам передохнуть. Время приближалось к полудню. Последнее селение скрылось из глаз. Пора было решать, каким путем идти, на разговоры времени не оставалось.
Я отошел в сторону, чтобы наедине обдумать, как поступить. Разумеется, для нас самое страшное было – попасть в лапы к большевикам. Даже младенцу ясно, что мы не простые путешественники: все вооружены, у нас и пистолеты и пулемет. Повстречайся мы, паче чаяния, с большевиками, останется только одно – биться до последнего патрона. А если идти через Кызылкумы… Кто скажет заранее, какой ветер дохнет нам в лицо, на что мы можем наткнуться? Как поступить?
Мне показалось, будто кто-то крикнул:
«Поворачивай назад, полковник!»
Я огляделся. Не заметил ничего. Прислушался… Ничего не расслышал, кроме невнятного говора своих попутчиков, голоса которых доносились из-за ближнего холма. Вернулся назад. За чаем продолжал размышлять, еще раз посоветовался с Кирсановым. Наконец резко поднялся, ни слова не говоря, сел на коня и направил его на запад, к Амударье.
Слава богу, трое суток миновали благополучно. На пути нам никто не встретился. Но погода вдруг испортилась: сперва подул холодный ветер, а затем полил назойливый дождь. Небо долго не прояснялось, туман плотно осел вокруг. Однако мы двигались, не сбавляя темпа. Хорошо понимали: теперь погода не очень-то будет нас баловать, и потому спешили выбраться из Кызылкумов раньше, чем нас здесь застигнет зима.
Вот и сегодня мы сели на лошадей еще затемно. Дождь, беспрестанно струившийся всю ночь, наконец затих. Но тяжелые тучи не сразу покинули небо. Только к полудню они постепенно поднялись, и небо начало проясняться. Солнце, однако, не светило ярко: бегло улыбнувшись нам сквозь плотную темную пелену, тотчас же опять исчезло.
Почти до самого вечера мы безостановочно гнали лошадей. У меня ноги сводила судорога, все тело отчаянно ныло. Спутники мои тоже устали, а никакого жилья поблизости не было видно. Наконец мы подъехали к котловине, густо поросшей гребенщиком[73]73
Гребенщик (тамариск) – ветвистый кустарник с мелкими чешуйчатыми листьями.
[Закрыть], и, решив остановиться здесь на отдых, развьючили лошадей. Долго бились, пока разожгли огонь, согрели чай, приготовили еду. Но не успел я взяться за пиалу с чаем, как ко мне подбежал Артур, оставленный сторожить на вершине соседнего бархана.
– Господин полковник! Со стороны Чарджуя – группа всадников! – доложил он, запыхавшись.
Казалось, тысяча иголок вонзилась в мое тело. Но я не подал виду, что взволнован. Стараясь казаться безразличным, поднялся, не спеша взобрался на бархан и, укрывшись под большим матово-зеленым кустом гребенщика, нацелил свой бинокль на юг. Действительно, со стороны Чарджуя цепочкой двигалась группа всадников. По-видимому, красноармейцы – среди них не было людей в чалмах и больших тельпеках. Что делать? Времени для раздумий не оставалось, надо было действовать немедленно. Кирсанов, по обыкновению, начал горячиться:
– Открыть огонь! Дайте мне пулемет. Я заставлю их повернуть обратно!
Но я не хотел ввязываться в такое рискованное дело. Ясно было, что всадники тоже не безоружны. Можно ли вчетвером вступать в единоборство с целым отрядом? И вообще, нужно ли рисковать, когда стоишь на самом краю пропасти?
Я спустился с бархана и еще некоторое время постоял в раздумье. Да, ничего другого не оставалось. Я приказал спутникам:
– Заверните в брезент пулемет, отнесите в сторону и заройте. Возьмите и мое оружие. Ваше оружие пусть останется при вас. Быстрее!
Кирсанов заколебался было. Но я прикрикнул на него:
– Капитан! Исполняйте приказ!
В несколько минут мы зарыли пулемет и все патроны в самой гуще зарослей гребенщика. Лошадь Кирсанова стреножили, надели на морду мешок. Старательно укрыли и самого капитана. Затоптали костер, сели на лошадей и направились в сторону Амударьи, так, чтобы свернуть прямо перед встречными. Они теперь были ясно видны и без бинокля. Я с удовлетворением подумал, что поступил благоразумно, не приняв рискованного совета Кирсанова: конных было слишком много, чтобы мериться с ними силой. Отряд насчитывал по меньшей мере три, а то и четыре сотни сабель.
Стараясь увеличить расстояние, мы начали нахлестывать лошадей. От отряда отделились несколько всадников и помчались в нашу сторону. В тот же миг пас нагнал грозный окрик:
– Эге-э-эй! Остановитесь! Слышите?
Да, мы слышали… Но нам не хотелось останавливаться, мы продолжали ехать, не обращая внимания на окрик. Два всадника обогнали нас и преградили нам путь. А вскоре с шумом прискакали и остальные и окружили нас. Кругленький, как хорошо откормленный бычок, узбек сердито крикнул:
– Что вы, оглохли? Не слышите, что ли?
Я ответил ему в таком же тоне:
– А почему мы должны останавливаться? Какое у вас к нам дело?
Толстяк так же грозно ответил:
– Сейчас узнаете, какое дело… Поворачивай!
– Куда?
– К командиру.
– Нам у командира делать нечего.
– Сказано – поворачивать, так выполняй приказ… Эх ты, полоумный мулла! Прошло время, когда вы цепляли на себя кучу тряпок и морочили людям головы. Езжай за нами!
Я промолчал, чувствуя, что стоит только сказать что-нибудь, как на меня со всех сторон посыплется ругань. Толстяк грозил неспроста, и лучше всего было подчиниться. Я так и сделал: молча повернул своего коня и поехал в сторону отряда.
Всадники растянулись цепочкой. Большинство были плечистые, здоровенные парни. И пулеметы у них, были, и легкие орудия… Один из двоих конников, ехавших впереди, был русский, голубоглазый, рыжеусый, статный. Левая рука у него была на перевязи. Второй был узбек.
Русский, видимо, был командиром отряда. Он остановил коня и, глядя на меня, радушно приветствовал:
– Салам алейкум, яшули!
Я также ответил ему спокойно и приветливо:
– Валейкум-асалам! Жив-здоров, командир?
– Жив-здоров, слава богу…
Командир посмотрел на часы и, обращаясь к толстому узбеку, что-то шепнул ему. Затем обернулся назад и скомандовал:
– Привал!
Мгновенно бойцы спешились, и все вокруг наполнилось веселым шумом. Командир и толстый узбек бросили поводья на шеи лошадей и пригласили нас выпить вместе с ними пиалу чая.
Сердце мое билось учащенно. Котловина, поросшая гребенщиком, была совсем недалеко, две охотничьи собаки уже рыскали между кустами. Некоторые бойцы, расстегивая на ходу ремни, также устремились туда. Опасная тайна каждую минуту могла раскрыться. Во что бы то ни стало нужно было поскорее уходить от беды. Поэтому я вежливо отказался от приглашения командира:
– Спасибо… Мы уж и чаю напились, и поели. Если разрешите, мы намерены продолжить наш путь.
Толстый узбек перевел мои слова командиру. Тот зорко заглянул мне в лицо и сказал:
– Время нельзя догнать. Не спешите… Раз уж встретились, давайте выпьем вместе чаю. Мы тоже не собираемся задерживаться. Знакомство – дело хорошее. Может, когда-нибудь еще доведется встретиться.
Мне показалось, что командир о чем-то догадывается. Но, видимо, как человек опытный, он действовал не спеша, хладнокровно. С тем же радушием в голосе он повторил:
– Слезайте с коней, слезайте… Мы вас долго не задержим!
Я спешился. Переговариваясь с окружающими, командир направился к бойцам. Мы остались с толстым узбеком. Бойцы проворно нарубили веток гребенщика и устроили подстилку, принесли чай. Узбек начал задавать нам вопрос за вопросом: кто мы, куда идем, когда мы вышли из Хивы? Немного погодя вернулся и командир. Сразу же спросил, улыбаясь своими голубыми глазами:
– Ну как, Ахмед… Познакомились?
Продолжая сидеть, Ахмед почтительно ответил:
– Да, Валентин Васильевич, познакомились. Таксыр возвращается на родину, в Аравию.
– Вот как? – Командир сел напротив и, все так же зорко глядя на меня, переспросил – Так вы араб?
– Да… Слыхали о Мекке?
– Слышал… Мекка… Медина… Кто их не знает?
– Я из Мекки. Из самого Байтил-Харама.
– А сюда-то как вы попали?
Повторяя тщательно заученную легенду, я рассказал, как приехал в Туркестан, где побывал, с кем встречался. Командир внимательно выслушал мои почти правдоподобные измышления и. многозначительно улыбнулся:
– Значит, спасаетесь от беды?.. Так?
– Да… Если бы все было спокойно, я, может быть, еще не уехал бы. Но в этих краях усиливается беспорядок. Огонь бедствия разгорается все сильнее и сжигает все окружающее.
– Люди Джунаид-хана, говорят, подняли крик: «Большевики, мол, арестовывают духовенство». Может, и это вас встревожило?
– Нет, в этом отношении я ничего не опасаюсь. Я – человек религии. Религия не нами придумана. Она имеет свою историю. Имеет свое прошлое, свое будущее… Миллионы людей ежедневно по пять раз возглашают хвалу создателю. Просят его защиты. Если даже перебьете всех духовных лиц, вы не сможете уничтожить корни религии, ибо религия не зависит от духовенства – она заключена в душах людей. Вот сейчас в Хиве поднялся большой спор. Вы, большевики, тут не в счет. Старейшины мусульман спорят между собой. Сеид-Абдулл а тащит людей в одну сторону… Джунаид-хан тянет их в другую… Тачмамед-хан поет свою песню. Все трое– мусульмане. Все трое – старейшины. Скажите сами: кому должны помогать мы, преданные слуги создателя? Кого поддерживать?
– Никого! – ответил командир. Его, видимо, очень заинтересовали мои рассуждения. – Если вы человек религии, то должны оставаться в стороне от теперешних событий. Вы не должны вмешиваться в политику.
– Мархаба! Отлично! – Я продолжал еще серьезнее – Совершенно верно. Оставаться в стороне от теперешней смуты. Учить людей, что споры и вражда противны исламу и шариату…
Я обратился к Артуру: – Абдулла! Подай сюда священный Коран.
Артур легко поднялся, раскрыл хурджин и, достав оттуда завернутый в кусок зеленого бархата Коран и несколько раз приложив его к своему лбу, подал мне. Я тоже прикоснулся к нему лбом. Затем стал листать страницы. Остановившись на одной из них, с выражением прочитал несколько строк. Затем приблизительно перевел прочитанное:
– В первом стихе восьмой суры священного Корана говорится: «Слуги создателя! Соблюдайте между собой порядок и мир». Аллах осуждает бессмысленные усобицы. Он любит терпеливого!
Я снова поднес Коран ко лбу и, возвращая книгу Артуру, добавил:
– Все, что совершается на свете, совершается по воле создателя. Без его воли и малая хворостинка не будет сдвинута с места. В священном Коране так именно и сказано.
Решив доказать своим собеседникам, что я не из тех духовных, у которых нет ничего за душой, я снова обратился к Артуру:
– Абдулла! Прочитай сорок шестой стих восьмой суры.
Артур раскрыл книгу и нараспев прочитал названный мною стих. Ахмед протянул руку и попросил:
– Ну-ка дайте и мне прочитать этот стих!
Я сам взял Коран у Артура и, указав пальцем то место, которое он только что читал, громко повторил стих. Ахмед понял, что я не хочу давать книгу ему в руки, и, нагнувшись ко мне, прочитал про себя несколько слов. Повторив вслух: «…к аллаху обращаются все дела!»– и внимательно поглядев на меня, он с иронией спросил:
– Значит, революция, свержение белого царя, переход власти в руки бедного люда – все это совершилось по воле аллаха. Так?
– Конечно! – ответил я без запинки. – Без воли создателя ничего не может совершиться!
– Почему же вы тогда против революции?
– Кто против?
– Вы, духовенство, против революции.
– Нет! Далеко не все духовенство! К тому же многое зависит и от вас. Если вы начнете рубить священное дерево ислама и шариата, тогда, конечно, и мы будем вынуждены взять в руки меч справедливости. Будем бороться до последнего дыхания! Если же вы будете действовать терпеливо, разумно, не будете посягать на священные чувства народа, тогда и мы не будем вмешиваться в ваши распри.
Мои уверенные ответы сильно заинтересовали командира. Дымя удушливой махоркой, он заговорил:
– Постойте, постойте, ахун! У меня к вам вопрос: должно духовенство вмешиваться в политику или нет?
– Нет, духовенство не должно иметь дела с политикой!
– Вот в этом корень дела. Мы тоже хотим этого. Нашего вождя зовут Ленин. Слышали?
– Слышал.
– Вот он говорит: мечети и молельни нужно отделить от государства. Знаете, что это значит? Это значит, что религия не должна вмешиваться в политику!
– Правильно он говорит. У религии своя дорога, у политики – своя… Нельзя сбиваться с пути.
– А если собьются? Если, скажем, вы начнете вмешиваться в политику и поведете борьбу против нас… Что делать тогда?
– Тогда? Тогда можете покарать меня. За что создатель вас не осудит.
Из котловины послышался собачий лай. Мое сердце сжалось. Бог мой, неужели обнаружили Кирсанова? Вдруг его приведут сюда… Я старался собраться с мыслями, лихорадочно соображал, что может произойти, заранее готовясь к самому худшему.
Ахмед вступил в беседу:
– Вы, таксыр, смогли бы повторить все это перед народом?
– Нет!
– Почему?
– Боюсь… Я чужеземец. У меня нет здесь сторонников. Стоит мне ошибиться, немедленно отправят к праотцам!..
И тут я невольно вздрогнул. Боже праведный! Неужели он? Да, это был он, Кирсанов… Двое бойцов вели его, подталкивая в спину. Ни командир, ни Ахмед пока еще ничего не замечали. Я сидел лицом к зарослям гребенщика, оттого и увидел капитана раньше всех. А чуть позади другие два бойца вели лошадь с навьюченным на нее пулеметом…
Командир, улыбаясь, собрался продолжить религиозный диспут. Но то ли он заметил, что внимание окружающих чем-то отвлечено, то ли перехватил мой беспокойный взгляд, – он полуобернулся и посмотрел назад. В ту же минуту твердыми шагами подошел один из кавалеристов, молодой черноусый парень, и, взяв под козырек, доложил:
– Товарищ командир! Ваше приказание выполнено, обследовали всю котловину. В зарослях обнаружили вот этого человека. Он там прятался, прикрытый ветками гребенщика. А неподалеку лежала, стреноженная, вот эта лошадь. В другом месте мы нашли один пулемет, пистолеты и много патронов. От костра к этому месту ведут следы…
Удивительная вещь! Лицо командира нисколько не изменилось. Он был по-прежнему спокоен. Но узбек Ахмед глядел на меня недобро, с упреком, как человек, обманувшийся в своих надеждах.
Продолжая сидеть, командир внимательно, пронизывающим насквозь взглядом оглядел Кирсанова. Затем все с тем же, видимо природным, спокойствием сказал:
– Давайте познакомимся. Кто вы?
Кирсанов, должно быть, сильно продрог, лежа под сырым гребенщиком: он дрожал, словно его била лихорадка. В худом, неприятном лице его не было ни кровинки. Но глаза были спокойны. Он ответил без колебаний:
– Меня зовут Лукин… Геннадий Иванович… Солдат бывшего казачьего полка в Хиве.
– Казачьего полка?
– Да.
– Кто им командовал?
– Полковник Зайцев. Он хотел двинуть полк на Чарджуй. Мы, группа большевиков, выступили против него, предложили присоединиться к красногвардейцам в Петро-Александровске. Он нас арестовал. С помощью солдат русского гарнизона в Хиве мы бежали из-под ареста, почти полгода скрывались в окрестностях Аральского моря. Наконец решили через Кызылкумы пробраться в Чарджуй. И вот, похоронив троих товарищей в песках, я после долгих мучений добрел до этих мест. Хотел было идти дальше, а тут появились вот эти трое. Я подумал, что это басмачи, и спрятался.
Командир насмешливо улыбнулся:
– У тебя пулемет… И ты прячешься от каких-то трех басмачей?
– А что делать? Он, проклятый, не работает. В Кызылкумах потерял огниво.
Командир посмотрел на черноусого кавалериста, как бы спрашивая: «Это правда?» Тот подтвердил слона Кирсанова: пулемет в самом деле неисправен.
Командир повернулся в мою сторону:
– Значит, вы этого человека видите впервые?
– Да, – спокойно ответил я. – Никогда его не видел.
Ахмед неприязненно посмотрел на меня и сердито буркнул:
– Ложь!
Я пожал плечами, как бы пе находя ответа.
– Кроме всевышнего, у меня пет свидетеля!
Командир снова перевел взгляд на Кирсанова:
– Кто прикрыл вас ветками гребенщика?
– Сам.
– Вы видели нас?
– Нет… Не видел, как и эти трое подъехали. Думал пролежать до темноты… А потом идти дальше.
Не сводивший с меня глаз Ахмед с угрозой спросил:
– Ты поклянешься на Коране, что не знаешь его?
– Нет! – так же спокойно ответил я. – Отсеките мне голову, но я не стану клясться. Не пристало человеку религии давать клятву. Но то, что я его не знаю, – правда. Поверьте: я никогда в жизни не лгал.
Я был поражен мужеством Кирсанова. Он был весь в грязи, даже брови и ресницы его были залеплены глиной, зрачки глаз еле виднелись. Но он держался твердо, говорил уверенно, как человек, верящий в свою судьбу.
Командир встал и, подойдя вплотную к Кирсанову, смерил его с ног до головы яростным взглядом. Затем грозно проговорил:
– Значит, вы не хотите очиститься от грязи… Предпочитаете валяться в болоте, а не сознаваться. Так?
Кирсанов ответил без страха:
– Что это значит? Кто любит грязь?
– Как видно, есть такие… Иначе вы не стояли бы так!
Командир обернулся ко мне и, не меняя тона, сказал:
– Ахун! Вам также придется поехать с нами.
– Куда?
– В Турткуль.
– А что мне там делать?
– Приедете и узнаете!
23
Спустя два дня мы прибыли в Турткуль– форпост туркестанских большевиков на пороге Хивы. На старой русской карте этот городок был известен как Петро-Александровск. От Хивы его отделяла только Амударья. Стоило пересечь ее, и вы попадали в другой мир.
Большевики придавали Турткулю большое значение. Они сосредоточили здесь крупные силы, готовясь к затяжной борьбе. К тому же Турткуль являлся убежищем для хивинских бунтовщиков. Пройдя здесь большевистскую школу, они разъезжались по районам Хивы, стремясь опрокинуть и без того шатающийся трон хивинского хана. Люди Джунаид-хана не один раз пытались овладеть Турткулем. Они хорошо понимали, что по соседству с пороховой бочкой долго не проживешь, но у них не было сил, чтобы самим взорвать ее.
Нас заключили в гарнизонную тюрьму. В тесном, огороженном колючей проволокой доме было всего несколько комнат. «По-видимому, тюрьма построена специально для политических заключенных», – предположил я.
Так и оказалось. Вот уже месяц, как я перешагнул порог тюремной камеры. За это время не видел никого, кроме следователя, который вел допрос, да караульных солдат. Правда, недели две тому назад ко мне в камеру посадили одного старика. Он рассказал, что сам из Нукуса, что большевики арестовали его, обвинив в связях с Джунаид-ханом, и что теперь его везут в Чарджуй. Я сразу почувствовал, что это не простой человек, поэтому пошел на «откровенный» разговор и быстро «раскрыл душу». Старик прощупывал меня со всех сторон. Мы провели неделю в бескровных схватках. Бог знает, кто вышел победителем, а кто был побежден в этом поединке. Думаю, старик покинул камеру, уверенный, что именно он одержал победу. Только этого мне и нужно было!
До сих пор мне не приходилось сидеть в тюрьме. Наверно, поэтому месяц показался мне целой жизнью. Не осталось ни одного события, которое я не. вспомнил бы. Не один раз перебрал все свое прошлое, начиная с дней беззаботного детства, вплоть до самых извилистых перепутий жизни. Вспоминал последние дни, пытался окинуть мысленным взглядом будущее, снова обратился к прошлому… Что может быть стремительнее воображения! За какие-то секунды можно облететь всю свою жизнь. А ты вынужден прозябать здесь, в полном одиночестве, влача серые, однообразные дни.
Я чувствовал, что голова у меня начинает распухать от одних и тех же назойливых, неотвязных мыслей. Чем кончатся эти полные лишений скитания? Куда занесет меня необычная судьба? Допустим, я вырвусь из этого ада… Вернусь в Асхабад… Вряд ли мне скажут: «Молодец, отлично выполнил задание». Начнутся ворчливые попреки, нотации, поучения… Я отлично понимал, что на радостную встречу не приходится рассчитывать. И все же мечтал об одном: как бы вырваться из этого плена. Самое худшее, что мне грозит дома, – несколько задержится производство в генералы. Пускай… И без того я твердо решил: как только окончится война, отказаться от своей неблагодарной профессии и провести остаток дней своих в покое, в кругу семьи. Но в глубине души все Же теплилась надежда на генеральские погоны, на повышение в должности. Я понимал: закончись мое путешествие удачно, и завтра же мои фонды резко повысятся… Но сейчас ветер удачи отвернулся от меня. Быть может, он еще вернется? Быть может, мне еще откроется путь к славе? Я еще смогу воспарить? Только об этом я и молил создателя.
В первые дни меня хоть вызывали на допросы. На второй день по приезде меня допрашивал Ахмед. Он был по-прежнему настроен против меня. Как оказалось, па случайно. В шестнадцатом году, поддавшись на уговоры муллы в своем родном селении, он был отправлен на тыловые работы и около двух лет трудился на дорогах в Центральной России. Поэтому и теперь он весь вспыхивал, едва увидев чалму. Ни разу не взглянул на меня доброжелательно. Я пошутил:
– Напротив, вы должны сказать спасибо мулле. Не попади вы на тыловые работы, не стали бы большевиком.
– Я ему скажу «спасибо»! Рано или поздно попадется мне в руки. Эх, вы… Что вы знаете, кроме гнусных хитростей и уловок?
Слава богу, с этим крикуном больше я не встретился. В дальнейшем следствие вел татарин по фамилии Габдуллин. Он оказался терпеливым, рассудительным человеком. До войны был преподавателем гимназии в Ташкенте. Затем был призван в армию. С фронта вернулся без левой руки.
Недели две он все искал подхода ко мне. То заигрывал, то угрожал. Фотографировал меня в разных позах. Но ничего не добился. Я боялся одного: фотографии, по всей вероятности, отослали в Ташкент. Если вдруг они попадут там в руки кому-нибудь вроде князя Дубровинского, меня сразу разоблачат. По всему было видно – здесь ждут указания сверху. Но последние дни меня никто не тревожил. Поэтому я даже обрадовался, когда караульный, открыв дверь, грозно объявил:
– Выходи! На допрос!
Я вскочил на ноги, накинул на плечи шубу и вышел из камеры. Время близилось к вечеру. В воздухе чувствовался холодок – зима неумолимо вступала в свои права. Вот игра судьбы: Мешхед я покинул в жаркий летний день. Надеялся закончить свой путь самое большее за полтора месяца. А вот уже кончается четвертый месяц, прошла осень, наступает зима, а до финиша еще очень и очень далеко. И главное– еще совсем не ясно, предстоит ли мне двинуться дальше или я уже закончил свой путь? Вдруг меня, не дай бог, загонят в Ташкент! Что тогда делать?
После полутемной, душной камеры приятно было выйти на воздух. Хотелось вздохнуть всей грудью, казалось, с каждым вздохом становится легче. Издали доносились голоса солдат, звуки оркестра. Веранда здания, куда меня привели на допрос, была украшена лозунгами и плакатами. На длинном, метров в пять, полотнище из красной материи было написано крупными буквами: «Да здравствует мировая революция. Да здравствует товарищ Ленин!» Эту надпись я читал каждый раз, приходя на допрос. И теперь она привлекла мое внимание. Над большой дверью был прибит портрет Ленина, по сторонам портрета тихо колыхались на северном ветру выцветшие красные ленты.
Габдуллин встретил меня как обычно: поднявшись навстречу и слегка улыбаясь, справился о моем здоровье. В ответ я положил правую руку на стол:
– Видите, как дрожат пальцы? Во всем виноваты вы! Хорошо, если человеку приходится терпеть за какую-то вину. Это еще куда ни шло… Но если тебя заставляют страдать, когда ты твердо знаешь, что ни в чем не виноват… Держат в тюрьме… Проявляют грубое насилие… Топчут тебя солдатским сапогом… Это не всякий человек выдержит! Поймите: я не безмозглое животное. Я человек! Слышите? Я человек!
Бывают на свете такие толстокожие существа, на которых не действуют ни жара, ни холод… Таких не проймешь ни криком, ни мольбами… Кричи на него или умоляй, он все равно так же спокоен, так же не меняется в лице. Габдуллин был именно из таких. У меня накипело на сердце, – казалось, станет легче, если я сейчас выскажу все, что думаю. Поэтому я с самого начала повысил тон. Но Габдуллин даже бровью не повел. Ответил хладнокровно:
– Значит, вы уверены в своей невиновности?
– Конечно, уверен… Если я виновен, скажите! Что такое я сделал?
– Скажем. – В голосе Габдуллина неожиданно прозвучала угроза. – Невиновных не держат в тюрьме.
– Тогда почему же вы задержали меня?
– Потому что вы виновны!
– В чем я виновен?
– Уж это лучше скажите сами. Лукин нам все открыл.
– Ложь!
– Почему – ложь?
– Потому, что я его не знаю.
– Если вы его не знаете, то он знает вас. Он рассказал все, рассказал даже, кто вас провожал из Хивы.
Мои нервы, напряженные до предела, вдруг расслабились. Я почувствовал себя так, словно гора свалилась с плеч. «Он рассказал все, рассказал даже, кто вас провожал из Хивы…» Одна-единственная неосторожная фраза объяснила все: большевики еще ничего не знают. Они думают, что я еду из Хивы. Полагают, что я турецкий эмиссар. На допросах Габдуллин раза два. как бы между прочим, уже намекал на это. Я тогда нарочно сделал вид, будто не придаю значения его намекам.
Стараясь не выдать овладевшего мною спокойствия, я продолжал с прежней горячностью:
– Вы не уличите меня ни в чем, даже если продержите здесь десять лет. Я служитель религии. Я не имею дела с политикой!
Широко раскрыв близорукие глаза, прикрытые очками, Габдуллин сердито посмотрел на меня:
– Завтра отправитесь в Ташкент. Там скажут – занимаетесь вы политикой или нет!
Больше всего я боялся именно этого! Не приходилось сомневаться – в Ташкенте быстро выяснят, кто мы такие. Сердце, только что успокоившееся, снова усиленно забилось, снова нахлынули самые мрачные мысли. Но делать было нечего. Оставалось положиться на судьбу. Поэтому я постарался ответить как можно спокойнее:
– Значит, вы вызвали меня, чтобы проститься?
– Да, я хотел проститься.
– Вы одного меня посылаете?
– Нет… Все едете. И Лукин тоже едет.
Габдуллин поднялся и, язвительно улыбаясь, закончил:
– Доброго пути!
В последнее время я и без того страдал бессонницей. Ночи напролет ворочался с боку на бок, пока наконец не засыпал, выбившись из сил, измученный непрерывной вереницей мыслей. Но и тогда не приходило успокоение: меня начинали душить кошмары, я то и дело вскрикивал и просыпался в холодном поту. А тогда опять являлись все те же мысли, и снова я принимался ворочаться на своем жестком матраце. Иногда пробовал уговаривать себя: зачем ты мучишься? Ведь все равно тебя здесь никто не пожалеет, даже если ты все дни и ночи будешь проводить в горьких слезах. Ты – затонувшее судно. Разве шторм может причинить вред затонувшему судну?
Так я успокаивался на некоторое время. Вернее сказать, пробовал убедить себя. Может быть, поэтому сообщение Габдуллина, сперва сильно встревожившее меня, затем пробудило искорку надежды. Вдруг в пути случится что-нибудь и мне удастся унести ноги? Вдруг счастье улыбнется нам и кто-нибудь нас выручит? Может быть…
Закутавшись в шубу, я лежал, свернувшись клубком, и одну за другой перебирал счастливые возможности, какие могли встретиться по дороге в Ташкент. Как я ни корчился под шубой, тепло не приходило. Да и откуда ему взяться! Матрац подо мной был тверд, как доска. Моя превосходная шуба за дорогу изрядно вытерлась и уже разъезжалась по швам. Ни разу еще мне не выпадало такой морозной ночи! Как я ни старался, сон бежал от моих глаз, не удавалось даже сомкнуть веки. А ведь большая часть ночи, пожалуй, прошла уже!..
Я поднялся, подошел к узкому решетчатому окошечку, привстал на цыпочки и посмотрел на улицу, но стекло окна покрылось инеем, и ничего нельзя было разобрать.
Я начал шагать взад и вперед по камере. Ноги, казалось, онемели от холода и не слушались. Снял меси, начал растирать пальцы ног, пятки. Снова принялся ходить. Потом опять бросился на койку и, завернувшись в шубу, пытался представить себе мой дом в Лондоне, уютные, теплые комнаты, вспомнил жену Мэри, ее нежные объятия… Вспомнил сына…
Вернутся ли когда-нибудь эти счастливые дни?
Уже начало светать, когда я наконец заснул. Вернее, забылся в тяжелой дремоте. Но как только часовой загремел засовом, я тут же открыл глаза, поднял голову и посмотрел на окошко. Было еще довольно темно, но уже доносилось предрассветное пение петухов.
Двое бойцов, широко распахнув дверь, вошли в камеру. В руках первого бойца был фонарь. Как бы кого-то разыскивая, он пошарил фонарем по камере. Затем, направив фонарь прямо на меня, скомандовал:
– Встать! Собрать вещи! После завтрака готовьтесь в дорогу!
Я молча встал, совершил намаз и начал собирать вещи. Немного погодя совсем рассвело. Начинался еще один безрадостный день моей жизни.
Было очень холодно, с севера дул сильный, пронизывающий насквозь ветер. Вокруг все было покрыто инеем – стены домов, стволы деревьев. Зима, видимо, наступила по-настоящему.
Всех нас собрали во дворе. Я поздоровался с Ричардом и Артуром, спросил их о здоровье. Но тут один из бойцов прикрикнул:
– Разговоры запрещены!
Кирсанов, видно, тоже сильно продрог ночью. Ом не мог стоять спокойно, переступал с ноги на ногу. Наконец закричал со злобой:
– В такой холод – и ехать верхом? Вы что же, убить нас хотите? Совести в вас нет!
Низкорослый командир в бурке из верблюжьей шерсти подошел к Кирсанову и насмешливо спросил:
– Что, холодно?
– Нет, жарко, так жарко, что даже мозги плавятся! – Глаза Кирсанова, казалось, вот-вот выскочат из орбит, так он был зол. – Вам только бы болтать о человечности. На это вы мастера. А на деле… Эх, вы…