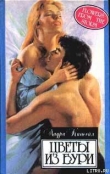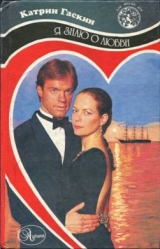
Текст книги "Я знаю о любви (Зеленоглазка)"
Автор книги: Кэтрин Гаскин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Глава пятая
I
В день похорон Тома в Мельбурн вернулся Адам.
Когда пришло известие, что «Эмма Лэнгли» пришвартовалась в бухте Хобсон Бей, я направилась не туда, а прямиком на Лэнгли Лэйн. Мое чувство не обмануло меня. Адам был там, он стоял среди обгоревших развалин конюшни, а вокруг сновали люди, расчищающие двор. Неверящими глазами он смотрел на место, где когда-то находился наш дом, на высокую почерневшую стену универмага, возвышавшуюся рядом.
Я подняла черную вуаль.
– Все пропало, Адам, – сказала я. – Мы ничего не могли спасти.
Вместо ответа он нагнулся и поднял обгоревший кусочек дерева.
– Посмотри, – произнес он. – Я даже не знаю, что это было. Может, я сделал это своими руками. Это, может быть, полка, или ножка стула, или покрытие пола. Что это, Эмми?
Он протянул его мне.
– Не знаю, – ответила я.
Впервые я почувствовала всю тяжесть потери. Все, что у меня было от Адама, находилось здесь. Все, что он с такой гордостью и любовью делал собственными руками, осталось здесь. Это было нашим спасением и поддержкой, осязаемой вещью, на которую можно было глядеть и вспоминать о годах, проведенных вместе. Теперь от этого ничего не осталось, и я не могла найти замену исчезнувшему.
Он взял меня за руку и повернулся, чтобы уходить. Я опять опустила на лицо вуаль.
– Мы пойдем к Лэнгли, – сказала я. – Джон Лэнгли ждет нас.
– Оставаться там? – Он резко отпустил мою руку.
Я увидела, как прежняя суровость появилась на его лице.
– Давай не пойдем туда. Мы найдем гостиницу.
– Гостиницу? Но они нуждаются в нас! Дети нуждаются во мне.
Он пожал плечами.
– В таком случае мы пойдем.
Я совершила ошибку и уже знала об этом.
Кортеж был очень длинным – больше мили, как и положено на похоронах члена семьи Лэнгли. Катафалк везли шесть украшенных плюмажем черных лошадей – факт сам по себе настолько редкий в колонии, что запомнят его надолго. Не знаю, где Джон Лэнгли нашел этих лошадей, но они были прекрасны, блестящие на жарком солнце и черные, как венок на двери Лэнгли-хауса. Джон Лэнгли, Роза и Элизабет ехали в первом экипаже. Адам и я ехали одни во втором. То, что мы носили фамилию Лэнгли, было для нас в те дни тяжелым бременем.
После похорон продолжались посещения. Мы узнали о ритуале пятиминутного соболезнования, пятиминутного пребывания в гостиной, где были приспущены драпировки на окнах, когда скорбными и приглушенными голосами посетители говорили о Томе. По-моему, здесь был весь Мельбурн, некоторые приходили с искренним сочувствием и добротой в сердце, но большинство явилось просто из любопытства.
Джон Лэнгли был непреклонен в своем стремлении исполнить ритуал до малейших деталей. Каждый присланный венок надо было отметить и послать в ответ признательность, на каждое письмо – а они приходили изо всех уголков страны, из всех колоний – нужно было ответить и принять каждого посетителя.
Мы все вместе сидели в столовой, когда у входной двери снова раздался стук, я увидела, как Роза закрыла рукой глаза и произнесла в приступе усталости и попытки сопротивления:
– Я больше не могу… Я не буду!
– Ты должна, – ответил Джон Лэнгли. – Это твой долг, долг вдовы моего сына.
II
Мрак, царивший в доме в первую неделю после похорон, казалось, проникал в самую душу. Теперь мы все носили черные платья, которые я просто ненавидела, и стали пленниками за мрачными, всегда опущенными шторами. Невозможно было убежать от этой атмосферы и друг от друга. Обеды проходили в молчании, их молниеносно подавали и так же молниеносно убирали со стола. И оставался долгий пустой провал во времени до ужина, потом наступали длинные вечера под шуршание газет, чтением которых Джон Лэнгли пытался развлечь нас. Мы уходили спать очень рано, только чтобы не находиться дольше в компании друг друга, а потом лежали, беспокойно ворочаясь в кровати.
Элизабет почти все время проводила в комнате для домашнего хозяйства, но я постоянно ловила на себе ее косые неодобрительные взгляды. Кажется, она думала, что мое присутствие в доме угрожает ее положению; когда она со мной заговаривала, а это случалось крайне редко, то ее голос был сухим и враждебным. И она перестала носить опаловую брошку Розы.
Занять свои руки, если не мысли, я могла вышиванием, у бедной же Розы не было никаких занятий. Из-за траура в доме она не могла ни играть на пианино, ни петь, не было поездок в экипажах. Все чаще Роза, ссылаясь на недомогание, уединялась у себя в комнате.
– Тебе не следует этого делать, – говорила я. – Ведь ты же хозяйка этого дома.
Она предпочитала делать вид, что не понимает меня.
– В этом доме нет хозяйки. Есть только хозяин.
Мы все завидовали Адаму, который мог свободно уезжать каждый день. Через неделю «Эмма Лэнгли» вновь отправится в плавание, в долгий вояж в Англию с грузом шерсти для йоркширских фабрик. Сейчас судно готовилось к отплытию, и Адам сам наблюдал за работой. Он уезжал рано утром перед завтраком и возвращался незадолго до обеда, и я знала, какое чувство облегчения он испытывает, когда каждое утро за его спиной закрывается дверь этого дома. Он был свободен, когда уходил в свой мир кораблей, который не имел ничего общего с миром женщин, черных платьев и приглушенных голосов. Он мог убежать от скорбных слез, да и от скуки тоже.
Я видела, что каждый вечер Роза ждала его возвращения так же, как однажды ждала Джона Лэнгли. Каким-то образом она всегда предугадывала время его появления. Роза стояла на лестнице, когда раздавался звонок в дверь и он входил на порог. Рискуя навлечь на себя гнев Джона Лэнгли, приоткрывала занавески на окнах в столовой, чтобы посмотреть, не идет ли он по улице, и сама открывала дверь, прежде чем Адам успевал позвонить.
Она засыпала его разговорами и вопросами, это было единственное время за целый день, когда в доме слышались людские голоса. Их разговор продолжался до обеденного гонга. Из своего кабинета появлялся Джон Лэнгли, и беседа обрывалась. Иногда им удавалось проводить минут десять наедине в гостиной при открытых дверях, так что любой мог услышать их невинный разговор. Но все же я чувствовала напряженность этих минут. В этом коротком отрезке времени была сконцентрирована вся потребность Розы в компании, в любви и восхищении. В голосе Адама я улавливала те особые нотки, которые всегда появлялись при его общении с Розой, ведь Адаму постоянно приходилось произносить не те слова, какие рвались из сердца.
Мне казалось, что в эти короткие встречи между ними происходило какое-то особое общение, возникало особое исключительное чувство, и я ни разу не решилась нарушить их уединение, вмешаться в разговор и предъявить свои права на Адама. Я скрывалась на лестничном пролете над гостиной и слушала. Но никогда не спускалась. А только тихо молилась, чтобы скорее прозвучал гонг.
Роза не раз жаловалась, что черные одежды ей не к лицу, но мне казалось, что в них у нее был царственный вид, который терялся во всех других платьях. Траур только подчеркивал красоту ее лица. Но я не знала, какой видел ее Адам.
Ни Джон Лэнгли, ни я не ходили в универмаг в первую неделю после похорон, хотя из-за беспорядка и потерь, принесенных пожаром, работы хватало на всех с излишком, и мы были нужны там. Каждый день Клей приносил свои книги в кабинет Джона Лэнгли, и они подолгу работали. Очень неохотно, но мне позволили участвовать в их дискуссиях. Джон Лэнгли по-прежнему открыто не признавался в том, как необходима я стала ему в делах. Мы по-прежнему разыгрывали маленький спектакль, когда он важно рассказывал о моих предложениях и замечаниях, а я кивала головой в знак согласия, как будто слышала их впервые.
И все же одно решение было принято без моего участия. На пятый день после пожара меня позвали из классной комнаты, где я делала вместе с детьми уроки, в кабинет. Все книги были закрыты и лежали на столе. Когда Джон Лэнгли приподнялся, чтобы приветствовать меня, мне показалось, что в его обычно холодных глазах мелькнули удовольствие и возбуждение – выражение, которое вернуло на какое-то мгновение его старому лицу юношескую искру.
– Мы полностью обсудили все, миссис Эмма, и решили, что страховки будет достаточно. Наши потери от пожара полностью покрыты деньгами, и мы решили построить склад заново, на том же месте. Отдел для дам придется уничтожить. Клей подсчитал, что расходы по ремонту не оправдают себя.
– Вы закрываете?..
Он предупреждающе поднял руку, прося тишины.
– Когда в следующем году истечет срок аренды на мою собственность на противоположной стороне улицы – булочную и ателье, – я предполагаю снести их и возвести четырехэтажное здание из синего камня. Вы будете его заведующей, миссис Эмма: одежда для женщин, постельное белье, занавески, детская одежда и игрушки – все, что может понадобиться женщине в хозяйстве.
Я чувствовала, как радостное волнение поднималось во мне, но когда я заговорила, мой голос звучал спокойно и уравновешенно. Я отвечала в его собственной манере:
– И еще книги, – сказала я, – у нас будет книжный отдел.
Он нахмурился.
– По моему опыту не могу сказать, чтобы леди очень интересовались книгами. Отдел для книг будет уместен на другой стороне улицы… – Он поднял руку, охваченный редким для него энтузиазмом. – У нас будет такой же отличный магазин, как в Сиднее… – нет, даже лучше! Пришло время в Мельбурне появиться торговому центру подобающих размеров.
Час спустя мы все еще обсуждали проект, говорили о деньгах, которые потребуются, о принципах ведения торговли. По некоторым вопросам мы жарко поспорили. Я отвоевала себе отдел детских книг, а он оставил за собой продуктовый отдел. Мы спорили, и на время он забыл, что я женщина, а следовательно, со мной спорить не стоит. Но вот я услышала быстрые шаги Розы и ее радостное приветствие, когда она открывала дверь Адаму, и снова почувствовала холодное уныние.
– Эмми? – В ее тоне была нотка пренебрежения. – О, она там, в кабинете, разговаривает о делах.
III
Я одержала еще одну, более важную победу над Джоном Лэнгли. Это произошло в тот день, когда отплывала «Эмма Лэнгли». Корабль должен был уйти с вечерним приливом, и, поднимаясь по лестнице в детские спальни и классные комнаты, я чувствовала, как глубокая подавленность, близкая к панике, накатывалась на меня. Адам вновь покидал меня, но это было больше, чем просто прощание. Мы ни разу не были вместе в этом доме. Он был здесь чужим человеком, чьи глаза смотрели куда-то вдаль, который слушал мои слова, но не слышал их. Нам крайне необходимо было иметь время для себя и помещение, куда мы могли бы пойти и вдвоем спокойно поговорить. Мы нуждались в том, чтобы вновь найти путь к взаимопониманию.
В этом доме не было настоящего общения. Царящая в нем атмосфера и присутствие Розы замораживали нас. А этим вечером Адам уплывал в долгое путешествие. Я чувствовала свою полную беспомощность и немоту, проклинала свою неспособность преодолеть робость, так мешавшую мне. Почему я могла делать тысячи других всевозможных вещей, но не могла совершить этот самый важный в моей жизни поступок? У меня перехватило горло, и к глазам подступили слезы.
Утренние занятия у детей уже закончились. Между гувернанткой мисс Велз и мной установилось молчаливое согласие, и мы крайне редко вдвоем бывали с детьми… Мне кажется, очень часто она рада была отдать их под мою опеку, особенно когда Джеймс становился неуправляемым, как, например, случилось в тот день. Я видела следы слез на лице Энн, а Вильям стоял у окна и недовольно сопел. Генри устроился в углу и упрямо глядел в книгу, развернутую перед ним, совершенно не реагируя на попытки Джеймса отвлечь его. Они выглядели обиженными, несчастными, готовыми в любую секунду поссориться, восстать против неестественных ограничений, возложенных на них из-за траура в доме.
Джеймс повернулся и с надеждой посмотрел мне в лицо.
– Я хотел поиграть в птиц, миссис Эмми, но никто не играет со мной.
– Это потому, что ты такой поросенок, – вызывающе ответила Энн. – Никто не будет играть с поросенком.
– А ты слониха…
– Достаточно, – вмешалась я.
Я слишком устала от мрачной тишины и скорби, царящей в доме, и сильнее, чем кто-либо из них, нуждалась в том, чтобы сбросить свою подавленность, дурное предчувствие, что, покинув сегодня этот дом, Адам больше никогда ко мне не вернется.
– Мы будем играть в птиц.
Они с надеждой посмотрели на меня, а лица их просветлели.
– Энн, – сказала я отрывисто, – принеси свою старую голубую накидку. А ты, Джеймс, принеси два коврика из детской. Вильям, Генри, вы положите коврики прямо перед столом.
Я выдумала очень глупую игру: взбираться на огромный классный стол при помощи стульев, быстро пробегать по нему и прыгать на сложенные внизу коврики. Они все терпеливо ждали, пока я надену на них накидку и прикреплю к запястьям ее концы. То, как она хлопала у них за спиной во время прыжка, создавало Генри и Вильяму видимость полета. Но вскоре старшим детям надоела эта формальность. Они начали просто забираться на стол, пробегать по нему и спрыгивать вниз, иногда после этого прокатываясь по полу, чтобы продлить удовольствие. Они стали шумными и грубыми, даже Энн.
Я слушала их бурные, возбужденные крики и чувствовала, как мое собственное напряжение уходит вместе с их нарастающим весельем. Я была рада кавардаку, который они устроили в мрачном доме.
Крики Энн становились все возбужденнее и выше. Она воображала и танцевала на столе. Джеймс, нетерпеливо ожидающий своей очереди, залез и подпихнул ее к краю стола. Она кувырком полетела на коврики, и у нее даже прервалось на мгновение дыхание. Отдышавшись, вместо того, чтобы расплакаться, она громко рассмеялась, а на щеках вспыхнул яркий румянец от возбуждения. В ту минуту в ней неожиданно проснулись дикие наклонности Розы.
Вдруг дверь отворилась, и голос Джона Лэнгли послышался среди веселых детских криков и воплей.
– Тихо! Что все это значит? Энн, немедленно встань с пола. Это неприлично, мисс. А ты, Джеймс, слезь со стола, – он холодно посмотрел на меня. – Не знаю, кто это устроил, но подобное поведение непозволительно, когда в доме траур. Неужели у вас, дети, нет никакого уважения к памяти о гибели собственного отца?
Я увидела, как их головы медленно поникли, слышала напряженное шарканье ног. Казалось, голос деда ошеломил их. Возбуждение и радость сошли с лица Энн, оно стало тихим и замкнутым. Это изменение произвело на меня странное действие: мне почудилось в этом слишком много от Элизабет, слишком много смиренного терпения, так внезапно сменившего бодрое расположение духа.
Я обратилась к Джону Лэнгли.
– Мне нужно поговорить с вами наедине.
Дети молча наблюдали за нашим уходом. Оказавшись в холле и закрыв за собой дверь, я повернулась к нему. Он казался очень высоким по сравнению со мной.
– Они слишком юны, чтобы утихомиривать их таким образом, – сказала я. – Траур или нет, но они дети. Неужели вы хотите, чтобы они превратились в мрачные тени, бродящие по дому, как Элизабет? Или как Том?
– В моем доме… – начал он.
Я прервала его.
– В вашем доме? Тогда, возможно, вы хотите жить в нем один? Потому что я больше не останусь здесь ни секунды, чтобы не быть свидетелем того, как им не позволяют даже повысить голос.
– Мы обсудим это позже, – сказал он и повернулся, намереваясь уйти. – В более подходящее время.
Но мы так никогда и не обсуждали этого. Это была моя первая маленькая победа над ним, и я знала, что в дальнейшем битв предстоит еще больше. Я вернулась к детям. Они были подавлены и немного испуганы. Мы не стали продолжать игру, и никто не упомянул о визите деда. Они ждали, что их накажут. Но ничего подобного не последовало, и хорошее настроение вновь возвратилось к ним.
IV
В тот день Роза приказала подать экипаж, чтобы прогуляться. После похорон это был ее первый выезд в город, и вся домашняя челядь, казалось, была очень озабочена приготовлениями.
– Мне нужно немного свежего воздуха, – сказала она, – или я не смогу уснуть ночью.
Она никого не пригласила сопровождать ее.
Но меньше чем через минуту после того, как входная дверь захлопнулась за ее спиной, мы услышали, как она нетерпеливо звонит. Я вышла на лестницу, когда услышала ее разъяренный голос. Она взбежала наверх по лестнице.
– Занавески были плотно задернуты, – начала она, увидев меня. – Кучер получил указание поворачивать обратно, если я раздвину занавески. Разворачиваться обратно! – возмущенно повторила она. – Нет, это я приказала ему разворачиваться.
Она пронеслась в спальню, оставив дверь открытой. Я переступила порог и остановилась там. Роза скинула свою боннетку и запустила ею в стул, но промахнулась.
– Он пытается задушить меня, – проговорила она. – Он думает, что, если достаточно долго продержит меня задрапированной в черное, я задохнусь.
Роза прошлась по комнате, как тигрица, пойманная в сети и без устали борющаяся за свободу.
– Я хотела немного подышать свежим воздухом. Просто выехать из дома и посмотреть на людей на улицах. Почувствовать тепло солнечных лучей… Но нет, для него – это неуважение к умершему. Когда он втолковывает мне о моем долге, то не имеет в виду скорбь по Тому. Он имеет в виду черные платья и задернутые занавески, чтобы я не выходила из своей комнаты и разговаривала шепотом.
Она резко повернулась ко мне.
– Но мне давно уже следовало выезжать в город, кататься по Мельбурну с отдернутыми шторами и без вуали, кланяясь любому знакомому, которого встречу, не важно, ответит он или нет. Это дало бы обильную пищу для сплетен. Но я полагаю, он боится именно этого. – Она скривила губы в злобной улыбке. – Он боится, что мне захочется остановиться у Хансонов и зайти к Робби Далкейту. Он в Мельбурне, Эмми. Возможно, мне и следовало бы это сделать… чтобы испугать старика.
Она вновь начала ходить по комнате, потом остановилась у зеркала, висевшего над столом, и нагнулась вперед, чтобы лучше вглядеться в свое отражение.
– Но Робби не должен видеть меня такой. Какая я бледная! Этот мерзкий черный цвет! Я выгляжу так, будто уже умираю. Эмми, помнишь, что происходило с травой в Балларате, когда на нее ставили палатку? Всего через несколько дней? Помнишь, как трава белела, прежде чем погибнуть? Она превращалась в белую, прежде чем побуреть, – еще живая, но уже белая, а не зеленая. Вот и он хочет, чтобы это произошло со мной. Он хочет видеть меня белой и полумертвой, не испытывающей желания даже поднять голову.
Я ничего не могла возразить.
– Постарайся быть терпеливее, Роза. Это время скоро минует. Через год…
– Год? Я не смогу прожить так целый год! И он знает это. Он знает, как уничтожить меня. Он намерен преследовать меня так же, как Пэта. Пока нас обоих не сживет со света…
– Нет, Роза. Он не хочет этого.
– Нет, хочет. Джон Лэнгли будет обращаться в полицию, постоянно увеличивать вознаграждение за поимку Пэта, пока однажды в один прекрасный день не войдет ко мне в комнату и сообщит, что Пэт умер или находится в тюрьме и будет повешен… Этим он вполне отомстит мне, не так ли, Эмми? Ему хочется видеть, как я буду медленно умирать на его глазах. Смерть не особенно волнует его; мне кажется, что ему даже абсолютно безразлично, что Том мертв. Хорошо, что он ушел раньше, чем успел натворить кучу бед, – вот что думает этот старикашка. Он получил то, что хотел, от Тома и от меня тоже. Поэтому теперь ему наплевать, что произойдет со мной. Больше не будет внуков, носящих фамилию Лэнгли, поэтому я больше ему не нужна. Я даже более бесполезна, чем Элизабет. Она, по крайней мере, может вести домашнее хозяйство.
Говоря все это, она перебирала флаконы на туалетном столике. Вдруг резко она схватила один из них и начала обильно поливать его содержимым шею и запястья.
– Если я не могу надеть свои драгоценности, то, по крайней мере, могу раздражать его тем, как пахну. От меня будет пахнуть, как от проститутки в публичном доме, и это выведет его из себя.
Я ступила дальше в комнату и закрыла за собой дверь.
– Мы можем уехать, Роза, – сказала я. – Мы заберем детей и поедем в Хоуп Бей. Для них будет лучше уехать из атмосферы этого дома. Да и лучше для всех нас. «Эмма Лэнгли» уплывает сегодня вечером, и мы сможем уехать завтра.
– Хоуп Бей, – эхом отозвалась она и отрицательно покачала головой. – Я никогда не была там. Я не хочу туда ехать. Тому никогда не нравился Хоуп Бей. Он рассказывал мне о нем: пустынное место, вокруг море и стаи чаек, кричащих на скалах. Поблизости нет ни одного дома. Нет… Мне не понравится Хоуп Бей.
– Но это единственное место, куда можно уехать, – резонно сказала я. – Джон Лэнгли не стал бы возражать… Бог свидетель, тебе в целом мире больше негде укрыться. Мы не можем поехать в Лэнгли Даунс…
Она резко рассмеялась.
– Нет, конечно же, не в Лэнгли Даунс. Ведь он слишком близко от Роскомона, да? Робби Далкейт сможет последовать за мной из Мельбурна, правда? О, нет, это не подходит. Больше никаких скандалов, ведь так мало времени прошло со дня смерти Тома. О, Эмми, Том знал, что делал, не так ли? Лучше умереть, чем быть похороненным заживо.
– Том знал?.. Что ты такое говоришь?
Она ответила не сразу. Роза повернула ключик в замке шкатулки с драгоценностями и подняла крышку. Около минуты она, казалось, была полностью поглощена содержимым шкатулки: бриллианты, сапфиры, жемчуга – символы-дань, подаренные ей Джоном Лэнгли в связи с рождением каждого ребенка, знаки положения и богатства, выделявшие ее среди общества Мельбурна. Она задумчиво перебирала их, как будто вспоминая прошлое и то, каким образом каждое из украшений попало к ней. Держа в руках бриллиантовое ожерелье, она повернулась ко мне.
– Кто знает, что на самом деле произошло той ночью? Уоткинс говорит, Том был настолько пьян, что не оставалось ничего другого, как просто оставить его там отоспаться. Но лампа висела на крючке, сказал он… Был ли Том так пьян, когда проснулся, не понимал, что делал с лампой? Снял ли он ее с гвоздя и нечаянно уронил, или намеренно бросил ее, Эмми?
Сказав это, она повернулась к зеркалу и приложила ожерелье к груди, одновременно наблюдая за мной в зеркале.
– Ты знаешь больше, чем любой из нас, Эмми. Ты была последней, кто видел его. Он пришел спасти тебя от пожара, поэтому ты единственная, кто может знать, в чем заключается правда. Пытался ли он уничтожить себя или уничтожить род Лэнгли тем пожаром?
Я сцепила руки, чтобы они перестали дрожать.
– Это был несчастный случай. Я могу поклясться в этом. Ты никогда не должна говорить так, Роза. Никогда. Неважно, что ты об этом думаешь, но ты никогда не должна так говорить.
Она опустила ожерелье. В зеркале я увидела, что ее тяжелый взгляд как будто что-то искал.
– Об этом говорят, – наконец произнесла она. – По всему городу люди интересуются этим. Они задают такие вопросы, Эмми.
– Пусть задают. Они не знают ответов. А пока они не могут сказать с уверенностью…
Она прервала меня, жестикулируя ожерельем в руке.
– Имя Лэнгли не будет опорочено, пока они не могут ничего сказать с уверенностью? Так ты думаешь, Эмми? Что не произойдет никакого скандала, потому что Том умер и никто не может сказать с уверенностью, что произошло на самом деле? Тогда почему бы тебе не сказать это прямо? Это хорошо прозвучало бы из твоих уст. Да, ты ведь больше Лэнгли, чем он. У тебя – душа Лэнгли, если у Лэнгли вообще есть душа. Ты усердно работаешь на эту семью и ничем не запятнала их имя. И ты терпеливо ждешь, когда все упадет тебе в руки.
Я стала медленно отступать назад, пока не почувствовала за спиной дверь, бессознательно мои пальцы стали искать дверную ручку, искать спасения. Но я взяла себя в руки.
– Что… что ты говоришь? – прошептала я.
Опять она отвернулась от зеркала. Ее голос звучал резко.
– Ты всегда только берешь, Эмми. Своим кротким поведением и спокойствием ты берешь. Кто бы мог подумать, что у тебя такие амбиции? Ты была тихой, как мышка, когда мы впервые встретились на дороге, когда ты бежала за нами. Ты ничего не говорила, и ни один мужчина не посмотрел на тебя дважды, поэтому мы были спокойны. Но помнишь, что произошло потом? Как произошло?
Ты начала помогать Ларри, потом он начал зависеть от тебя. Следующим был Кон, каждый раз прибегающий к тебе со своими проблемами. Мой отец ел из твоих рук – из рук разумной и спокойной Эмми, которая всегда поступала правильно. В конце концов, когда Пэт был вынужден бежать, он пришел именно к тебе. Я тоже была там, но Пэт говорил только с тобой. Он должен был знать, что это разобьет мое сердце, но он пошел к тебе…
Она откинула голову назад.
– И не забывай о Томе! Моем муже, но ты была последним человеком, с которым он разговаривал. Я знала, что он часто приходил к тебе в дом. Я знаю, что он говорил тебе о таких вещах, о которых никогда не мог сказать мне. «Эмми понимает», – повторял он мне. Эмми понимает, да, Эмми очень хорошо понимает, как подчинить и отца Тома.
Великому Джону Лэнгли нужна разумная женщина рядом с ним, с которой он мог бы поговорить, которой он мог бы доверять. Ну, что же, ты постаралась, чтобы он нашел такую женщину, не так ли? Ты показала ему, какими должны быть его сын и дочь, потому что ты стала ими обоими для него. И показала ему, какой должна быть мать, когда заполучила власть над моими детьми. Попробуй отрицать это! Ты заполучила моих детей, и теперь они больше твои дети, чем мои. Ты выиграла их всех! Всех – моих братьев, моего мужа, моего зятя, моих детей. И к тому же ты взяла человека, которого я люблю. Ты забрала у меня Адама.
Она заговорила громче:
– Ты можешь их всех взять, я позволяю тебе это даже с радостью. Но ты забрала Адама, а он единственный человек, которого я когда-либо хотела.
– Почему?.. – спросила я. – Почему ты ждала так долго, чтобы сказать мне об этом?
– Я думала, что мне ты тоже нужна, точно так же, как, похоже, ты нужна всем. Но я ошибалась. Теперь я понимаю это.
Она начала укладывать свои украшения, осторожно прикрепляя их на бархатные подушечки.
– Что же, ты вольна забрать их всех. Возьми их, Эмма, и пусть они принесут тебе только добро! Возьми деньги, и власть, и имя. Даже мои дети, в конце концов, перейдут под твою опеку, потому что я очень хорошо знаю, что, попытайся я забрать их, Джон Лэнгли обратится в высший суд Англии, если потребуется. И он выиграет дело. Ты удивлена? Когда это мать с запятнанной репутацией одерживала верх над властью денег и адвокатов?
Она захлопнула шкатулку и повернула ключик в замочке.
– Не знаю, почему мне раньше не приходило это в голову, – продолжала она. – Но теперь, после того, как я увидела эти задернутые шторы в экипаже, я знаю наверняка, что мне нужно делать. Я больше не останусь в этом доме, чтобы медленно умирать здесь. С меня довольно! Кроме этих драгоценностей, у меня есть еще одна вещь, которой я действительно владею и о которой никто из вас не вспоминал. Я по-прежнему владею долей Тома в «Эмми Лэнгли», и я намерена воспользоваться ею. Я собираюсь отплыть вечером вместе с Адамом.
V
Через час Роза ушла, забрав с собой только шкатулку с драгоценностями и одну маленькую сумку. Она не надела ни черного платья, ни вуали; на ней был синий дорожный костюм. Роза вышла на улицу с сумкой и стала нанимать кеб. Она прождала кеб минут десять, все это время стоя к дому спиной, как будто его и не существовало. Это был последний жест прощания, последний ее щелчок Лэнгли. Он немного омрачался тем фактом, что Джона Лэнгли не было в то время в доме и он не видел ее ухода. Были только удивленные переглядывания слуг и расспросы Элизабет.
Перед уходом Роза ненадолго зашла в классную комнату к детям, но я так никогда и не узнала, что же она сказала своим детям в те краткие мгновения. Зато я хорошо помню другие слова. Она проговорила их, проходя по лестнице, и это были ее последние слова, сказанные мне:
– Я им никогда не буду нужна, пока ты здесь.
Роза уехала, а я пошла в ее комнату. Первым делом отдернула занавески, и лучи полуденного солнца ворвались в окно. Беспорядок, царивший в комнате, хранил черты характера ее недавней хозяйки, о которых я даже не подозревала.
Я сидела в большом кресле Розы, уставившись на часы над камином: стрелки неумолимо двигались к шести часам, когда «Эмма Лэнгли» должна была отчалить от берега. Я не пыталась предпринять какой-либо попытки остановить Розу или умолять Адама, потому что знала, что опоздала не на минуты или часы, а на многие годы.
Прошло восемь лет с тех пор, как Роза убежала с Томом назло всем, а главное – Адаму, и после восьми лет она наконец добилась его, а я потеряла. До этого времени я отказывалась верить, что он сможет стать ее собственностью, но теперь понимала, что, как только она окажется на борту «Эммы Лэнгли», он уйдет от меня навсегда и никогда больше не вернется.
Снова и снова раздавались слова, брошенные Розой: «Ты всегда берешь, Эмма». Но это было совсем не так. Правда лежала где-то между «давать» и «брать». Я не заняла в жизни ее семьи ни одного места, которое она сама хотела бы иметь. Но Адам был единственным человеком, за которого мы обе боролись, и здесь правду было обнаружить сложнее.
Я слишком многое давала ему, не требовала от него доказательств любви, я оставляла его одного переживать свои мысли и желания, любовь к Розе, любовь к кораблям и морю. Я никак не вмешивалась в его жизнь и не требовала от него никаких жертв, не обременяла никакими обязательствами. Я не смогла дать ему детей, зато всю вину приняла на себя, никогда не ища у него утешения и помощи.
Я слишком стоически переносила свою боль, не говоря с ним о самом сокровенном, никогда не прибегая к слезам, угрозам и мольбам. Я так плохо думала о себе и не верила, что достойна любви. Я ожидала малого и получала малое в ответ. Я практически ничего не брала от Адама, вот почему потеряла его.
Его жизнь с Розой отныне будет мучением. Это будет жизнь, полная дикой сумятицы и хаоса, которые он так ненавидел. Тихое, размеренное течение времени, которое так обожал Адам, окажется нарушенным навсегда. У него не будет ни дня спокойной жизни. Она никогда не оставит его в покое. Адаму придется зависеть от ее капризов и беспричинных вспышек гнева дни и ночи напролет. Он будет работать, как раб, чтобы заработать деньги, на которые ему всегда было наплевать, чтобы обеспечить ей комфорт и роскошь, к которым она привыкла.
Роза никогда не захочет подметать пол или чинить плащ, и Адам не станет требовать от нее этого. Такая жизнь покажется адом человеку с его привычками. Роза никогда не позволит ему не видеть ее. Она заставит его помнить о каждом часе каждого дня, проведенного вместе. Она будет занозой у него в теле, путеводной звездой для его души.