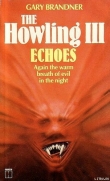Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 13
ХРОМУША
Все утро мы шагаем в сторону Городища, держа направление на юго-запад. Отец тащит по корням и выбоинам нагруженную тележку, одолженную у Плотников. Теперь, освободившись от тягостного присутствия Лиса, я надеюсь почувствовать легкость, уверенность, что смогу радостно проскакать – цок-цок! – всю дорогу до города, но у меня не получается.
Вчера друид хладнокровно перерезал горло одному из щенков клана Охотников. А все потому, что Охотник стал кляузничать на моего отца: тот, мол, не имеет права идти в Городище. Лис поднял руку, приказывая Охотнику замолчать, но он не унялся и брякнул, что отец даже дороги туда не знает. При воспоминании о том, как Лис сгреб щеночка за шкирку и сунул под мышку, у меня перехватывает дыхание. Друид вытянул руку и потребовал у Охотника кинжал, хотя этот песик был любимцем детворы клана Охотников. Щенок извивался и визжал, когда хлынула кровь, когда рукав Лиса расцвел алым, когда матери прижали к подолам плачущих детей.
Через плечо я поглядываю на дорогу, на хмурое лицо отца, вижу его напряжение, заметное по тому, как он сжимает ручки тележки. Я обо-рачивась к нему, семеню вперед спиной.
– Знаешь, что мне сказал Старец? – спрашиваю я, зная, с каким удовольствием отец говорит о своей юности.
– Даже не представляю.
– Он сказал, что когда-то в клане Кузнецов было тридцать четыре человека.
Я знаю, что численность клана сократилась после того, как родичи отца ушли воевать с римлянами, но все равно не могу представить себе род такой величины и такую глубину падения. Я ходила к Дольке – мы ведь с ней как сестры, – и она согласилась спросить у матери; та подтвердила.
– Давно это было. – Отец кивает. – Друид подбил моих родных отправиться на битву, в которой племена никогда не смогли бы одержать победу.
Для него время, прошедшее со времени вторжения, – это расселина, прорезавшая его жизнь, разделившая целое на две части: до римлян и после. В прежние времена наш клан был многочисленным, обладал положением и достатком. Теперь же нас гораздо меньше, мы нуждаемся – по крайней мере, по мнению отца. И тем не менее он не презирает римлян и не боится их, в отличие от матушки. Он открыт для всего нового, и это его свойство меня смущает. Да, он смотрит в будущее, уверенный в своем мастерстве – ему есть что предложить, – но раньше я не конца понимала его. Отец не возлагает вины за падение клана целиком и полностью на римлян, ибо именно настояние друида побудило его родичей ввязаться в бойню, и через пару дней с ними было покончено. Ибо не далее как вчера Лис напомнил нам о бессердечии друидов.
Я снова пытаюсь поднять его дух:
– Старец говорит, что Кузнецы трудятся больше, чем пчелы в гнезде.
Он кивает, улыбается краешком рта. Я цепляюсь каблуком за корень, спотыкаюсь, но удерживаюсь на ногах.
– Осторожнее, – говорит отец. – Лучше иди как следует.
– Мне нужно знать историю моей семьи. – Я продолжаю семенить спиной вперед.
Он очерчивает круг в воздухе, веля мне повернуться лицом к дороге.
Я опять спотыкаюсь, на этот раз несколько нарочито.
– А ты будешь рассказывать?
Он кивает, и я выполняю его приказ.
– Мне было четырнадцать, когда ушли сородичи, – говорит он. – Некоторое время я довольно неплохо справлялся, поставил на поток изготовление мечей, ножен и копий, и все это отвозилось Вождю в Городище.
– Купцами?
– Верно, – говорит он. – Но через полгода купцы стали говорить, что спрос на мои товары уменьшился. Я думал, мне просто нужно лучше работать и заказы возобновятся.
Я представляю мальчика из видения: вот он тянется к сверкающему предмету в сорочьем гнезде; разглядывает возле наковальни кончик копья, прикидывая, где нужно поправить скос.
– Старец говорит, что ты превзошел отца.
– Мастерство пришло не сразу.
– Он говорит, что ты великий дар клана, – не отстаю я.
– Купцам это было безразлично, – отвечает отец. – Они вернулись, но лишь для того, чтобы сказать: Вождь более не нуждается в моих безупречных клинках и замысловатых рукоятях. И все из-за римлян. – Он поправляет мех с водой у меня на плече и продолжает: – С самого начала римляне настаивали на добрососедских отношениях между племенами и наказывали вождей, которые не соглашались оставить давние распри и жить в мире.
С детства я слышала старинные повести о набегах на горцев и жителей долины. Но в мое время таких стычек уже не происходило.
– Воины Вождя больше не нуждались в оружии. Я сказал купцам, что возмещу убыток изготовлением домашней утвари, и потратил целую луну, выковывая оловянный кувшин. – Его голос затухает, переходит почти в шепот. – Он был прекрасен: выпуклое тулово сужалось к низу, украшенному завитками и виноградными гроздьями, обвивающими розетки. – Отец откашливается. – Но купцы едва взглянули. Половина доли пшеницы Вождя теперь уходит римлянам, сказали они. Даже он вынужден урезать расходы.
Не в привычках отца говорить так открыто, и это наводит меня на мысль о том, что присутствие Лиса стало для него неким переломным моментом.
– к где тот кувшин теперь? – спрашиваю я в надежде на продолжение рассказа.
– Его давно уж нет, – отвечает отец и после паузы добавляет: – Как и многого другого.
Эта часть падения моего клана – постепенное исчезновение имущества – мне известна. Старец, описывая прежнее изобилие нашей хижины, упоминал яркие шерстяные занавеси, множество столов и скамеек, меха, забитые посудой полки. Он сказал также, что мать моего отца слишком долго позволяла себе расточительство. Она держала стряпуху, заказывала мясо к завтраку, обеду и ужину, носила платья из лучшей шерсти. На оплату всего этого ушла роскошная домашняя утварь – оловянные кувшины. Купцы почти всякий раз покидали деревню на телегах, нагруженных вещами, которые она отбирала для обмена. За несколько лет полки хижины опустели, и супруга Старого Кузнеца, не в силах смириться с похлебкой без мяса, но и не желая сама унизиться до стряпни, умерла от лихорадки, которую пережили все болевшие ею болотники. Она испустила последний вздох и отправилась в Другой мир за луну до моего первого вздоха.
– Кувшин пропал, как и твои родные, – с тихой нежностью говорю я.
– Да.
Я прижимаю ладонь к груди:
– Благословен будь Праотец. – Бог пребывает среди наших предков, среди их душ, которые провожает в Другой мир. – Благословенно будь стадо его.
Я жду, пока отец тихо повторит за мной слова молитвы.
Затем я говорю:
– Я знаю про мужей клана.
– А про жен?
– Слышала разговоры.
– Толки о том, что моя мать была тяжелым человеком? – спрашивает отец. – Что без прислуги она стала особенно сурова к супругам моих братьев?
Вроде того. Старец рассказывал, что она нещадно их шпыняла. – Они были лишними ртами.
– Супруги братьев видели, что я работаю в кузне один – а я был тогда чуть старше тебя. Они знали, что купцов не впечатлил мой оловянный кувшин, поскольку за него я получил совсем крохи: пару брусков железа да отрез шерстяной ткани. Одна за другой женщины с детьми сбежали в Городище.
Похоже, неопределенность жизни вдали от дома пугала их меньше, нежели ясное понимание того, что ждало их на Черном озере.
Отец вздыхает:
– К тому времени, как мать переселилась в Другой мир, все они уже ушли.
Дальше мы шагаем молча, и, хотя отец у меня за спиной, мне ясно видно его страдание. Я осознаю это еще до того, как мысли отца – ррраз! – внезапно возникают у меня в голове, и впервые понимаю, каким бременем лежат на нем напутственные слова его матери: «Не оскорбляй память отца. Верни достоинство нашему роду».
Молчание между нами сгущается. Я волочу ногу, шелестя палой листвой. Поднимаю палку, хлещу по придорожным кустам. Тропа расширяется, и когда я замедляю шаг, чтобы пойти рядом с отцом, он наконец говорит:
– Я начал изготавливать простые котлы и кухонные ножи; купцы могли обменивать их в Городище. Я и гвозди делал – а мой отец отправлял Старого Плотника в кузни поплоше. – Он похлопывает по холщовому мешку, привязанному к коробу с гвоздями, который мы везем на тележке; сквозь ткань проступают изящные очертания бронзового блюда. – Прежде оно висело над входом в кузню.
Я представляю, как отец снимает блюдо, в последний раз проводит большим пальцем по выпуклым завиткам, вставкам алого стекла, а затем убирает с глаз подальше, туда, где изящное изделие больше не сможет насмехаться над его автором, кующим кухонные ножи и гвозди.
Мне приходит в голову, что в мешке может скрываться и другое творение отца – слишком маленькое, чтобы заметить его через холстину. Сейчас не совсем подходящий момент, но я дождусь возможности подтвердить догадку. «Отец, – скажу я, – можно мне подержать блюдо?» Он согласится. И только после того, как оно окажется в моих руках, под холстиной проступят очертания меньшего предмета – серебряного амулета, предназначенного завоевать сердце моей матери. Теперь отец везет его с собой, чтобы вернуть клану покровительство Вождя.
Я сжимаю руку отца, толкающую тележку, и он с улыбкой говорит:
– Мой отец устроил такой шум из-за этого блюда.
Я улыбаюсь в ответ, и мы идем дальше.
На второй день пути тропа то пропадает, то появляется снова. А может, это просто следы косули, что ходит на водопой к реке, которая лежит дальше к югу. Отец тянет тележку, щурится, выглядывая просвет в листве. И вот наконец на закате лес расступается, и мы видим извилистые берега и бревенчатый мост, за ним – только что засеянное огромное поле, а рядом – окруженное плетеной изгородью крупное поселение, которое так и называется: Бревенчатый Мост. Землю здесь, словно рана, рассекает каменная лента.
– Римская дорога! – вскрикиваю я, пытаясь взглядом оценить ее длину.
Один купец, приезжавший за колесами, с восторгом отзывался о римской дороге и даже нарисовал ее, проложенную прямо посреди грязи. Он рассказал, что сперва римляне прорыли канаву, наполнили ее щебнем, затем гравием, залили все это смесью воды, гравия и песка, а после добавили белый порошок под названием известь, благодаря которому смесь затвердела, как камень. А под конец, поведал он, этот прочный фундамент замостили булыжниками.
– Купец был прав, – говорит отец. – Римская дорога переживет века.
Еще этот купец сказал, будто римляне сослужили всем нам большую службу, проложив дороги, но я отчетливо вижу, что отсутствие удобных подходов делало Черное озеро в буквальном смысле недоступным для римских веяний. И я не уверена, что это плохо: не хочется, чтобы великое римское колесо докатилось до самых отдаленных уголков Британии, неся неведомый уклад.
В отдалении я различаю огромный холм Городища, до которого еще день пути. Я трогаю губы, затем еле заметную тропу, все еще потрясенная увиденным. Расстилающаяся впереди дорога вымощена булыжниками, плотно, как зубы, сцепившимися друг с другом.
Ночью мы растягиваемся на земле, на постели из клевера, под крышей звездного неба. Больше никакого кишащего комарьем подлеска, как прошлой ночью, никакого гнетущего лесного полога, никакой неуверенности насчет направления. Но главное – никакого Лиса. На таком расстоянии друид с ножом у моего горла и его жестокая расправа над щенком больше не пугают меня, да и отца, видимо, тоже. Переплетя пальцы на затылке, он непрерывно зевает.
– Отец, – говорю я, – позволь мне подержать блюдо.
Я готова выпрашивать, доказывать, что это мой последний шанс поглядеть на вещь, если Вождь захочет забрать ее себе, но отец без всяких уговоров вытягивает холщовый мешок из-под кожаною плаща, которым обернуты наши припасы. Я впиваюсь взглядом в холстину в надежде высмотреть контуры амулета, когда отец достанет блюдо.
Но он поднимает мешок и, даже не распуская завязок, протягивает мне.
Я похлопываю по холстине, ощущаю поверхность блюда, верхнюю и нижнюю, – но больше в мешке ничего нет. Пальцы шарят по ушам, но нащупывают лишь пустоту.
– Ты чего? – говорит отец.
– Ничего.
– Давай помогу, – предлагает он, приподнимаясь.
Я не двигаюсь.
– У тебя такой разочарованный вид, – замечает он.
– Я решила… – Я прикусываю губу.
– Что?
– Я решила, что там еще и амулет.
Отец меняется в лице, вскидывает голову, хмурит брови.
– Амулет?
– Я решила, ты захочешь показать его Вождю. Матушка говорила мне: «Смотришь на него и диву даешься: уж не боги ли тут руку приложили».
Он глядит на меня с прежним изумлением.
– Она так сказала?
Я киваю.
– Что еще она сказала?
Мне ужасно хочется ответить, что еще она назвала амулет «чудом» и «прекрасной вещью» и что говорила, будто в наших землях нет кузнеца искуснее моего отца, но я молчу, потому что ничего такого матушка не говорила.
– Она сказала, что пожертвовала его Матери-Земле? – Он переворачивается со спины на бок, подпирает голову рукой.
– Я знаю эту историю, как и всякий другой в деревне.
Отец раскрывает ладонь навстречу звездам.
– И тем не менее ты ожидала, что найдешь его в мешке?
Он знает о моем даре и принимает его, и все же я предпочла бы умолчать, что видела, как он подростком тянулся к сорочьему гнезду. И я отвечаю ложью – в сущности, почти правдой:
– Не хочется верить слухам.
Я подсчитываю, сколько раз вздымается и опадает его грудь – трижды.
– Так или иначе, – говорит отец, – амулета у меня нет.
– Как это?
Теперь я насчитываю шесть вдохов и выдохов, потом он переворачивается на спину и, не отрывая глаз от звезд, говорит:
– Я свалял дурака в тот вечер, когда римляне пришли на Черное озеро.
Глубже погрузив руки в клевер, я отзываюсь:
– Ты вел себя очень храбро.
– Помнишь римлянина, который показал мне свои латы?
– Да.
Звезды над головой сияют, и каждая блестит так, словно это солнце играет на далеком клинке.
Отец молчит, и я начинаю опасаться, что он вспоминает хитроумное устройство панциря, но тут слышу ответ:
– Я осмелел из-за его доброжелательности. Казалось, он чувствовал себя обязанным после припарок твоей матушки. Он признался, что она напоминает ему знакомую девушку. Та же грация, сказал он.
Я жду.
– Я вышел за ним на улицу, чтобы показать амулет. И попросил отнести вещицу своему вождю: вдруг тот закажет мне меч или бляху на щит.
Я вспоминаю, как отец нерешительно топтался в дверях, глядя вслед римлянам. Думал ли он, выходя в темноту ночи, о последних словах своей матери: «Не оскорбляй память отца. Верни достоинство нашему роду»? Я сидела тогда, не в силах ничем заниматься, с отчаянием ожидая, когда он войдет в дом, и он пришел мрачнее тучи.
– Он огрызнулся, тот римлянин. Сказал, что ими командует не вождь, а легат и что он плевать хотел на любое изделие, если оно изготовлено не римским мастером. – Отец выдыхает сквозь стиснутые губы. – А потом отнял у меня амулет и пригрозил кинжалом, когда я потребовал вернуть крест.
Я думаю о римлянине, легким шагом уходящем в ночь, словно он не сжимал в кулаке украденную вещь – плод чужого труда.
– Твоя матушка ничего об этом не знает. – Отец с виноватым видом пожимает плечами, и я поражаюсь тому, что он сохранил тайну: мне казалось, что у нас только матушка горазда на секреты. Хотя я понимаю, отчего он молчит. Матушка заявила, что бросила амулет в болото, и отец не может признаться, что нашел его, не обнаружив тем самым ее лжи.
– Не буди младенца, пока он спит, – говорю я, и он кивает. В глазах у него, как в стекле, отражается сияние звезд.
Мы вдыхаем сладость клевера, прислушиваемся к уханью совы в отдалении.
– Путеводная, – говорю я, указывая на звезду, ярко сияющую в полуночном небе.
– Ты помнишь?
– Да. – Я словно воочию вижу нашу маленькую семью в точно такую же чудесную ночь.
Матушка лежала на шерстяном одеяле, я – головой у нее на животе, и она учила меня, как определять путеводную звезду. Она объясняла, что такая звезда стоит неподвижно в плывущем по кругу небосводе и всегда указывает путь на север. Отец сидел на корточках, вороша огонь, и в ту великолепную ночь его совсем не волновало, что определять звезды матушку научил Арк.
ГЛАВА 14
ХРОМУША
Утром нам с отцом не верится, что до Городища еще целый день пути, но когда солнце входит в зенит, наша цель по-прежнему далека. Но вот наконец я могу различить земляные насыпи, окружающие высокий холм, и частокол на вершине.
– Вот так дорога, – в который уже раз говорит отец. – Ты заметила, что она слегка выпуклая? Это чтобы после дождя лужи не застаивались.
Мне смешно, что он до сих пор восхищается ею, хотя, по правде говоря, дорога и впрямь превосходная: прямая, как хвост падающей звезды, гладкая, как поверхность наковальни, и действительно сухая, как соль.
После полудня, ближе к вечеру, мы проходим мимо загонов для овец и бессчетных стад крупного скота.
– Собственность Вождя? – спрашиваю я, и отец кивает.
Дорога расширяется, и мы оказываемся среди скопления лачуг и ветхих прилавков, где торгуют мясом свежезаколотых ягнят и свиней, готовыми копьями и топорами, глиняными сосудами и даже пшеничным пивом, разлитым в кружки.
Суета неприятно поражает меня: резвящиеся дети и шныряющие собаки, крикливые купцы и торгующиеся женщины, скрипящие телеги, дребезжащие товары. У меня разбегаются глаза, но вот взгляд наконец останавливается на одном из прилавков, хотя голова по-прежнему идет кругом.
– Сколько яиц! – ахаю я, всплеснув руками.
Яйца – их по меньшей мере раз в пятьдесят больше, чем я когда-либо видела за раз, – уложены в плоские корзины, выставленные на прилавке перед входом в палатку.
– Посмотри на куропаток. – Отец указывает на балки, плотно увешанные дичью.
Взгляд перебегает с куропаток на заднюю стенку палатки. Дерево покрыто вырезанными на нем черточками: некоторые изогнутые, другие косые, третьи стоят прямо или лежат.
– Что это? – спрашиваю я.
– Думаю, слова.
– Изображения слов? – Я хмурюсь.
– Знаки. Каждый из них обозначает звук, а вместе они образуют слово. Один купец мне объяснял. Клялся, что римляне высекают слова на дереве и в камне уже сотни лет.
Я все еще растеряна, и он видит это по моему лицу.
– Скажи какое-нибудь слово, – предлагаем ОН.
– Птица.
– Пэ. Тэ. И. Цэ. А. Каждый из этих звуков имеет свой знак. Ты соединяешь один значок с другим, и получается «п-т-и-ц-а».
Мы шагаем в молчании, пока я пытаюсь разгадать значение тех черточек. Возможно, там написано «куропатки», но мне кажется, это напрасный труд, ведь достаточно просто раскрыть глаза и увидеть, что это куропатки. Может, там значится «свежие» или еще какой-нибудь соблазн, но разве человек не понюхает птицу сам, несмотря на всяческие заверения? Но потом я вспоминаю, что отец рассказывал о маленьких металлических кружочках, на которые римляне обменивают товары; такие кружочки называются монеты. Возможно, знаки сообщают римскому воину, явившемуся в Городище из Вирокония, что три кружочка – или шесть – обменивают на одну куропатку. До чего же я невежественна! И отец мой тоже, и все соплеменники, если подумать, – : за исключением разве что тех немногих, кто научился разгадывать римские знаки, кто знает ценность монет.
Говорят, что римляне используют эти знаки, чтобы записывать свою историю на вечные времена, – добавляет отец.
У друидов такой системы знаков нет. Они удерживают нашу историю у себя в памяти, вместе с законами и накопленными знаниями о мире.
Я вдруг понимаю, как непрочны хранимые ими сведения, как легко их извратить или утратить. Насколько лучше, когда слова вырезаны на дереве.
Я представляю огромную коллекцию деревянных дощечек, на которых записана вся история Британии. Представляю, как кто-то разбирает письмена, читает их вслух. Больше не нужно ждать появления барда. Не нужно ломать голову над тем, правда или вымысел все эти древние слова, которые он выпевает.
– Римляне столько всего знают!
– Ничего такого, чему мы не можем обучиться, – возражает отец. – Может быть, когда-нибудь ты запишешь, как готовить снадобья Матери-Земли.
– Не представляю такого! – Матушка разгневалась бы. Недавно отцу удалось закалить клинок, и он сказал, что очень хотел бы провести денек в римской кузне. Лицо матери, которая в этот момент перетирала пестом корешки для мази, исказилось от ярости.
Отца снова зазывают торговцы, но он, уже умудренный опытом, не подходит к палатке, не берет в руки костяной гребень или лезвие для бритья. Я знаю, он хочет приглядеться к выставленным железным товарам, может быть, даже показать какой-нибудь свой котелок, но он лишь говорит:
– Сперва Вождь. – И мы проходим дальше.
– Смотри. – Я указываю на прилавок, у которого собрались трое римлян.
Они кричат и толкаются, осушают кружки и протягивают их купцу, чтобы тот снова их наполнил. Сегодня они без щитов и мечей. Только смуглая кожа и кинжалы на поясе выдают в них римских солдат, приехавших в отпуск из Виро-кония.
Отец оттесняет меня в сторонку, подальше от разгулявшихся мужчин. Я завороженно гляжу, как один из них хватает с соседнего прилавка яйцо, разбивает его о край своей кружки, запрокидывает голову и вытряхивает содержимое в широко раскрытый рот. Желток и тягучий белок ползут из скорлупы, падают в жадную пасть. Он глотает, и собратья-солдаты, хлопая себя по ляжкам, гогочут так, словно никогда не видели более уморительного трюка. Римлянин хватает второе яйцо, затем еще одно и еще. Каждое передается по рукам, а затем его проглатывают под хор одобрительных выкриков.
Торговец в отчаянии ломает руки. Лицо его искажает тревога. Он отодвигает корзину с яйцами подальше от солдата, ведь дюжина яиц уже потеряна. И вот солдат протягивает руку и обнаруживает, что корзины рядом нет. Он подходит к торговцу. Они о чем-то говорят, после чего римлянин хватается за рукоять кинжала – и торговец широким жестом простирает руку к корзине.
Солдат дергает ее к себе и начинает швырять яйца на улицу, пока от всего запаса не остаются только желтовато-белесая слякоть и скорлупа на аккуратных булыжниках римской мостовой.
– Ни стыда у них ни совести, – шепчу я.
Отец качает головой:
– Позор.
Мы идем по дороге к центру города, не останавливаясь и не замедляя шага, до тех пор пока у нас на пути вдруг не возникает худой человек со впалой грудью.
– Кузнец, – определяет он, указывая раскрытой ладонью на груженую тележку. Потом поворачивается ко мне: – Хорошенькие глазки.
– Дай пройти, – требует отец.
– Ты пришел торговать, и я могу тебе помочь. Я знаю здешние порядки. Ты совсем один в Городище, новичок, легкая добыча для мошенников.
Незнакомец и сам смахивает на мошенника: крючковатый нос и глубоко посаженные глаза – чисто сарыч!
Отец делает шаг к нему. Его крепкая грудь почти упирается в острый подбородок незнакомца.
– Я знаю цену своему товару.
– Пойду-ка я с тобой, W говорит сарыч и отступает, приглашая жестом следовать за ним.
Отец легонько подталкивает меня, и я понимаю, что мне опять лучше встать впереди него.
– Человек Вождя тебя не примет, – говорит сарыч. – У него теперь и для своих-то кузнецов работы нет, раз уж римляне запретили даже драки между племенами. И ничем хорошим это для Вождя не кончилось: бездельная родня день-деньской болтается по двору, лопает его черешню и пьет его пиво, и хоть бы стычка какая, чтобы тоску развеять. Я уж молчу, что римляне забирают половину хозяйской пшеницы. – Некоторое время сарыч идет в ногу с нами, но потом забегает на пару шагов вперед, поворачивается ко мне и говорит: – Ты черешни, небось, даже никогда не пробовала. По лицу твоему вижу. Плоды маленькие, темнокрасные, как дикие яблочки, но мясистые и сладкие. Их привезли римляне. И оливковое масло – другое новшество. Прекрасное, нежное и на вкус приятное.
Какой хитроумный ход: он использует все эти непонятные слова, чтобы мы с отцом почувствовали себя деревенщиной? Я продолжаю глядеть прямо перед собой.
– Меня зовут Везуном, – говорит сарыч, останавливаясь. – Когда созреете для торговли, разыщите меня позади прилавка рыбника.
Мы идем вперед. Отец нацелился на кое-что повыше, нежели сделка с мошенником, ютящимся позади прилавка торговца рыбой. Мы проходим через дощатые ворота, возведенные между крепостными валами у подножия Городища, и начинаем взбираться на высокий холм.
За частоколом, окружающим вершину, – массивная бревенчатая кузня с островерхой крышей и двадцать три круглые хижины, все просторные, в свежей побелке и украшенные росписью: полоски цвета охры, ярко-красные спирали, черные завитки. Я понимаю, что Вождь вовсе не так обеднел, как уверяет Везун. На мгновение мы застываем, озирая пологие холмы, бесконечные поля пшеницы, несметные стада овец, туман, скрадывающий сумятицу и буйство торговли внизу. Плечи отца распрямляются. Он улыбается.
Кузня не заперта. Мы несмело топчемся у тяжелой дубовой двери, обитой железными полосами. Я вижу, как загораются глаза у отца при виде очередного чуда: здесь есть и громадный горн, к которому можно подойти с любой стороны, и продолговатые чаны с водой, и шесть нагнетательных мехов, ловко подвешенных на стропилах, а еще стена, увешанная молотками, щипцами, долотами, точилами и обжимками всех размеров и форм. Заметив железный кувшин с покрытым эмалью ободом, отец принимается изучать его.
– Моя работа лучше, – говорит он упавшим голосом.
Видит ли он, как и я, что из десятка наковален заняты только три?
Кузнец с пузом завзятого выпивохи поднимает голову от наковальни и кривит в усмешке рот. Он приближается к нам не спеша, переваливаясь с ноги на ногу, но не выпуская из руки кувалды. Толстяк представляется отцу главным кузнецом, не давая себе труда даже мельком глянуть на меня. Усмехается, когда отец не может сказать, кто нас пропустил, поскольку ворота вообще не охранялись.
– Посмотри на себя! – Главный кузнец вздергивает подбородок. – Одет как батрак и тачку тащишь. Позоришь наше дело.
Улыбка отца исчезает. Несомненно, мое присутствие лишь усиливает его позор.
– Мне подождать на улице? – говорю я.
Отец протягивает главному кузнецу холщовый мешок.
– Уходи! – Толстяк злобно брызжет слюной ему в лицо. – Убирайся!
Я вижу, что отцу хочется вытереть щеки, но он сдерживается. Расправив плечи, он показывает на кувшин.
– Эмалевый ободок, – говорит он. – Я могу лучше. Края…
Главный кузнец раздувает ноздри.
– Я из клана Кузнецов с Черного озера, – продолжает отец.
Главный кузнец постукивает кувалдой по раскрытой ладони.
– Некогда Вождь предпочитал мою работу всем другим.
Теперь главный кузнец уже заносит кувалду. Его глаза явно говорят о том, что он намерен раздробить череп нахальному побирушке.
Пока мы спускаемся с холма, сердце у меня обливается кровью. Мы шагаем в молчании, и я размышляю. Вспоминает ли сейчас отец слова своей матери? Или думает об изношенном платье матушки, о ее нерешительности, когда он хочет обнять ее? Я не могу различить его мысли.
– Матушку не тревожит, что мы иногда остаемся без мяса, – говорю я.
Его взгляд не отрывается от земли, направленный на шаг вперед.
– Охотнику следовало помолчать, – продолжаю я.
Он бросает на меня быстрый взгляд.
– Мой плащ продержится еще год.
Молчание.
Порой отец говорит, что упрямством даже железо можно ковать. Но не сегодня. Сегодня железо не сдается.
Мы плетемся по дороге, таща за собой тележку, и наконец снова погружаемся в разноголосицу торговых рядов. Отец не глядит ни вправо, ни влево, не оценивает выставленные на продажу кованые изделия, не прикидывает своих возможностей. Он смотрит себе под ноги, и я тоже, пока в нос мне не ударяет вонь рыбного лотка. Позади прилавка – сбитый из досок сарайчик Везуна: узкий, не больше шести шагов в ширину. Тем не менее, судя по разной степени обшарпанности досок, сарайчик дважды увеличивали в размерах. Я вдруг понимаю, что знаю это помещение. Я видела его битком набитое внутреннее пространство, путаницу узких проходов между товарами. Видение из прошлого, до этого момента не имевшее никакого смысла. Я толкаю отца локтем в бок.
– Смотри, – говорю я, показывая на сарайчик.
Он едва взглядывает.
– Похоже, его торговля процветает.
Отец не отклоняется от своего пути.
Я представляю наше возвращение на Черное озеро: вижу, как морщится отец, когда Охотник пускается в рассуждения о богатстве, сыплющемся с неба в Городище, только мешок подставляй; как он опускает голову, когда Лис глумится над кузнецом, не способным сбыть товар.
При одной только мысли о друиде, который опять будет рядом, у меня перехватывает горло. Дрогнувшим голосом я говорю:
– Неспроста его зовут Везуном.
– Ну да, – кивает отец. – Ну да.
Интересно, а что случилось бы, не начни я приставать к нему? Решился бы он сам заглянуть к Везуну? И было ли видение намеком на то, что в один прекрасный день я окажусь в сарае перекупщика? Или то была подсказка, как изменить путь отца, как подтолкнуть в нужном направлении удрученного человека, тянущего нагруженную товаром тележку?
Внутри сарай и в самом деле прошит узкими проходами, вдоль стен – полки с невзрачными глиняными мисками, корзинами и масляными светильниками, груды грубьгк шерстяных тканей, кучи шкур. За шкурами пол завален железными брусками: столько железа сразу я никогда не видела. А вот красивых брошей, стеклянных бусин и развешанных гирляндами чаш – всего того, за что уцепился бы женский глаз на рыночном прилавке, – в сарае нет.
Везун подходит к нам, и отец говорит:
– Ты наживаешься на поставках товара римлянам в Вироконий.
Везун задирает крючковатый нос:
– Торговля идет лучше некуда. Ты видел рынок.
– Что бычий хвост в стае слепней: так и ходит ходуном.
– Приезжая в отпуск, солдаты охотно расстаются с жалованьем.
– Мы видели, – кивает отец. – Злобные, как морозы в Зябь.
Везун пожимает плечами:
– Им скучно там, в Вироконии.
– Теперь, когда они расправились с мятежными племенами?
Везун поджимает губы, совсем как Старец, когда хочет показать, что спорить нет смысла.
– Из-за того поражения друиды заметались, что ветер, – говорит он. – Уж поверь.
Отцовское лицо непроницаемо, но, возможно, он думает, что угадал, объяснив появление Лиса на Черном озере растущей тревогой жрецов.
И что, интересно, сказал бы Везун, узнай он, что Лис велел мне предсказать исход восстания? А собратья Лиса? Сейчас они, наверное, ломают руки и спорят о сомнительной безопасности своего последнего оплота на Священном острове. А может, задумывают поднять мятеж? Или обсуждают, как задобрить Повелителя войны? Для этого им достаточно вспомнить отступление Юлия Цезаря, которому, как они считают, способствовала человеческая жертва.
– Я пришел для мены, – говорит отец.
По затылку у меня стекает пот. Я напоминаю себе, что Щуплик – настоящий калека, а я могу летать как ветер и проходить огромные расстояния – до самого Городища. Никто не скажет, что Щуплик отрабатывает свое существование лучше меня; никто не сочтет, что он в большей степени заслуживает муки и твердого сыра. А может быть, и сочтет – если заглянет ко мне в мысли и увидит низкие помыслы и жалкие надежды. Я ищу утешения, вцепившись в отцовскую руку. Но что, если, отвлекшись на перепуганную дочь-калеку, он упустит выгодную сделку? Ну и ладно. В ответ отец сжимает мою ладонь.