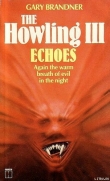Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
После этого не проходило и луны, чтобы девочка не распласталась под крестом. Она просила о мясе – и Старый Кузнец вдруг приносил ее семейству добрый кусок солонины. Просила, чтобы исчезли зудящие волдыри, усеявшие ей живот, – и те подсыхали бурыми корками. Она просила о подарке, который заставит мать снова улыбнуться, – и Арк, сызмальства знавший повадку пчел, добывал истекающие медом соты. Она просила, чтобы ушел страх, – и наступал рассвет; просила дождя – и разверзались небеса. Девочка просила с искренним благоговением и горячо славила Мать-Землю в ответ на полученные дары.
Маленькой Набоже не составляло труда обратиться к богине, как не составляло труда и заметить, что Мать-Земля слышит ее и благоволит столь набожной девочке, избавив их с матушкой от самых тяжких невзгод, выпадавших на долю других.
К окончанию церемонии Набожа уже чувствовала себя более уверенной, готовой к празднеству, словно на ней было новое шерстяное платье, а волосы в свете огня отливали золотом и серебром. Неужто она в самом деле хотела покинуть процессию? Ради чего? Чтобы натереться душистой травкой? Она встретится с Молодым Кузнецом, не обращая внимания на его взгляд, перебегающий с ее грязных ногтей на спутанные пряди. Она честно признается, что потеряла амулет. И когда юноша увидит ее такую, взъерошенную и неопрятную, он возрадуется, что у него нет перед ней никаких обязательств. Ему не придется выносить гнев матери и недоуменные взгляды других молодых мастеров. Тут Набожа задалась вопросом, что же сподвигло Арка собрать ростки фиалок, отнести их на вершину Предела и засадить для нее восхитительную поляну, и внезапно ей подумалось, что Арка ее потрепанный вид не напугал бы. Изо дня в день он трудился рядом с ней в полях Вождя, правителя их племени. Они вместе возделывали землю в бесконечной ледяной мороси, и Арку случалось видеть ее с покрасневшим сопливым носом и хмурым застывшим лицом.
Девушки расселись на скамьях вокруг очага и посолонь стали передавать друг другу кубок с пшеничным пивом. Каждая по очереди торжественно отпивала глоток. Потом они приступили к филею, неторопливо смакуя сладкие соки. Набожа проглотила свою долю мяса и ячменя, почти не ощутив вкуса. Она забыла о грязи под ногтями и даже не дрогнула, снимая плащ и открывая на всеобщее обозрение неопрятное платье. Молодой Кузнец и его сородичи ушли, чтобы девушки могли попировать в своем кругу, однако Набожа знала: он вернется и увидит, что у нее на шее нет креста. Ну и ладно. Великая богиня теперь с ней. Сейчас Набожа чувствовала лишь праведность, великодушие и покой. Ей хотелось разгрести свежий тростник, лечь на землю и щекой, ладонями, сердцем прижаться к богине. Но, видимо, нужно оставаться недвижимой и молчать, чтобы сберечь это ощущение, – и тогда Мать-Земля пребудет с нею.
Скоро, как и ожидалось, юноши забарабанили в закрытую дверь. Смеясь и оглаживая платья, девушки закричали: «Мы еще не всё съели!», ибо, согласно традиции, им полагалось завершить пир, прежде чем впускать юношей. Девушки расшумелись, громко перекрикиваясь и дразня ожидающих снаружи парней.
– Хочешь еще окорока? – крикнула Рыжава.
В такую ночь Хмара не могла не ответить:
– Ни кусочка больше не влезет! – Ее обычно впалые щеки округлились. – Надулась, как овечья титька.
Наконец дверь открылась, и ввалились юноши с очередными кувшинами пива и медовухи. Работник по имени Песельник нес большое округлое веяло, туго обтянутое кожей. На нем встряхивали зерно, очищая его от уносимой ветром половы. Но сейчас Песельник, сжав коленями раму, станет поглаживать, похлопывать натянутую кожу, и у него из-под ладоней польется певучий ритм.
Голоса юношей становились все громче, их смех, подогретый медовухой, звучал развязнее; они старательно басили, подражая взрослым мужам, которыми готовились стать. Обернувшись к толпе, Набожа поймала взгляд Арка. Тот улыбнулся, и она вернулась к действительности, вспомнив полуденные поиски в кустарнике.
Она отвела взгляд от Арка, славного Арка, который заставил ее сердце трепетать, который по-прежнему будет отличать ее среди всех, который никогда не узнает, что ей подарили амулет. Молодой Кузнец, конечно, никому не расскажет, не признается, что вздыхал о крестьянке. Арк, увидев, что его улыбка осталась без ответа, не подошел к ней, но явно остался в недоумении. Подарив Набоже поляну душистых фиалок, он открылся в своих чувствах и теперь, глядя на нее поверх переданного ему кубка, похоже, пытался понять, не переоценил ли он ее отношение к себе. Сердце ее сжалось от боли.
Молодой Кузнец наверняка уже заметил ее голую шею и почувствовал оскорбление, нанесенное отвергнувшей его работницей. Нынче ночью она не подойдет к Арку, не станет еще сильнее обижать Молодого Кузнеца.
Тут ее подтолкнули под локоть, и она приняла кубок от Рыжавы. Сделав большой глоток, Набожа заметила, как Молодой Кузнец, обойдя Молодого Охотника, прямиком двинулся к ней. Рыжава еще раз подтолкнула ее:
– Идет!
Они с Набожей стояли в окружении трех девушек, и каждая при его приближении распрямила плечи. Рыжава отобрала у Набожи медовуху и поднесла кубок ко рту, увлажняя губы, хотя это нарушало правило передачи посолонь.
Подойдя к девушкам, Молодой Кузнец очень тихо, едва различимо, спросил:
– А где амулет?
Пальцы Набожи тронули ямку у основания шеи. Амулета не было, и Молодой Кузнец не мог тешить себя надеждой, что крест скрыт плащом. Он уставился на то место, где должен был висеть подарок; брови его вопросительно поднялись.
– Амулет? – переспросила Рыжава; лицо ее, в отличие от неумытого и неуверенного лица Набожи, было безупречно чистым и лучилось ожиданием. – Ты дал ей амулет?
Не сводя глаз с Набожи, Молодой Кузнец кивнул.
– Этой? – Недоумение Рыжавы было подобно пощечине.
Стараясь говорить ровно, Набожа ответила:
– И такой амулет, какого ты в жизни не видывала.
Рыжава повернулась к ней:
– И где же он тогда?
Набожа раскрыла рот, собираясь объяснить, что потеряла подарок в лесу, но под обжигающим взглядом Рыжавы с языка, с губ сорвались иные слова:
– Я принесла его в жертву Матери-Земле на болоте.
Молодой Кузнец схватился за грудь – и все глаза обратились к нему. Он изо всех сил старался казаться бесстрастным, но стиснутые челюсти и сжатые губы выдали его душевное смятение. Он потратил на работу не один день. Он действовал с великой осторожностью, рисковал, возможно даже лгал матери, уверяя, что допоздна задержался в кузне, доводя до совершенства обручи для бочки.
Набожа тронула пальцами губы, тростник под ногами. Пока она, наклонившись, разглядывала обувь Молодого Кузнеца – шнурки, перекрещенные на подъеме; кожу, плотно обтянувшую стопы, – ей пришло в голову, что она уже сотни раз оправдывала свое имя. Неужели он не поверит, что такая благочестивая девушка, приняв заветную драгоценность, бросит ее в заводь Черного озера, чтя божество, по обычаю их племени?
Молодой Кузнец пальцами приподнял ее лицо за подбородок.
И по теплому взгляду, по чертам, из которых ушло напряжение, Набожа поняла: он принял ее ложь.
ГЛАВА 6
ХРОМУША
Стоя в дверях, Лис внимательно оглядывает хижину, останавливает взгляд на пучках трав, свисающих с потолочных балок. Морщится, углядев связки корешков: некоторые похожи на громадных слизней, другие – на дурно сформировавшийся плод, слишком рано отторгнутый утробой.
Мы с матушкой и отцом топчемся у двери, не решаясь войти в собственный дом, боясь заговорить, нарушить течение мыслей Лиса. Вот так теперь и придется жить, покуда не избавимся от непрошеного гостя? Он начинает медленно обходить хижину посолонь: ладони раскрыты, руки растопырены, губы шевелятся в молчаливом благословении. Его основательность беспощадна, и я гляжу на мать, не сводящую глаз с Лиса, затем на отца: стиснутые зубы, пальцы сжаты в кулаки.
Наконец Лис хлопает в ладони и прячет их в рукава.
– Я очень проголодался, – объявляет он.
Матушка молча стряпает ячменную кашу с зеленью – простую пищу, которой мы обычно ужинаем. Молчание длится, пока я кладу на низкий стол четыре ложки и ставлю четыре миски, пока мы усаживаемся по местам, пока матушка раскладывает еду. Мы не притрагиваемся к лож кам, покуда Лис не берется за свою и не приннма ется зачерпывать кашу и отправлять ее в рот.
Не прекращая есть, он засыпает отца вопро сами:
– Сколько работников?
– Сорок девять.
– Сколько мастеровых?
– Девяносто три.
– Какой клан успешнее в торговле?
– Охотники, Плотники.
– Кто отказался от наших старинных обычаев?
– Никто.
Пока допрос продолжается, я готовлюсь к тому, что сейчас друид повернется ко мне с тем же выражением ожидания на лице. Родители заявили, что я провидица, и Лис наверняка спросит о римлянах, которых я видела. Но он продолжает есть, не обращая на меня внимания, покуда не опустошает миску. Она вновь наполняется: гость получает долю, равную порциям нас троих, и вновь опустошает миску. Потом он сидит, сплетя пальцы на туго набитом животе, но губы его по-прежнему поджаты.
– Римляне возвели крепость к западу от Городища.
Ни матушка, ни я не сомневаемся в моем видении, и тем не менее, услышав новость Лиса, она ахает, а у меня коченеет спина. Губы друида складываются в довольную улыбку.
– Я не знал, – произносит отец. – Городище в добрых трех днях ходьбы отсюда.
Городище – ближайший к Черному озеру рыночный город; он раскинулся у подножия выского холма. Вождь и его сородичи живут на вершине, в хижинах, огороженных деревянным частоколом.
– Римляне называют свою крепость Вироконий[7]7
Римское городище (Viroconium Comoviorum) в Шропшире, совр. Роксетер. Первоначально основан в I в. н. э. как римский военный лагерь.
62
[Закрыть], – говорит Лис. – Она долговечная, сложена из камня.
Он замолкает, ожидая реакции, но отец лишь вертит между пальцев ложку – туда-сюда, туда-сюда.
– Эта крепость им нужна, чтобы вторгнуться на западные плоскогорья и раздавить последние мятежные племена, – продолжает Лис. – Римляне истребляют их под корень.
Купцы приходили на Черное озеро за шерстью Пастуха или железными изделиями моего отца. Порой они приносили вести о мятежных племенах, налетающих с тех самых высокогорий, что видны с Предела, и порождающих хаос в римских лагерях далеко на востоке. Мне случалось сидеть у пылающего костра, среди деревенских, слушая толки о налетах на римлян, о сторожевых, убитых в оборонительных рвах, о подожженных житницах, о факелах, забрасываемых на крыши палаток. Эти брожения, о которых все перешептывались, происходили так далеко от Черного озера, что казалось, ничего такого и не происходит вовсе, и тем не менее во мне пробуждалась затаенная гордость. «Завосставших!» – говорили купцы и поднимали кубки с медом, обратившись в сторону высокогорий. Мы, в свою очередь, тоже поднимали кружки и повторяли здравицу.
Лис опять прерывается, глядит на отца, но тот сидит с непроницаемым видом. Матушка же, напротив, печальна, как плачущий ветер, ибо последний оплот несогласия с римским правлением пал.
– Говорят, что воины из той крепости ходят в Городище, пьют, едят и играют в кости на рыночных прилавках. – Лис вздергивает брови. – Слыхали про такое?
Отец пожимает плечами, раскрывает ладони:
– Только Охотник бывал в тех местах, да и то давным-давно.
– Не забывай об этом, подавая мед римлянину. – Лис хлопает ладонью по столу, отчего мы с матушкой вздрагиваем. – Заходят они на Черное озеро, эти римляне?
Отец качает головой.
Лис зо знанием дела кивает:
– Незачем им соваться в такой глухой угол.
В напряженной тишине я ожидаю, что отец поправит друида, объяснит, что мое видение предсказало появление отряда римлян на Черном озере. Пот проступает у меня на шее, стекает между лопаток.
Не в силах терпеть более ни секунды, я произношу кротко, как овечка:
– Меня Охотник ждет, и Недрёма. – В момент слабости меня радует, что матушка Охотника больна, что она утверждает, будто только я правильно умею растирать ее мазью; меня радует даже, что Недрёме придется провести бессонную ночь без отвара душистой фиалки. – Мне надо идти.
Лис говорит:
– С тобой пойду. Покажешь, где отхожее ме-сто.
– Я покажу. – Отец встает было из-за стола, но рука Лиса ложится ему на плечо:
– Сиди.
С друидом не спорят. Перечить ему означает оскорблять богов. Эту истину я всегда знала, и все же в такой близости к Лису, который глотает кашу и собирается опростать кишечник, как простой смертный, я задаюсь вопросом о границах совершенства друидов. Может ли жрец, как любой другой человек, сделаться жертвой собственного тщеславия, собственных потребностей? Что за мысли! Опасные мысли. Бесполезные мысли, раз уж друиды властны обречь провинившегося на изгнание, приговорить его коротать остаток дней вдали от родных и той единственной жизни, которую он доселе знал.
Отец снова садится, и тревога матери омывает меня, словно холодная тень набежавшего облака.
Не успеваем мы с Лисом отойти на пару шагов от хижины, как он говорит:
– Ты провидица? Это правда?
Я сосредотачиваю взгляд на бледной луне, ее тоненьком ломтике среди беззвездного неба, и киваю.
– И что же ты предвидишь?
С чего начать? Как начать? И действительно ли в моих интересах убедить друида, что я настоящая провидица? Родители, похоже, в этом уверены.
Похоже, они считают, что этот дар может затмить мой порок.
– Бурю предвижу.
– Многие предвидят бури.
Я облизываю губы.
– Когда овца принесет двойню.
– У нее просто сильнее отвиснет живот.
Дрожащим пальцем я указываю в направлении отхожего места.
– Туда, – говорю я. – Мимо овечьего загона.
– Что еще? – не отстает Лис.
Я глубоко вздыхаю.
– Места, где можно найти пчелиные соты, и на каком растении. Недавно нашла на переступне.
Он раздраженно фыркает, словно давая понять, что в моих умениях нет ничего необычного.
Однажды я птенца дубоноса поймала. Свалился с верхушки дерева. Выпал из гнезда.
Он широко разводит ладони.
– Я не смотрела вверх, просто знала, что нужно приподнять подол и поймать его.
Лис останавливается, постукивает согнутым пальцем по губам.
– Ты видела римлян?
– Да.
– За ложь людям вырезают язык и зашивают рты.
Я думаю о барде, который пришел на Черное озеро и спел деревенским песнь о людях нашего племени. Мне было только девять лет. Песня оказалась длинной и сложной: о воинах и девах, о друидах, землях и битвах, полная незнакомых слов. И все же многое задержалось у меня в памяти, и даже сейчас я вспоминаю строки, повествующие о друидах, которые мановением священной руки обращали воинов в камни, дев – в ланей, хлеба – в побитый на корню, усохший сор.
– Я не врунья.
– Расскажи мне, что ты видела.
Я описываю отряд воинов на прогалине, их лошадей. Рисую детали: металлические пластины доспехов, бронзовые шлемы. Лис, кажется, по-прежнему не убежден, словно любому известно, как выглядят римские доспехи, и все эти особенности я могла узнать от купца, зашедшего на Черное озеро. Желание, чтобы мне поверили, неожиданно для меня самой, и на какое-то мгновение я подумываю заявить, что опишу видение в присутствии четырех свидетелей, как того требует наша традиция. Но затем меня осеняет мысль получше: я пальцем изображаю на лице нащечник римского шлема. Лис весь подбирается, превращается в слух, а я беспечно продолжаю говорить, подстегиваемая желанием произвести впечатление.
Мне бы припомнить, как отец стиснул губы, поигрывая ложкой, как старался держать мысли при себе, не зная намерений друида. А вместо этого я, забыв об опасности, распустила язык.
Вернувшись домой, я открываю дверь и вижу матушку, преклонившую колена под крестом Матери-Земли, и отца, сидящего на корточках у очага. Оба вскакивают, бросаются ко мне, обнимают.
– Всё в порядке со мной, – заявляю я. – Правда!
Оторвавшись от них, я замечаю, как матушка быстрым движением языка слизывает кровь с прокушенной губы.
– Что случилось? – Матушка хватает меня за плечи. – О чем был разговор?
Я складываю руки на груди, обхватываю ладонями локти.
– Я рассказала про римлян, здесь, на Черном озере. Вот как вам рассказывала.
– Начни сначала, – говорит отец.
С некоторым раздражением в голосе я заявляю:
– Я рассказала ему о том, что видела.
Матушка спрашивает голосом нежным, как теплый дождик:
– Он поверил тебе?
– Как знать.
– Пойдем, – зовет она, стрельнув взглядом в сторону отца: незаметный знак, говорящий о том, что она сама попытается выведать все, что сможет.
Мы проходим в спальную нишу, которую некогда занимали родители отца.
– Лису понадобится место, чтобы хранить свои пожитки, – поясняет матушка.
Из сундука, стоящего в ногах постели, она извлекает изношенные штаны, драное платье, два вытертых одеяла, старый масляный светильник и крошечную кожаную шапочку, изящно украшенную рядами вышивки.
– Твоя, – говорит она. – Я вышила ее перед твоим появлением на свет. Мать твоего отца научила меня. – Она переворачивает шапочку, притрагивается к двум местам, где протяжки слишком длинные. – Я очень торопилась. – Матушка отрывает взгляд от шапочки, устало улыбается: – Ты заслуживала лучшего. – Она складывает шапочку пополам и разглаживает ее на одеяле, извлеченном из сундука. Потом лицо ее озаряется надеждой: – Лис не причинит зла провидице.
Я не говорю ей, что лжецам вырезают языки и зашивают рты.
– Он что-то хотел у тебя узнать? – продолжает выспрашивать матушка.
– Нет.
Она осторожно достает из сундука пучок непряденой шерсти, аккуратно раздвигает волоски, и внутри обнаруживается серебряный кубок – отголосок прежних времен, когда на Черном озере заправлял клан Кузнецов.
Я провожу пальцами по кромке чаши, на которой изображены скачущие косули. Однажды я видела, как отец держал этот кубок, а потом закрыл лицо ладонями. Милосердно со стороны матери спрятать вещицу, вызывающую у него тоску, приводящую в отчаяние: утешение, пусть и слабое, которое матушка была способна дать ему. Другая женщина прижала бы его голову к своей груди, прошептала бы: «О, Кузнец, ты славный муж. Нам всего хватает».
– Можешь его помыть, когда мы закончим, – говорит она.
– Ты хочешь отдать кубок?
– Лис – друид.
– Но…
– Твой отец сам велел мне принести кубок. Нам нужно завоевать уважение Лиса. Мы с твоим отцом так решили. – Она кладет ладонь мне на колено. – А ты свое дело сделала.
Но я не рассказала родителям всего. Я не упомянула о словах, которые сказала Лису после того, как он подобрался и превратился в слух.
– Это было в Просвет, – сказала я ему. – Листья только что развернулись.
Лис убрал с губ согнутый палец и хмыкнул.
– Просвет? – переспросил он. – Тогда у тебя есть восемнадцать дней на появление этих римлян.
Я раскрыла рот, чтобы возразить, что не знаю, в который год это должно случиться, и никогда не говорила, что знаю, но Лис уже направился к отхожему месту.
Чувствуя слабость в коленях, я глядела ему вслед, пока он не растворился в ночи.
ГЛАВА 7
НАБОЖА
Матки благополучно ягнились весь Просвет, последовавший за ложью Набожи. Две двойни. Молоко пришло в сосцы в изобилии и щедро текло в рот сосункам. Были распечатаны последние сосуды с зерном, и обнаружилось, что укрытая в них пшеница пережила Зябь, не тронутая ни мышами, ни жучком, ни сыростью. Солнце быстро прогревало землю, и вол потащил плуг по полям. Погода держалась, тяпки и мотыги без промедления принялись колотить по комьям земли. Болотники с особой осторожностью прикасались к губам, к земле. Зерно посеяли рано. Ожидать ли более щедрого урожая? Конечно, как и во всякий другой год, из Городища явятся люди Вождя на запряженных волами повозках и увезут причитающиеся ему две трети, но пшеницы все равно хватит, чтобы пережить Зябь.
Нередко пальцы Набожи тянулись к ямке на шее, где когда-то висел потерянный амулет. Ее ложь, в которую поверил Молодой Кузнец, казалась недобрым предзнаменованием. Скверный способ положить начало дружбе: Набожа словно бы распахнула дверь обману, тяжелую дверь, которую не так просто будет закрыть. Она представляла, как покачивает амулет над тихими водами Черного озера, представляла, как раздвигает узелки, ослабляя петлю. Она видела, как амулет выскальзывает из пальцев в озерный мрак. Подобные сцены служили утешением: в них она и впрямь приносила жертву Матери-Земле. Набожа вновь и вновь вызывала их в воображении, и со временем они сделались скорее воспоминаниями, нежели ложью. Порой она даже видела некоторые детали: как амулет блестел в лунном свете, как последней в черной заводи исчезла кожаная петля.
Арк брел по свежей борозде, дробя мотыгой крупные комья. Следом за ним шла Набожа, вновь и вновь вонзая в землю тяпку, разбивая оставляемые им комки помельче. Она замечала, как высоко он поднимает мотыгу, замечала силу, с которой орудие соприкасалось с землей, и ей казалось, что Арк делает больше положенного, тяжкими усилиями пытаясь, насколько можно, облегчить ей работу.
Я сильнее, чем ты думаешь, – сказала она.
— Мне больше нечего тебе дать, – ответил он, вновь принимаясь разбивать комья.
В груди у нее легкой волной поднялась надежда. Набожа не хотела, чтобы он страдал, но, может быть, им в равной мере не хватает друг друга. С той ночи праздника Очищения больше не было длительных, неторопливых прогулок, не было зова снегиря, на который она могла бы ответить. Как и все остальные, Арк слышал про амулет.
Солнце палило, и Арк скинул рубаху. Набожа засмотрелась на его грудь, блестящую от пота, золотистые завитки на животе, что сбегали к веревке, поддерживающей штаны, и почувствовала странное томление в чреслах. Ей захотелось тронуть бугорки мышц на его предплечье, вздувшиеся ближе к локтю и сужающиеся у запястья. Она отвела глаза и, учащенно дыша, снова уставилась на свою тяпку. Внять ли этому томлению или оставить его без внимания? До чего же она боялась, что один из двух юношей подойдет к ней и попросит объявить свое намерение вступить в союз с ним: теперь, когда все в ней волновалось, как пчелиная борть. Уж конечно, деревня ожидала, что Набожа поведет себя достойно и скажет: «Объявляю намерение взять в супруги Молодого Кузнеца». Все сочли ее глупой, ибо проходил день за днем, а она – крестьянка! – все еще не закрепила за собой права на драгоценного сына Старого Кузнеца. Арк предлагал ей свое доброе сердце, давнюю дружбу, душистые фиалки в подарок и это сладкое томление. Но когда она начинала думать спокойно, с ясной головой, то уверена была лишь в одном: раньше этого было бы достаточно.
А потом ей начал оказывать знаки внимания Молодой Кузнец, и она все больше уверялась: он не обиделся, что Набожа, по ее словам, принесла в жертву его подарок. С тех пор по вечерам он стал высматривать ее на прогалине, чтобы улыбнуться и, возможно, с чуть преувеличенным усердием вскинуть над головой кувалду. Иногда он пристраивался к ней и шел рядом, когда она возвращалась с полей. Однажды посочувствовал, что крестьянкам приходится работать под таким изнуряющим солнцем. В другой раз сказал, что проснулся от стука дождя и порадовался: дождь означал день отдыха для работниц.
Однажды Молодой Кузнец просто попросил ее последовать за ним. Сказал, что хочет показать ей что-то в старой шахте. Подножие Предела было пронизано укромными туннелями и пещерами: этот лабиринт, извилистый, непроглядно темный, был прорублен искателями медной руды. Теперь ее почти не осталось, всё давным-давно выгребли. Набожа там редко бывала: мать запрещала ходить в шахту. Молодой Кузнец захватил с собой два тростниковых факела, словно был уверен, что Набожа не откажется. И все же она колебалась. А вдруг он спросит о заявлении, которого она не сделала? Вдруг станет торопить ее с решением? Но как понять, чего хочет сама Набожа, если она уклоняется от любой попытки Молодого Кузнеца к сближению?
– Там безопасно, – заверил он. – Я эти шахты знаю получше многих. Уже много лет хожу сюда руду искать.
Опасаясь, что он принял ее нерешительность за страх, Набожа торопливо сказала:
– Показывай свою шахту, Молодой Кузнец.
Солнце стояло низко, свет был мягким, тени – приглушенными, не такими, как в полдень. Мир светился розовым теплом, и его красота отливала золотом, как поздняя пшеница под легким ветерком. Набожа на мгновение замерла в благодатном солнечном свете, позволяя Молодому Кузнецу смотреть, вбирать в себя ее бледное открытое лицо, ямочку на подбородке. Она знала, что ее волосы отблескивают гладкой бронзой, а распущенные – падают прелестными завитками. Но больше всего привлекали внимание ее глаза, синие, как плечо сойки. Однажды мать посетовала, что глаза Набожи повергают деревенских в оцепенение и те уже не замечают ее прекрасного прямого носа и изящно очерченного подбородка.
Они с Молодым Кузнецом шли рядом по лесу. В тех местах, где тропа сужалась, он замедлял шаг, пропуская ее вперед. Оба молчали посреди птичьего пения и шелеста листвы. Когда молчание сделалось неловким, он спросил, что это за желтый цветок у края тропинки.
– Чистяк, – ответила Набожа. – Мазь из его листьев хороша от чирьев.
Они продолжили в том же духе: он спрашивал, она отвечала, делясь с ним своими пока еще невеликими познаниями.
В какой-то момент он остановился и покачал головой:
– Надо же, сколько всего ты знаешь!
– Это Мать-Земля, ее хвали.
Наконец они достигли Предела – высокой отвесной стены из песчаника, где темнел, словно зияющая пасть, вход в старую шахту. Молодой Кузнец умело чиркнул кресалом, подул на трут – и тот затеплился, разгорелся. Окунув факел в пламя, Молодой Кузнец передал его Набоже.
– Позову тебя, когда мне в следующий раз понадобится разжечь огонь, – сказала она.
Он улыбнулся, поднес свой факел к ее пламени:
– Надеюсь.
В тот момент ей понравилась эта мысль: позвать его в свою хижину, чтобы он зажег хворост. Или еще лучше: сидеть с ним в каком-нибудь укромном месте, глядя в разведенный им огонь.
Молодой Кузнец повел ее по змеящемуся проходу, сворачивая то вправо, то влево. Набожа почти не разбирала пути, не видела в непроницаемой тьме ничего, кроме сияния их факелов, и все же не испытывала ни малейшей тревоги. Рядом с Молодым Кузнецом было легко и спокойно. Набожа подумала об уносимых вверх семенах одуванчика со множеством тончайших крылышек.
Молодой Кузнец осветил факелом широкую полосу стены, вспыхнувшую рыжим, золотым и красным.
– Идем, – сказал он.
Проведя Набожу на несколько шагов дальше, он опустился на колени перед стеной. Набожа встала рядом, и он приподнял факел так, что стал виден незатейливый рисунок, процарапанный в песчанике.
– Помнишь? – спросил Молодой Кузнец.
Картинка изображала трех человечков внутри круга.
Набожа покачала головой:
– Нет.
– Мы приходили сюда в один из праздников урожая. Тебе было, наверное, лет пять.
– Правда?
– Несколько мальчишек улизнули с праздника в шахту. А из девчонок за нами увязались только ты и Рыжава.
Что-то вспыхнуло в памяти: мальчишки, ухающие в темном туннеле; она среди их ватаги, с колотящимся сердцем, счастливая, бежит на свет факелов.
– Вспомнила! – воскликнула она, наполняясь весельем и блаженством того дня.
– И мы это нарисовали, – сказал он.
Она вновь посмотрела на рисунок: бледные рыжеватые черточки, процарапанные в песчанике. Чем – острым камнем? Ножом, зажатым в кулаке? Может быть, может быть. Еще вспышка: она, пятилетняя, сидит на корточках в этом самом месте. Набожа вспомнила первые тонкие линии, потом поверх них – другие, более глубокие.
– Ты нарисовала человечков, – сказал Молодой Кузнец. – Всех трех.
– А ты нарисовал круг.
– Круглую хижину.
И она вспомнила мальчика, что сидел рядом с ней, завершая картинку, и смутное ощущение радости и безопасности.
– Странно вспоминать давно забытое, – сказала она. – Странно видеть наше прошлое.
Юноша провел пальцем по кругу, повторяя его очертания. Взглянул на нее, она на него.
– Может быть, это не прошлое, – произнес он, и Набожа подумала, что он может поцеловать ее, что она приоткроет рот навстречу его губам.
Она ожидала прикосновения, желала его – поцелуя, руки, скользящей по спине, обнимающей за талию, – но этого не случилось.
Молодой Кузнец убрал пальцы с песчаника и встал. Она пожалела, что не ответила, не сказала: «Тогда это наше будущее?» Он ведь наверняка надеялся услышать эти слова.
По дороге назад, на краю прогалины, Набожа замедлила шаг и положила ладонь на его руку.
– Та картинка, – сказала она. – Я хочу еще раз на нее посмотреть.
Она оставила его, не взглянув ему в лицо, и пошла дальше по прогалине. В следующий раз она не будет такой скаредной. Он подарил ей амулет, окликал ее из кузни, привел в старую шахту и чуть ли не напрямик сказал, что старый рисунок предсказывал семью, которую они когда-нибудь создадут. А Набожа была отвратительно скупа.
Она вернулась к действительности как раз в тот момент, когда мотыга Арка обрушилась на очередной ком.
– Пойдем к Пределу? – предложил он. Голос его звучал почти равнодушно, словно эта мысль случайно пришла ему в голову.
Она хотела забраться на Предел с Арком, увидеть все, что доступно взору, с того единственного места, откуда удалось заглянуть за границы Черного озера. Но мать собиралась делать сыр, и ей требовалась помощь. А еще нужно смолоть зерно в муку, нарезать соломы, чтобы починить протечку в крыше. Да еще накопать сального корня: его высушат, истолкут, смешают с горячим воском и приготовят целебную мазь для заживления нарывов на руках и губах деревенских детишек. Напасть невеликая, однако Набоже нельзя пренебрегать обязанностями ученицы знахарки Черного озера.
Она знала все хвори деревенских: больные десны Старого Плотника, заворот кишок Старого Дубильщика, слабое сердце Старого Охотника; у одной работницы — спазмы при кровях, у другой – бессонница. Набожа лечила и исправляла, и плакала, когда могла предложить лишь отвар душистой фиалки. Ее хвалили, а порой и вознаграждали за бескорыстие и мастерство в приготовлении чудотворных снадобий Матери-Земли. Выхаживая мастерового с Черного озера, она могла получить в подарок кусок кожи, охапку немытой шерсти. От работниц ей доставались только благословения, поклоны, восхищение.
– Мне нужно накопать сального корня, – сказала она Арку, надеясь, что он заметит ее искреннее сожаление.
Большой волосатый лист. Пурпурный цветок.
– Вроде кубка, – кивнула она, удивленная, что ему известно это растение. Но почему нет, при его-то приметливости?
– Я знаю хорошее местечко, – заметил Арк.
Он свернул на тропинку, что вела к болотам. Ей нравилось, как легко он ступает, почти не тревожа лесную подстилку, и как проводит рукой по растущим вокруг высоким травам: их опушенные колоски скользили по его ладоням, по мозолям, оставленным мотыгой. Набоже представилось, как его ласковые руки опускаются с ее щек на шею.
Могла бы она сказать, кто ей больше нравится: Молодой Кузнец или Арк?
Это зависело от того, кто находился ближе, от того, какие особенные события она недавно перебирала в памяти. Она могла бы назвать Арка, когда думала о душистых фиалках или о дрожи, пробирающей ее при звуках песни снегиря. Но когда Набожа думала об амулете или о том, как стояла на коленях у стены старой шахты, дороже ей казался Молодой Кузнец. И снова ее тянуло к Арку, когда она вспоминала золотые завитки на его животе. А думая о глазах, опушенных густыми ресницами, опять выбирала Молодого Кузнеца. О, эти долгие часы, проведенные в раздумьях!