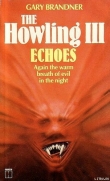Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 18
ХРОМУША
Я с трудом удерживаюсь, чтобы не броситься бегом, когда мы с отцом приближаемся к деревне с нагруженной тележкой. Но затем, на последнем повороте, перед тем как лес расступается перед полями Вождя, я вижу матушку и не могу устоять. Она замечает нас и расплывается в улыбке, прикасается к губам, стремительно наклоняется и, мазнув по земле кончиками пальцев, бежит к нам по тропинке. Я бросаюсь к ней в объятия, ощущаю силу моей хрупкой матери. Она зарывается лицом мне в кудри, целует, ласкает. Потом отрывается от меня, обвивает руками шею отца и целует, и обнимает его, берет в ладони его лицо и снова целует.
Эта откровенная неописуемая радость, объятия, ладони на лице отца – моя матушка, обычно такая сдержанная! Поистине, она чистая загадка.
– Ох, Кузнец! – говорит она. – Самые длинные шесть дней моей жизни!
Он улыбается, пунцовея как маков цвет.
– Ты только взгляни, – говорит он, указывая на тележку.
Матушка трогает железные бруски.
– У меня есть работа! – объявляет отец. – И мне обещали, что будет еще.
– Стало быть, вспомнил о тебе Вождь.
– Я ударил по рукам с торговцем по имени Везун.
– Везун!
– Скучная работенка. Колышки для палаток, сейчас, по крайней мере. Но это ничего.
– Идем же, я набрала яиц на целый пир. – Она обнимает его за пояс, берет меня за руку.
Что Лис? – спрашивает отец на ходу.
– То здесь, то там.
– Сейчас он здесь? – затаив дыхание, спрашиваю я.
Матушка раскачивает мою руку взад-вперед, словно отмахивается от ответа.
– Только что вернулся.
– Откуда?
– Он никогда не сообщает. – Матушка разжимает ладонь, показывая, что не знает. – Но коня загнал.
– Они опять ездят по селеньям, – говорит отец. – Везун сказал, друиды сейчас в Бревенчатом Мосту. Мутят племена.
– Как ты и предполагал. – Радость начисто уходит с лица матушки, и она выпускает мою руку.
– Что-нибудь еще… – Отец не заканчивает фразу. Мы знаем, что он имеет в виду: были ли еще какие-нибудь изуверства со стороны Лиса.
Мать отрицательно качает головой.
Я гляжу на поля, уже слегка подернутые зеленью.
– Пшеница всходит, – говорю я, пытаясь щебетать птахой, поющей утреннюю песенку, но голос мой жалок. Лис остается на Черном озере, и никто из нас не верит, что мы в последний раз были свидетелями его жестокости.
Едва я успеваю распаковать бронзовый светильник, сосуд с оливковым маслом, сыромятную шкуру и отрез некрашеной шерстяной ткани, завернутый в мой плащ, как в дверях появляется Охотник. Он окликает меня и, когда отец подходит узнать, в чем дело, поясняет:
– Мать тебя спрашивает.
Я проводила долгие вечера, ухаживая за его хворой матерью: расчесывала волосы, растирала руки и ноги, поила отваром душистой фиалки, чтобы ей легче спалось. Стоя одной ногой в Другом мире, с поврежденным рассудком, она время от времени отпускает на волю мысли, дребезжащие в голове. Я расспрашивала ее, даже допрашивала, вытрясая все, что можно. И сейчас, хотя меня тащат из дому прямо с порога, я буду рада поводить гребнем по редким волосам, оттягивая неизбежную встречу с Лисом.
– Ты видела, как матушка выбрала Арка в супруги? – спрашиваю я мать Охотника.
Она оборачивается, с сомнением смотрит на меня. Конечно, она была там, как и всякий, рожденный на Черном озере.
– Сам пир я плохо помню, – признается она, – а вот костер! Такой праздник в ту ночь был. – Она похлопывает меня по руке, словно извиняясь за теплые слова о торжестве в честь первого брачного союза моей матери. – Твой отец любил твою матушку даже тогда, – говорит она. – В ту ночь он напился в дым и рассказывал всем и каждому, что однажды она станет его супругой.
Мне нравится эта затея: искать прибежища в пьяной уверенности посреди Просвета, обернувшегося для отца несчастьем.
– Твоя матушка и Арк… – На губах старухи появляется почти девичья улыбка. – Всё-то они миловались! В деревне судачили. То в высокой траве укроются, то пару шагов от пшеницы отойдут, чуть ли не с серпами в руках, то на вершине Предела или в лесу, как только начнет смеркаться.
Я откладываю гребень, боясь нарушить мерный поток ее слов, но затем подходит Охотник, нависает над нами, сложив на груди руки.
– Удалась у отца мена? – спрашивает он, хотя определенно видел, что тележка вместо котлов была нагружена железными брусками.
– Да.
– А что за купец?
Я пожимаю плечами, поскольку не могу сказать сопернику отца, что железом его наделил человек, снабжающий римскую армию.
– Я ткани ходила смотреть.
– Ты бродила по Городищу совсем одна? – удивляется он.
Я провожу гребнем от лба старухи к макушке, от макушки к затылку.
– А я бы тебе с собой куропатку дал, – говорит он.
– Мы все ценим твою щедрость.
Он упирается руками в ляжки и пригибается так, чтобы встретиться со мной глазами.
– Ты знаешь, что у меня в Городище есть друзья, – говорит он.
С великим усилием его мать поднимается на дрожащих ногах:
– Я теперь посплю. – И безжалостно, как месть, добавляет: – Ты дашь девочке куропатку.
Дома я застаю стол, накрытый для пира: четыре кружки, четыре тарелки, блюдо с яичницей и другое – с твердым сыром и хлебом. Отец отвлекается от разлития медовухи и кивком указывает на куропатку:
– Стоило притащить тележку железа, и Охотник загорелся заключить мир?
– Куропатка? Расщедрился, – говорит матушка. – Вы вовремя вернулись.
Она зовет Лиса, и тот появляется из своей ниши как раз в тот момент, когда я собираюсь объяснить, что куропатку получила вовсе не поэтому.
Обычно мы сами обслуживаем себя, но матушка знает, насколько проголодались мужчина и девочка, проведя в дороге шесть суток, а также знает привычку Лиса брать больше, чем положено. Пока она раскладывает еду, я гляжу на отца. Тот кивает, и я бросаюсь в свой угол за оливковым маслом, в который так вкусно макать хлеб.
Пока отец, матушка и Лис рассаживаются вокруг стола, я наливаю немного масла в неглубокую миску.
– Попробуй, – говорю я, протягивая матери кусок хлеба.
Она смотрит непонимающе.
– Вот так, – поясняю я, опуская хлеб в масло. Приятный терпкий вкус растекается по языку.
– Оливковое масло, – говорит с улыбкой отец.
– Римское масло! – восклицает Лис и смахивает со стола миску, которая, кувыркаясь, летит на тростник.
Отец вскакивает.
Нам дал это сородич, купец из Городища. Голос у него почти спокойный. – Подарок для Набожи. – Он разжимает стиснутые кулаки.
– Даже в таком случае, – возражает Лис, – римлянин на этом выиграл. – По лицу у него пробегает тень: он устал вновь и вновь объяснять. – Мы поставляем лес для их частоколов, кожу для их палаток, сыр для их желудков, для этих римлян, которые называют нас варварами, которые забирают наше золото, серебро и соль.
Пока он говорит, морщины у него на лбу становятся все глубже, щеки западают сильнее, и я с бьющимся сердцем жду появления гримасы отвращения к тем, кто якшается с римлянами, и вспоминаю намек Охотника на друзей в Городище. Отец дышит ровно. Он достаточно умен, чтобы не повторять друиду, совершенно уверенному в правоте своих обвинений, доводы Везуна в пользу бойкой торговли, больших возможностей и лучших урожаев, дорог и акведуков, порядка и каменных городов.
Мать осторожно тянет отца за штанину.
– Сядь, – просит она. – Нет ничего хуже остывшей яичницы.
Отец поднимает перевернутую миску, возвращает ее на стол и садится. Лис куском хлеба про-макивает блюдо из-под яичницы, подбирая каждую крошку.
– Сородич, ведущий дела с римлянами, – безрассудный глупец.
Мать сверлит отца взглядом, и мне до смерти хочется сказать, что Везун не римлянин. Правда, разница невелика, ведь Везун выступает их посредником, а взгляды Лиса непоколебимы, как глыба песчаника.
Отец кивает – неторопливо, уступчиво:
– Мы здесь мало знаем о римлянах. Они всего раз приходили сюда, когда искали сбежавших из Вирокония узников.
– За тех храбрецов, – говорит Лис, поднимая кружку. – За людей, у которых довольно мужества, чтобы сопротивляться.
Мы повторяем его жест, протянув кружки в сторону высокогорий – давняя традиция солидарности с этими землями, откуда теперь выметены мятежные племена.
– Ты никогда не думал присоединиться к повстанцам? – спрашивает Лис. – Судя по тому, что я слыхал, причин у тебя достаточно.
Но отец не испытывает ненависти к римлянам и не желает мести за погубленную родню, как не желал мстить в те дни, когда еще существовали повстанцы, к которым можно было примкнуть. Он сказал: «Друид погубил мой клан», считая наших верховных жрецов столь же виновными в его утрате, сколь и римлян. Он долго цедит мед, что позволяет ему избежать ответа, который Лису придется не по душе.
Страсть делает друида глухим к молчанию отца, и он продолжает:
– Римляне убили моего отца – это у нас с тобой общее – и весь мой род. – Он глядит на кружку в ладонях. – Мне было семь лет, я умирал от голода, и один друид нашел меня и привез на Священный остров. Он поил меня по капле и жевал для меня мясо, которое я был не в силах разжевать сам. Он привязывал меня к себе, ибо я не мог держаться верхом на лошади. – Глаза его наполняются слезами.
– Он видел твою силу, – говорит отец.
Лис делает большой глоток из кружки, а я вспоминаю себя семилетнюю: беспечную, любимую. Удивительно, что я чувствую жалость к такому жестокому человеку. Друид прочищает горло, вновь обращается к отцу:
– Твой отец присоединился бы к повстанцам, будь у него хоть малейшая возможность.
Сотни раз я слышала рассказы о том, насколько рассудительным был отец моего отца – о верности суждений Старого Кузнеца, его способности предсказывать исход дела. Я гляжу на отца.
По сжатым в тонкую линию губам видно, как он обеспокоен настойчивостью Лиса.
Собравшись с духом, я тихо говорю:
– Отец моего отца видел, как его сородичей разбили за два дня.
Лис поворачивается ко мне, глядит свирепо: девчонка осмелилась подать голос! Я вспоминаю зарезанного щенка. Вспоминаю лезвие, прижатое к моему горлу. Рот друида кривится, но, сочтя, что из-за меня не имеет смысла отвлекаться от насущной темы, он заявляет:
– Римляне еще узнают могущество наших богов.
После этого мы едим в молчании. Сосуд с оливковым маслом стоит на столе, как некий вызов.
Когда Лис наконец встает, мы с матерью одновременно тянемся к сосуду. Я уступаю, и мы переглядываемся, когда она подхватывает его со стола и прячет в складках юбки.
Спустя дюжину вечеров Лис велит мужам деревни собраться у нашего очага. Я разливаю мед, наполняю кувшины, таскаю дрова из поленницы под карнизом. Матушка, похоже, собирается уйти под предлогом того, что нужно отнести лекарство, и хочет, чтобы я ее сопровождала. Но Лис говорит, что не прочь выпить кружку отвара ромашки, и я ставлю воду на огонь. Без меня мать не уходит и принимается толочь лапчатку, хотя мазей у нас предостаточно.
Отец сидит, постукивая пальцами по бедру, и я думаю о том, что его новая тревога вызвана Лисом. Пока друид рыщет здесь, отцу приходится хранить готовые колышки подальше от его глаз и выкладывать на видное место обухи и ложки. Вчера он пожаловался мне, что Лис крутился возле кузни, поэтому пришлось потратить лучшую часть дня на возню с уже готовым черпаком. За несколько дней до того Лис ранним утром уехал, не сказав куда, и его не было две ночи. Я знаю, что отец постоянно посматривал, не возвращается ли друид, не видны ли клубы пыли из-под копыт его коня. Завидев на дороге пыльное облако, отец погрузил руки в воду, вытащил из ведра с водой дюжину еще не заостренных колышков и засунул в темную дыру между очагом и стеной.
Когда стихает гул мужских голосов, Лис откашливается и встает. Спрятав руки в просторные рукава одеяния, он посолонь расхаживает вокруг очага, и шаг его столь же нетороплив, сколь и речь, с которой он обращается к собравшимся:
– Друзья и сородичи – ибо я всех вас считаю сородичами, – сегодня я буду говорить с вами о серьезных делах. – Он поочередно оглядывает мужей. – Вы на опыте изведали, насколько отличается свобода от рабства, и хотя некоторые из вас, возможно, были некогда обмануты посулами римлян, теперь вам известна правда. Вы поняли, какой огромной ошибкой было позволить римским угнетателям отменить наши старинные обычаи, и вы осознали, насколько лучше бедность без хозяина, нежели богатство под пятой захватчика.
Но разве кто-нибудь из жителей болот изведал эту разницу, осознал великую ошибку? Мы всегда отдавали большую часть зерна Вождю. И здесь, на Черном озере, никто бы и не узнал, что теперь наш Вождь платит десятину римлянам, если бы нам не сказали. Но, похоже, Лиса это совсем не волнует. Видимо, он предпочитает закрывать глаза на любое обстоятельство, которое идет вразрез с его мнением. Мне становится ясно, что он ничего толком не видит и не слышит. В голове у него застряло лишь одно: римляне крадут нашу пшеницу.
Руки друида выныривают из рукавов, он бьет кулаком в ладонь и продолжает:
– Нас лишили собственности. Нас презирают и втаптывают в грязь. Мы пашем землю и пасем скот для римлян, почти все время проводим в трудах. Жизни нет, одна работа. Только благодаря моим собратьям-друидам, изгнанным отсюда на Священный остров, наши традиции все еще живы. Ненасытность римлян зашла слишком далеко.
У Лиса плохо с глазами, если он не видит, как соплеменники касаются губ и земли, закапывают хлеб и мясо для богов, гладят колесо Праотца на гати. Я перевожу взгляд с отца на Охотника, с того на Плотника: интересно, понимают ли они слова друида, как понимаю их я. Их лица бесстрастны: нельзя показать жрецу, что его речи не к месту.
– Но, по правде говоря, – продолжает тот, – мы сами несем ответственность за это зло, ибо позволили римлянам ступить на нашу землю, вместо того чтобы прогнать их раз и навсегда, как мы поступили с их хваленым Юлием Цезарем. А теперь мы долгие годы пожинаем последствия и негодуем, точно звери, вдруг осознавшие тесноту клетки.
Лис поглаживает жидкую золотисто-каштановую бороду, которая никак не вяжется с представлениями о древней мудрости друидизма. Он смотрит, задрав свой длинный нос, на обращенные к нему лица тех, кого он назвал сородичами. Задирает ли он свой длинный нос и перед собратьями-друидами? Отец с трудом сдерживает гримасу отвращения.
Лис снова прячет руки в рукава.
– Мы должны исполнять свой долг, пока еще помним, что такое свобода, – говорит он. – Мы должны оставить детям не только слово «свобода», но ее саму. Все это я говорю не с целью пробудить в вас ненависть к нынешним условиям – она у вас уже есть, – но побудить к началу действий; а уж как вы будете действовать, это вам решать.
Интересно, другие племена тоже собираются у очагов вроде нашего, где друиды так же вербуют приверженцев и бьют кулаком в ладонь, разжигая недовольство? В дни своих отлучек Лис, вне всяких сомнений, заезжает в дальние деревни. Хотя он моложе друидов Бревенчатого Моста, именно на него, одержимого, что баран в охоте, возложена обязанность поднять племена в отведенной ему области и увлечь их в большой священный поход.
В мерцании огня отец ставит кружку на тростник, кладет беспокойные руки на колени. Мне хочется на тюфяк, хочется забыться сном и не впускать в него друидов, заламывающих руки и замышляющих освобождение Британии от римлян. Меня сотрясает крупная дрожь при воспоминании о словах Лиса, произнесенных в тот вечер, когда мы с отцом вернулись из Городища: «Римляне еще узнают могущество наших богов».
Мужчины вокруг костра затихают, прячут глаза, устремляя их на кружки в руках, на обтрепанную кромку штанин, тростник под ногами – на что угодно, кроме друида. Многие видели, как щенок стал расплатой за воинственность Охотника. Лис по очереди оглядывает селян, ища солидарности, но не встречает ни единого ответного взгляда. Отец смотрит на меня, машет опущенной ладонью, давая понять, что я не должна больше обносить людей медовухой.
Мужчины под разными предлогами – рано вставать, у овцы вымя опухло – поднимаются и тянутся к выходу. Лис следует за ними, но предчувствие грозы от его проповеди все еще разлито в воздухе.
Матушка явно утомлена растиранием лапчатки. Отец расхаживает по хижине, не отрывая взгляда от устилающего пол тростника.
– Эти колышки… – начинает мать, и я знаю, что именно нравоучения Лиса заставили ее задать вопрос, не дающий ей покоя после ссоры из-за оливкового масла.
Отец поднимает взгляд, кивает:
– Да, римские.
– Ох, Кузнец, – говорит она. – Как ты мог?
Он разводит руками, оглядывает нашу скудную обстановку.
– Я их ненавижу, этих римлян! – Похоже, мать сейчас заплачет. – Ты же знаешь, что я их ненавижу.
– Матушка, – тихо, нерешительно говорю я, – в Галлии римляне покончили с друидами.
Она откладывает пестик. Не в силах вымолвить покорное «будь осторожна» или «он не узнает», она лишь тяжело вздыхает и в конце концов возвращается к лапчатке.
– Речи Лиса ничего не значат, – говорит отец чуть ли не шепотом. – Мы стараемся заслужить его расположение. Любые несогласия держим при себе.
Родители смотрят на меня. Я знаю, о чем идет речь: «Ради тебя, ради твоей безопасности, мы будем заискивать и унижаться, и только между собой высказывать истинное мнение о соплеменниках, восстающих против римлян».
А Лис шныряет где-то поблизости, нос его дергается, втягивая воздух.
ГЛАВА 19
ХРОМУША
Я просыпаюсь: слух напряжен, сердце колотится: в глубокой ночи прокричал петух. В легком дыхании родителей я привычно различаю знакомый ритм отца: на каждые его восемь вдохов приходится десять вдохов матери.
– Петух, – говорит она. Из-за тревоги за них обоих я обмякаю.
В довершение ко всем бедам, в полдень я слышала хлопанье крыльев. Опустив серп, я заметила пару круглых глаз и перышки, ровными кругами расходящиеся от черных лужиц. Неясыть сидела на нижней ветке ясеня на краю поля; ее крапчатые крылья сливались с корой. Я перевела взгляд на мать, вязавшую в снопы сжатую пшеницу, затем на отца, качавшего мехи в кузне. Высмотрела Дольку на дальнем конце поля, углядела на прогалине Вторушу, чинившего тележку Охотника. И все же тревога не проходила. Неясыть, посреди бела дня.
А теперь вот петух.
Я трогаю губы, нащупываю сквозь тростники земляной пол – нехорошо чувствовать облегчение, когда петух кричит по чужой родне. Но мелькнувшая мысль, что это по Лису, приносит мгновенную радость; она вспыхивает и пропадает, как вода, зашипевшая на железе, только что вынутом из горна. Лис уехал четыре дня назад и до сих пор не появляется на Черном озере – небольшая передышка для всех нас, терпящих его тягостное присутствие и продолжительные разглагольствования у очага.
– Кузнец? Хромуша? – зовет матушка. – Вы слышали петуха?
– Да, – отвечаю я.
Покрывала шевелятся – родители привстают, и отец говорит:
– Я тоже слышал.
Из-за стены доносятся шаги, и один из мальчиков Дубильщика зовет:
– Набожа! Хромуша!
Когда я отбрасываю с ног шерстяное одеяло, глинобитная дверь распахивается, и появляется старший сын Дубильщика, омытый голубым лунным светом.
– Щуплик… – говорит он.
Я пытаюсь вспомнить, часто ли хватался Щуп-лик за голову в последнее время, слышалась ли новая боль в его стонах.
Петух снова кричит, и лицо у мальчишки вытягивается. Он качает головой со всей печалью сумерек.
– Ступай, – говорит мать. – Мы придем.
Теперь глаза приспособились к темноте, и в смутном свете луны и нескольких угольков, все еще тлеющих в очаге, мы с матерью снимаем ночные рубахи и надеваем шерстяные рабочие платья. Некрашеная ткань скользит по моим узким бедрам и набухающей груди, и я закрепляю ее на каждом плече двумя застежками.
Матушка наклоняется, достает небольшой сосуд из ларя, в котором мы храним готовые снадобья, и на лице отца отражается недоумение: для чего выбирать лекарство, когда от него уже нет толку, когда петух уже прокричал?
– Отвар душистой фиалки, – поясняет матушка, забирая сосуд, – успокоить мальчика.
Она, как и отец, уверена в судьбе Щуплика.
В дверях она возится с завязками плаща на шее, все больше волнуясь. Потом опускает руки, так и не справившись с завязками. Глядит на отца, присевшего на корточки у огня. Это помогает ей успокоиться, потому что она знает, как любит ее отец. А сейчас ей нужно собрать волю в кулак, чтобы помочь Щуплику и показать мне свою силу. Ее взгляд на несколько мгновений задерживается на широкой спине отца, буграх мышц, вздувающихся и опадающих, когда он зажигает факел от тлеющих углей. Он защитит. Мать знает это, и все же необъяснимая сдержанность не позволяет ей искать утешения у него, и она просто стоит у двери, позволяя себе только взгляд – и этого хватает, чтобы справиться с завязками плаща.
Отец подходит к дверям и передает мне факел. Я так хочу задержаться, побыть втроем в нашей крепости из прутьев, глины и тростника, но надо идти, как всегда, если нужно успокоить чей-то кашель, обработать рану.
– Я пойду с вами, – говорит отец.
Матушка глубоко вздыхает, воспринимая его слова как поддержку, но отвечает лишь слабым кивком, легким движением головы. Я обнимаю отца, прижимаюсь лбом к его груди. Его пальцы скользят по моим волосам, спускаются к затылку. И вот она, знакомая, как колыбельная песня, его душевная боль оттого, что я понимаю последствия своей хромоты. Как несправедливо, что эта мука возвращается именно сейчас, когда ему наконец-то улыбнулась удача!
Он уже пять раз доставлял в Городище заказанные колышки. Благодаря сделке, заключенной с Везуном, у меня появился новый плащ, а у матери – бронзовый браслет и синее платье. Теперь отец приносит столько мяса, что даже остается, и лишнее отдают работницам, а семья матери, которая никогда доселе не ела так сытно, встречает Кузнеца почтительным поклоном. Теперь у отца есть собственная тележка, и ничто не радует его больше возможности отклонить предложение об оплате, когда у него что-то одалживают.
Однажды, вернувшись из Городища, он сунул в руку Пастуха горсть темных семян.
– Мыльнянка, – пояснил он. – Измельченные корни и листья дают зеленую пену, которая снимает жир со стриженой шерсти. Римляне привезли этот цветок из Галлии.
В другой раз он вернулся домой с полезным советом для Дубильщика:
– Попробуй замачивать шкуры в моче. Римляне так избавляются от волосков.
А совсем недавно отец принес мне две деревянные дощечки, соединенные посередине.
– Они называются таблицы, – сказал он.
Раскрываешь эти дощечки, и видна внутренняя поверхность, а можно держать их сложенными, защищая содержимое. Каждая дощечка с внутренней стороны окантована рамкой и покрыта тонким слоем пчелиного воска. На нем римляне процарапывают свои знаки, свои слова. Римлянин, объяснил отец, может записать сообщение на воске, сложить табличку и отправить ее в самый дальний конец империи, где послание будет прочитано. Я прижала таблички к сердцу – волшебный инструмент, с помощью которого удается пересылать слова через пространство и время.
Отец превзошел Охотника по части даров к празднику, отмечающему начало сбора урожая. Благодаря его щедрому вкладу умы сородичей проснулись. Долька поглаживала сытый живот, зевала.
– Твой отец должен стать первым человеком, – прошептал Старец.
– Я уже давно это говорил, – подтолкнул меня локтем Вторуша. – Посмотри на Охотника: невтерпеж ему, что твой отец в гору пошел.
Когда мы приходим, Щуплик лежит, свернувшись клубочком, на лежаке. Дубильщик тычет кочергой в тлеющее полено; ребятня жмется под шерстяным одеялом с другой стороны очага. Супруга Дубильщика лежит рядом со Щупликом, обнимая его, поглаживая по волосам, снова и снова повторяя: «Скоро рассвет». Это для того, чтобы отогнать темных фей, которые шныряют только под покровом ночи.
– Темные феи приходили? – спрашивает матушка.
Повисает долгое молчание.
– Он окоченел, как дерево. Губы посинели.
Матушка кивает, поощряя женщину продолжать, рассказать о пляске темных фей.
– Он выгибался и корчился, – говорит Дубильщик.
– Но его вырвало. Трижды. – Супруга Дубильщика кротко улыбается, словно темных фей можно прогнать рвотой, словно она не слышала крика петуха.
Я подхожу ближе, хотя отец еле сдерживается, чтобы не оттащить меня от терзаемого призраками ребенка.
– Пока он лежит спокойно, надо дать ему отвар, – говорю я.
Матушка поддерживает Щуплика с одной стороны, его мать – с другой, и он прихлебывает отвар, который я подношу к его губам. На востоке еще не начало светлеть, но петух кричит и кричит. По щекам супруги Дубильщика без остановки текут слезы. Дубильщик делает неуверенный шаг и кладет руку на ее спутанные волосы, но она сбрасывает его ладонь. Спина и шея Щуплика выгибаются на лежаке, руки взлетают. Супруга Дубильщика наваливается на мальчика, накрывая его своим телом, словно раковиной. Запястье Щуплика задевает ее по уху, локоть въезжает под ребра, колено бьет по губе, но его мать не сдается.
Пальцы матушки крутят густую прядь моих волос. Она крепко держит меня, свое любимое дитя, тогда как Щуплик вырывается из материнских объятий, громко стонет и хватает ртом воздух. Раз. Другой. Потом обмякает – и краска уходит из его лица. Затем он замирает. Постепенно кожа делается восковой, приобретает голубоватый оттенок, сродни водянистому снятому молоку. Все еще не выпуская моих волос, матушка двумя пальцами другой руки трогает его запястье, говорит:
– Теперь он перешел в Другой мир.
И отпускает меня, хотя я сейчас хочу только одного: чтобы она по-прежнему держала меня, а отец крепко обнял нас обеих. Матушка поднимает руки, собираясь погладить супругу Дубильщика по щеке, но та отшатывается: горе слишком полно, слишком свежо; она еще не осознает, что страдает не одна.
Дубильщик распахивает дверь, чтобы душа Щуплика могла найти дорогу на болота, к Праотцу. Супруга Дубильщика говорит:
– Подожди. – Голос у нее сдавленный, нечеловеческий.
Но Дубильщик все-таки оставляет дверь приоткрытой.
Наконец приходит робкий рассвет, но мгла по-прежнему окутывает прогалилну. Небо набухло дождем, и гром грохочет с такой силой, что плачут дети и земля трясется под ногами. Мы с матерью свободны от работы в поле, и это счастье, ведь мы спали всего несколько часов. Да и какая работа, когда из туч низвергаются потоки воды и с небес сыплются молнии.
Отец уговаривает меня лечь на меховое ложе, которое он устроил у огня, а матушка настаивает, что совсем не устала, и опускается на колени под крестом Матери-Земли. Она трогает землю под тростником, бесконечно повторяя: «Матери-Земли благостыня!» Но взгляд ее следует за отцом, когда он подкладывает на угли щепки, устраивая из них шалашик. Матушка бьет себя кулаком по бедру, тяжело вздыхает. Когда наконец она смыкает глаза, лицо ее искажено болью.
В животе у отца бурчит, и мать снова смотрит в его сторону – достаточно долго, чтобы заметить, что отец наблюдает за ней, недоумевая, почему она так долго стоит под крестом. Отец снимает с крюка висящий над очагом железный котел изящных очертаний – его работа; насыпает ячменя, добавляет пару черпаков воды. Этого мало, выйдет слишком густо. Отец смотрит на меня, но я быстро закрываю глаза, делая вид, что сплю, и он не спрашивает, нужно ли добавить третий черпак. Мне надо бы встать и сварить перловую кашу, как я делаю каждое утро, но я заворожена разыгрывающейся передо мною сценой, в особенности матерью, стоящей на коленях: она молится Матери-Земле, но что-то ей мешает. Я одними губами шепчу ее имя: Набожа – обещание благочестия, добра, искренности во всем. Обычно, когда матушка стоит на коленях, вид у нее спокойный, даже возвышенный. Но не сейчас: этим утром ушел слабый мальчик – и теперь ее дочь заняла его место.
Мощная вспышка молнии на мгновение освещает хижину. От следующего за ней грома шуршат расвешанные на стропилах травы, трясутся мелкие глиняные сосуды, но матушка словно приросла к полу. Отец распахивает дверь, опасаясь, что молния ударила возле прогалины, но затем возвращается к очагу: стало быть, ничего не загорелось.
Я лежу тихо и, слыша скрежет металла по металлу, понимаю, что отец выскребает в миску порцию каши. Супруга Пастуха, каждое утро приносящая овечье молоко, пойдет к Дубильщикам утешать старую подругу, и мы останемся ни с чем. Каша отцу не понравится: воды мало, а молока и вовсе нет.
Ливень усиливается, и плотный, душный воздух делает наступившее утро еще более тягостным. В конце концов матушка сдается. Сквозь ресницы я вижу, как она поднимается с пола, с трудом распрямляет затекшие ноги – как женщина, которая всю жизнь, тридцать один год, проработала в полях у Черного озера.
– Я кашу сварил, – говорит отец и добавляет: – Молока нет.
– Хромуша сходит к Пастуху, когда проснется.
Думаю, матушка надеется, что тихое утро с Лапушкой, тычущейся в меня носом, пока я дою ее сестер, успокоит меня. Челюсти нашей любимой овечки были настолько смещены, что матка отгоняла уродливого ягненка от вымени. С благословения Старого Пастуха и с помощью ведерка молока, которое он давал нам каждый день, мы – Долька, Оспинка и я – пестовали Лапушку: шевелили голову, упрашивая раздвинуть искривленные челюсти, поили молоком с холстинки. К концу Просвета Лапушка отправилась на выпас вместе с остальными ягнятами и, невзирая на неправильный прикус, отлично управлялась с клевером, травой и разнотравьем. Она выросла в овцу, ценимую за то, что часто приносит двойню, и за привязанность, которую до сих пор выказывает нам троим, выходившим ее.
Матушка накладывает себе каши. Отец смотрит, как она подносит ко рту ложку.
– Набожа, – зовет он. Какой у него потерянный голос!
Матушка подходит к нему, опускается рядом на скамью. Шепчет:
– Мне страшно.
– Знаю, – тихо отвечает он. – Мне тоже.
Мне становится легче, пусть даже предполагается, что я не слышу их разговора. Общее бремя – вроде груза дров, разделенного между работниками.
– Везун говорит, по слухам, обычаи друидов запретят и здесь, как в Галлии, – замечает отец.
Эта мысль – что старинные верования будут вырваны из нашей жизни – кажется недостижимой, как небо. Матушка хочет, чтобы я была в безопасности, я знаю, поэтому она кивает в ответ на отцовское замечание – слабый, неуверенный кивок, ибо как нам жить, если не по нашим древним обычаям?
Мне кажется, что родители – да и все соплеменники – двигаются по сужающемуся хребту, круто обрывающемуся с обеих сторон и укрытому толстым слоем облаков, который не позволяет видеть, какая сторона безопаснее, с какой будет мягче падать.
Направиться ли в сторону знакомого склона, где сохраняются наши обычаи и традиции, наши боги, власть друидов – единственный путь, который я знаю в этом мире? Или же предпочесть правление Рима, достаток отца, дороги, вымощенные камнем, и символы, которыми записываются слова? Но некоторые утверждают, что наши завоеватели похищают людей и обращают их в рабство. Я сама видела, как яйца из корзины торговца летели с прилавка на булыжники. Слышала, как разбивали горшки у Охотников, видела, как срывали наши шерстяные занавески. Я знаю про отобранный амулет, про угрозу кинжалом, когда отец потребовал вернуть вещь. Все это наполняет меня страхом, хотя мне известна и давняя история враждующих племен: их жестокость по отношению друг к другу, нанизанные на колья головы, изнасилованные женщины, мужчины, за которых приходилось платить выкуп, разграбленное и уничтоженное имущество.