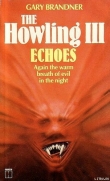Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 27
НАБОЖА
Каждое утро Набожа, раскрывая глаза, глядела в пустоту и лишь затем вспоминала все то, что успела забыть за лишенную снов ночь. Сколько раз она просыпалась в недоумении? Как получалось, что эта огромная пустота в сердце изо дня в день казалась совершенно новой, хотя и вчера, и позавчера была точно такой же? Как выходило, что настоящий момент, ничем не отличающийся от момента минувшего, казался самым первым мигом полного осознания утраты?
Арк явился ей в утреннем свете, и картина была столь же тяжкой, что и накануне: пустые глаза, ошейник, римское копье упирается ему под лопатку, отделяет от процессии плетущихся на юго-восток соплеменников, подталкивает к трапу корабля, который должен увезти его в неведомые дальние края.
Старый Охотник приходил к ней в хижину, говорил, что освобождает ее от уз. «Арк, – сказал он, – отбыл в Другой мир. Или считай что отбыл: либо утонул, либо римляне увели». И в том и в другом случае они его больше не увидят. Набожа закрыла лицо руками, содрогаясь от холода, несмотря на шерстяное одеяло и гору шкур. Дыхание ее стало прерывистым, живот впалым, руки и ноги слабыми – словно плоть съежилась, увяла.
Ей было знакомо это ощущение. «Горе, – думала она, – сродни страху».
Но как ее соплеменникам удавалось продолжать обычную жизнь? Ее матери, потерявшей супруга? Старцу, потерявшему всех? Работнице, у которой не было молока и которая баюкала свое угасающее дитя? Недрёме, видевшей непостижимое: перерезанное горло собственного сына? Проще всего было предположить, что ее горе превосходит их потери. Но разве не ложился Старец со своей супругой двадцать шесть лет подряд? Разве не описывала ее мать тьму, в которую впала, лишившись мужа? А по сравнению с мукой Недрёмы страдание Набожи казалось терпимым. Обычное дело. Боги холодны и бессердечны. А римляне? Они изверги! Злые духи! Сейчас она могла бы убить, могла бы вонзить кинжал, вырезать сердце.
Мать погладила Набожу по голове.
– Я понимаю, – сказала она. – Я правда понимаю, но ты должна встать. – Обхватив дочь, она помогла ей сесть. – У меня оставалась ты, и я должна была о тебе заботиться. Выбора не было. Идем, поешь похлебки у огня.
– Меня тошнит, – сказала Набожа, но это была неправда.
Она осознала свою ошибку, увидев, как засветились глаза матери. Даже теперь у Набожи были крови, как и на каждой новой луне.
Когда Набожа не вернулась, мать, Старый Охотник и Молодой Кузнец пошли к болоту, захватив факелы, и увидели перевернутую бадью, а дальше, на тонком льду, на полпути к полынье, – скорчившееся тело Набожи. Они помедлили, рисуя в воздухе колесо Праотца, прижимая к груди руки – все, кроме матери, которая без колебаний ступила на лед и склонилась над дочерью, прижавшись щекой к ее спине.
Старый Охотник, вытянув руку, преградил путь Молодому Кузнецу:
– Лед слишком тонок.
Молодой Кузнец увернулся, ступил на лед, надышал теплом в щель между щекой Набожи и ледяной коркой и подсунул туда пальцы.
– Оставьте меня, – проговорила Набожа сквозь рыдания. – Оставьте меня для Другого мира. – Она знала, что эти слова происходят из жалости к самой себе: у нее ведь была возможность ступить в черный омут. С трудом поднявшись на ноги при помощи Молодого Кузнеца, она выдавила, всхлипывая: – Проклятые римляне, они его увели…
Холодное сердце Старого Охотника осталось глухо к рыданиям крестьянки; к тому же поблизости могли шнырять римляне. Набежавшие облака закрыли луну, и, когда Набожа не смогла сразу найти тот участок со взрытым гвоздями снегом, он буркнул:
– Не надо было ему удить тут, на таком тонком льду. Как бы и с нами такой беды не вышло.
– Тебе нужно к огню и горячего похлебать, – сказал Молодой Кузнец, крепче обнимая дрожащую Набожу. – Я вернусь сюда утром.
Но поутру снег растаял, а с ним пропали и следы римлян, и, возможно, след работника, поглощенного студеными водами Черного озера.
Матери не удалось стащить Набожу с лежака, и несчастная девушка мучилась, уговаривая себя встать, но не откидывала одеял и не ела похлебки у огня. Встала же она из-за того, что в хижину пришла охваченная ужасом Хмара, которую вел за руку Песельник. Хмара, бывшая на сносях, шагнула вперед.
– На заре у меня воды отошли, но… – Она указала на твердый купол живота.
– Хмара твоя подруга, – с нажимом сказал Набоже Песельник. – Ты целительница и должна помочь ей.
В другое время Набожа сочла бы благословением богов появление Хмары именно в тот момент, когда было необходимо покинуть лежак. Но на льду на нее снизошло просветление: богам безразлично, встанет она или нет.
Набожа держалась, растирая в ступке сушеные листья малины, которые вызовут схватки; держалась, пока Хмара глотала их.
– Возвращайся в хижину, – велела ей Набожа. – Отдыхай. Тебе понадобятся силы. – Она с тоской поглядела на лежак, но отвернулась, налила воды в большой котел и подвесила его над огнем, чтобы потом смыть пот, грязь и вонь, скопившиеся на теле за ту луну, что миновала со дня исчезновения Арка.
Зябь подходила к концу, и Набожа окончательно встала на ноги: готовила отвары и мази, учила детишек собирать щавель и мокричник, ходила за Хмарой, когда у той заболела грудь: разбухла, покраснела и стала горячей на ощупь. Значило ли это, что Набожа окончательно поставила крест на Арке? Несомненно. Прежде она порой давала волю мечтам, представляя счастливый момент, когда он необъяснимым образом вынырнет из редколесья, истощавший, оборванный. Но грезам пришел конец, когда заезжий торговец поведал, что беспощадные римляне ради забавы спускают на рабов диких зверей и радостно вопят при виде разрываемых на куски людей.
К ней в хижину пришел Молодой Кузнец и принес железный пест, так удобно легший в ладонь, что она поняла: он пристально изучал ее руки. В тот вечер девушки болотников собирались есть кабанятину, плясать и получать подарки в канун праздника Очищения.
– Никто не знает, придешь ли ты вечером, – сказал Молодой Кузнец, – вот я и подумал…
Я – Хо-хо, – заметил Старец, когда Молодой Кузнец ушел. – Он по-прежнему без ума от тебя и делает ясными свои намерения.
– Ты все не так понимаешь, – отмахнулась Набожа. – У него просто мало работы.
– Ты должна пойти вечером на праздник, – принялась увещевать мать, жалуясь на больную спину, на то, что силы ее на исходе. – Я думала, будешь мою старость лелеять, а ты… – добавила она и нахмурилась, намекая на шаткое положение крестьянки, у которой никого нет, кроме матери, к тому же вдовицы, восемь лун ходившей без благословения.
– Не могу, – сказала Набожа.
Мать не знала о вечерах, которые дочь проводила на гати, обняв колени и положив на них голову. Она не видела, как вздрагивают и трясутся от рыданий плечи Набожи. Не догадывалась, что каждый день Набожа съедает кусочек крапивного листа, приговаривая: «Сегодня я беру Арка», словно воссоздавая тот вечер, когда он стал ее супругом. Мать не знала, как дочь старательно обходит полку, на которой стоят его любимая миска, чаша, вырезанная им из рога, кожаный ремень, приспособленный им для носки дров. Набожа не открывала плетенку, где он хранил свои крючки, силки и старый башмак, из которого в те счастливые времена мог вырезать полоску кожи, когда требовался новый шнурок. Она спала лицом к краю лежака, как в те времена, когда ей стоило лишь раскрыть глаза, чтобы увидеть его сонное лицо. Она никогда больше не забиралась на Предел, не в силах пройти мимо мшистой поляны или выступа песчаника, где лежала с Арком. И конечно, не выносила вида душистых фиалок. Знакомые вещи ворошили воспоминания, а воспоминания вызывали скорбь, неоглядную, как половодье.
– Молодой Кузнец – взрослый муж, он ждать не станет, – предупредила мать.
Набожа бродила по редколесью, через силу улыбаясь, даже смеясь. Она запретила себе возвращаться на прогалину, пока не ощутит твердой уверенности, что на вечернем пиру сможет держаться непринужденно. Наконец, дойдя до поляны, она увидела полдюжины девушек, собравшихся на праздник у хижины Молодого Кузнеца. Его мать вынесла им лишь небольшой кувшин.
Когда девушки скрылись в хижине, Набожа – уже не девица – осталась на поляне. Были споры о том, следует ли допускать ее на пир. Но, освобожденная от брачных уз, она имела право выбрать нового супруга, и Старый Охотник намекнул на избыток молодых людей на Черном озере. Мысли ее перешли на поле душистых фиалок, которое подарил ей Арк в тот же самый день двумя годами раньше. Она с трудом сдержала слезы, боясь, что они покатятся по ее щекам. Только не сегодня! Не сейчас, когда мать Молодого Кузнеца вышла из хижины и, похоже, направляется в ее сторону. Набожа напряглась.
– Это я не хотела, чтобы ты приходила на праздник, – объявила женщина, положив ладонь на руку Набожи – доброжелательный жест, как подумал бы любой при виде этой сцены, однако посыл был совершенно недвусмысленный: скорее небо обрушится на землю, чем ее сын возьмет в супруги Набожу.
Когда мать Молодого Кузнеца отошла от нее, Набожу охватило облегчение. Она не сумела бы ни смеяться, ни притворяться веселой. Можно забыть тревоги о том, что однажды руки Молодого Кузнеца лягут на изгибы ее тела, которое прежде принадлежало Арку. Она не сможет лечь с Молодым Кузнецом, закрыв глаза и думая о другом. Она не станет участвовать в этом, не станет капля за каплей высасывать его сердце.
Поздно вечером Молодой Кузнец подошел к ней среди раскатов барабанной дроби Песельника и голосов, укрепившихся от медовухи и пшеничного пива.
– Весело тебе, Набожа?
– Какое рядом со мной веселье.
– Ты хвораешь, что птица с подбитым крылом. – Молодой Кузнец отхлебнул из кружки. – Тебе нужна забота… чтобы тебя кормили и укрывали, пока ты снова не войдешь в силу.
Мысль была заманчивой: она хворая птица, и кто-то ухаживает за ней, пока не срастется крыло.
– Птица может проникнуться добротой того, кто за ней ходит, – добавил Молодой Кузнец.
Она опустила глаза, и он наклонился ближе, настойчиво ловя ее взгляд:
Потом, когда птица выздоровеет, ей не захочется улетать.
– Медовуха придает тебе отваги.
– Есть вещи, Набожа, которые нельзя держать в себе.
В тот момент он был уверенным и храбрым – достаточно храбрым, чтобы восстать против матери, известной своей суровостью. Но что принесет новый день?
– Я знаю, о чем ты думаешь. – Молодой Кузнец заглянул ей прямо в лицо. Я не склонюсь перед ней. Она ведь запрещала мне ковать пест.
В последующие дни Старец передавал Набоже гневные отповеди, которые приносила ему Стряпуха, рассказывал о глиняном кувшине, который мать Молодого Кузнеца в сердцах швырнула об пол. Она вопила, что Набожа бесплодна: восемь месяцев – и все еще нет ребенка! Она шлепала рукой по столу и говорила о Хмаре, о младенце, которого та кормила грудью, в то время как чрево Набожи оставалось порожним, как поля под зябью, а груди – сухими, как полова. Экий ты дурень, Молодой Кузнец, приговаривала она. Попался на красоту крестьянки – но красота увянет. Неужто сын не понимает, как шатко положение их клана? И как насчет старинных порядков, хотелось бы ей знать. Ему отлично известно, что мастер не может взять за себя бесплодную женщину. Кто будет пахать землю и разрабатывать рудники, вострить ножи и ловить рыбу, если молодые люди начнут бросать свое семя в сосуды, слишком хрупкие, чтобы выносить дитя?
– Он говорил, что ты не бесплодна, – добавил Старец. – Он сказал, что в старой шахте получил все доказательства. А ведьма, по словам стряпухи, заорала, что ей плевать на детские причуды.
Набожа стиснула руки, вспомнив шаги на гати, свою уверенность в том, что это их дитя – ее и Арка. Как просто иногда придать значение тому, что совершенно ничего не значит.
Старец сказал:
– Молодой Кузнец послал за друидом. Он заверил ведьму, что друид предскажет тебе ребенка.
Она забеспокоилась: а если друид действительно приедет и ей придется предстать перед ним? Набожа похолодела при мысли, что Молодой Кузнец совсем отчаялся, раз уж отважился на такое: завлечь друида на Черное озеро.
– Друид не приедет. Они попрятались. Все купцы так говорят.
– Молодой Кузнец завернул два серебряных кубка в уплату, – возразил Старец. – И теперь мастеровой уехал на Священный остров с тяжелой сумой.
– Ты думаешь, серебряных кубков будет достаточно для подкупа?
– Их делал еще Старый Кузнец, – ответил Старец. – Тончайшая работа во всем хозяйстве, оба кубка изукрашены каемкой со скачущими оленями. Он наклонился ближе и понизил голос до шепота: – Говорят, что ведьма выхватила один кубок из сумы и пригрозила поколотить Молодого Кузнеца, если тот попытается его отнять.
Набожа притихла, прикусив губу.
ГЛАВА 28
НАБОЖА
Среди ночи деревню разбудил грохот копыт. Метнувшись к дверям, люди увидели друида, в белом одеянии, скрытым под черным плащом с капюшоном. К губам встревоженно взлетели персты – неважно, что за друидом посылал Молодой Кузнец. Последний из них, приезжавший сюда, повалил на жертвенный стол Жаворонка, а тот, что был перед ним, послал семью Кузнеца на погибель от римской стали.
Поздним утром мать Молодого Кузнеца явилась за Набожей. Хотя поляна была испещрена лужами, мать шла на шаг-другой впереди Набожи, ни разу не отклонившись от прямой линии, ведущей к хижине Кузнецов. Набожа пошатывалась, обходя лужи и уклоняясь от брызг, летевших из-под ног женщины.
Переступив порог хижины Кузнецов, Набожа принялась отскребать палочкой грязь, облепившую мокрые башмаки. Сможет ли она предстать перед друидом и не сомлеть от страха? Как ей пережить те минуты, в течение которых он будет оценивать ее, не говоря уже о предстоящем суждении? Если ей будет сказано, что Мать-Земля отступилась от нее, навсегда лишила благословения, если ей придется прожить свои дни без защиты ремесленника… Что ж, это она стерпит. Но никогда не баюкать на груди младенца, никогда не держать за ручку едва научившееся ходить дитя, не обучать ребенка отличать болиголов от кипрея? Она утешалась мыслью о том, что ей безразлично, остаться ли с матерью или перенести в хижину Кузнеца свой кожаный плащ, нарядное клетчатое платье, сшитое из подарка Карги, и грубое шерстяное одяние, которое она носила в полях. Римляне отобрали у нее счастье, оно осталось где-то в далеких странах, закованное в цепи, и никогда не вернется.
– Подойди ближе, девица, – велел друид.
Она подошла к нему, сидевшему на низкой скамье, застеленной толстой овечьей шкурой. Столик перед ним был уставлен блюдами с хлебом, орехами и сыром; на другом столе высилась гора мяса, миски с чечевицей, похлебкой и зеленью. Когда друид поднял серебряный кубок, украшенный по кромке изображением скачущего оленя, Набожа вспомнила угрозы, о которых рассказывал Старец.
Друид неторопливо ел; Набожа стояла, смиренно сложив руки под плащом. Когда она отваживалась поднять взгляд, друид сразу косился на нее, и она отводила глаза. Старец научил ее, как разгадывать характер: если морщины на лбу глубже тех, что лучиками расходятся от глаз, то человек чаще сердится, нежели смеется. Украдкой разглядывая друида, она заметила редкую бороду, скорее серую, чем белую, запавшие щеки, глаза, теряющиеся в складках век, гладкий лоб.
– Ты дрожишь, – сказал друид.
– Да.
Однако он не предложил ей погреться у очага. Набожа не осмелилась оглянуться, когда остальные девять человек из клана Кузнецов собрались у нее за спиной. Она лишь стискивала руки, слыша дыхание, шорох тростника под ногами, шмыганье, хныканье младенцев, угрозу отправить на лежак расшалившихся детишек Она думала о Молодом Кузнеце – таком широкоплечем теперь, таком даровитом. Вспоминала песчаник и ореол света. Вспоминала о том, как он стоял возле нее на коленях в старой шахте, обводя пальцем круг с тремя вырезанными в стене фигурками. – Набожа – имя нешуточное. – Друид слегка наклонился к ней. – Ты его заслужила?
– Я не без упрека.
Он снова выпрямился на лавке, сложил руки на груди и распорядился убрать со стола. Когда его приказ был исполнен, он подозвал Набожу еще ближе.
– Вопрос о твоем бесчадии, – объявил он, скользнув взглядом по впадине между ее бедер. – Мне сказали, что ты вступила в союз восемь месяцев назад, но до сих пор лишена благословения.
– В прошлую Зябь я хворала.
За спиной у нее откашлялись, затем мать Молодого Кузнеца подала голос:
– Мать-Земля пуще девичьей немощи.
Друид отвел взгляд от Набожи, и на лбу у него появились морщины, выдающие недовольство.
– Мать-Земля всесильна, – сказала Набожа еле слышным шепотом. Тронула губы и устланный тростником пол.
– Заслуженное имя, – заметил друид, поглаживая бороду. – А меня зовут Правдой, ибо это то, что я говорю.
В каждой ладони у него покоился бронзовый предмет, похожий на ложку, но с укороченной ручкой. В черпале одной из них была проделана дыра. В пробитой ложице, объяснил друид, будет содержаться вопрос, с которым он обратится к богам. У Набожи подогнулись колени, словно ослабли жилы, соединяющие кости, и, чтобы не упасть, она схватилась за деревянную подпорку.
Из-за спины послышался раздраженный вздох: мать Молодого Кузнеца выражала недовольство. Набожа отпустила подпорку.
Вторая ложица была разделена на четыре части выбитым на ней крестом.
– А эта даст ответ, – пояснил Правда, воздевая гравированную ложицу.
Взяв Набожу за руку он вытащил маленький нож. Не успела она осознать его намерения, как он рассек подушечку ее Мизинца и подставил крошечную бронзовую чашку, ловя в нее струйку крови. Потом палец замотали холщовой тряпицей и завязали холстинку узлом.
Жрец взглянул на нее из-под складок век, под которыми прятались глаза. Ей показалось, что в них мелькнуло веселье.
Друид перевернул дырявую ложку и положил на гравированную: казалось, сомкнулись две половинки раковины. Он протянул Набоже тонкую соломинку:
– Всоси каплю крови.
Движимая желанием исполнить его волю, она перестаралась и ощутила во рту вкус железа.
– Теперь, – сказал Правда, – сунь соломинку в отверстие, – он указал на дырку в перевернутой ложице, – и дунь.
Легонько дунув – теперь она не переусердствовала, – Набожа вытолкнула кровь через дырочку в пустоту между ложками.
Друид разъединил их и принялся изучать рисунок, оставленный брызгами крови, а Набожа в этот бесконечный момент стояла не дыша, временно выпав из этого мира, не подозревая о знаменательном повороте своей судьбы.
Наконец Друид постучал пальцем по ободку гравированной ложицы. Черпало обозначало год; квадраты – времена года. Квадрат, орошенный кровью – такой оказался только один, – представлял время Роста.
Правда поднял ладонь, в которой держал ложки, и вытянул ее так, чтобы зрители за спиной Набожи могли увидеть знак.
– Ее дитя, – взгляд жреца скользнул мимо Набожи, и, обернувшись, она увидела, что эти слова предназначены матери Молодого Кузнеца, – появится на свет во время Роста.
И он опустил ложки.
ГЛАВА 29
ХРОМУША
Отец весь день проводит в кузне. Когда к вечеру он возвращается, я вижу, что родители не забыли о попытке матушки заговорить об Арке; весь вечер они сторонятся друг друга и у огня сидят молча. Матушка с чрезмерной услужливостью предлагает наполнить кружку, принести шестяную накидку и далеко обходит очаг, если отец раздувает огонь или ворошит угли. И все это время у меня мечутся мысли: Лис вернется, и я – калека, предсказавшая провал восстания и резню друидов, – окажусь перед ним на коленях. Отец, римский прихвостень, падет на колени рядом со мной: теперь он тоже враг. И что нас ждет? Чем все это закончится?
Наконец мы расходимся по спальным нишам. Я прислушиваюсь к дыханию родителей и гадаю, удастся ли мне заснуть. Ведь я все еще размышляю, как поступит друид с калекой, чьи предсказания его не устраивают, и с предателем-кузнецом.
В конце концов я останавливаюсь на успокаивающей картине: Лис на берегу Священного острова, с воздетыми руками, с перерезанным горлом, – и засыпаю.
Во второй вечер отсутствия Лиса, когда отец лежит на спине, я слышу, как матушка шепчет ему слова, которых я не могу разобрать. Шерстяное одеяло начинает волноваться, дыхание обоих делается глубже. Я слышу нежное, влажное слияние губ, языков. Стало быть, полезное занятие – любовь, когда нужно вымолить прощение за скорбь о потерянном супруге, который кормил мать беличьим мясом, но не дал ей ребенка.
К рассвету я смягчаюсь и начинаю сомневаться, что вчерашняя близость родителей была лишь актом раскаяния. Я почти готова поверить, что матушка, которой отец дает пищу и кров и которую любит всем сердцем, наконец-то прониклась благородством его души. Она сказала об Арке: «Я начала забывать его». И мне кажется, что мать не осталась глухой к отцовским чарам, что Арк, по сути дела, ускользал от нее, когда отец согревал ее ночную рубаху у очага, когда он нежно касался губами ее кожи, когда приносил в поля кувшин холодной воды, когда терпеливо ждал ее любви.
Эта мысль не отпускает меня до вечера, она словно луч света в день дурных предчувствий, в день, когда смотришь на юго-запад и напрягаешь слух, ловя глухой стук копыт. Я продолжаю наблюдение, когда иду от родника с коромыслом на плечах, на каждом конце которого висит по бадье. Мои глаза обшаривают прогалину, и я вдруг вздрагиваю.
– Везун? – шепотом говорю я.
На дальнем конце поляны он слезает с коня, треплет его по шее, озирается, не зная, найдет ли отца в обнесенной стенами кузне. Зачем он здесь? Даже на лошади путь до нас из Городища занимает полдня. Я спускаю с плеч коромысло, ставлю на землю бадьи и бегу к Везуну, по пути сделав крюк, чтобы стукнуть в дверь кузни. Выходит отец и быстрее молнии мчится за мной.
Мужчины обнимаются, улыбаются, обнимаются еще раз. Везун ерошит мне волосы. Затем отец разводит руками.
– Зачем? – спрашивает он. – Зачем ты здесь?
Везун коротко кивает на появляющихся из хижин сородичей. Они таращатся, указывают на нас, затем начинают подтягиваться к редкой птице, залетевшей на Черное озеро.
– У нас очень мало времени, – выдыхает Везун сквозь сжатые губы. – У меня дело с солеваром тут неподалеку, и я подумал, дай загляну к вам. Вчера ко мне приходил друид. Друид по имени Лис.
Лицо у отца вытягивается.
Везун через силу улыбается, хлопает его по плечу.
– Знаешь, что я ответил, когда он спросил, кого я знаю на Черном озере? – продолжает Везун. – Я говорю: «Черное озеро? Кажется, слыхал о таком местечке, на востоке, под Лондинием».
А друид как пошел светильники швырять, горшки крушить! «Ой, погоди-ка, – говорю. – Перепутал с Черным Лесом». – Лицо его делается серьезным, и он сжимает плечо отца. Я упирался как мог, Кузнец. Я тебя не выдал. Но этот друид вцепился, что клещ. Отвязался от меня, только когда на рынке заголосили. И эта страшная новость спасла нас обоих.
– На какое-то время, – говорит отец, качая головой. – А что за новость?
Но Везун не отвечает, поскольку деревенские подошли совсем близко, и матушка с ними. Они оглядывают гостя с головы до ног. Сородич без ручной тележки торговца? Богатый настолько, чтобы иметь собственную лошадь?
– Меня зовут Надёжа, – не раздумывая заявляет Везун. – Я пришел с новостью из Бревенчатого Моста.
– Отдохни сперва. – Отец берет лошадь под уздцы. – Идем.
– День короток. – Везун не смеет задерживаться в деревне, знакомство с которой отрицал. И неизвестно, где шныряет Лис. С торжественным выражением на лице торговец подходит к ожидающей толпе: – Говорят, десять тысяч римских воинов явились на Священный остров. Еще говорят, что все друиды, бывшие там, полегли от римских мечей.
Стало быть, видение стало явью. Но хотя родители, Вторуша, а еще, вероятно, Долька и Оспинка не сомневаются в моем даре, да я и сама не сомневаюсь в нем, тревога переполняет меня, и я жмусь поближе к отцу.
Сородичи, пошатываясь от ужаса, прижимают ко лбу запястья, призывают Покровителя. Ладони их перемещаются на грудь: «Благословен будь Праотец! – бормочут они. – Благословенно будь племя его!»
Как и я, матушка знала, что будет бойня, и все же она медленно качает головой и шепчет:
– Нет…
Постепенно селяне начинают успокаиваться. Один за другим взгляды останавливаются на мне, цепляются за меня. Во встревоженных глазах мелькает понимание. Я сужу по тому, как Охотник кивает и поглаживает подбородок, наверняка вспоминая один из примеров моего бесспорного провидчества, когда на поляну вышел олень сразу после того, как я посоветовала Охотнику держать копье наготове. Я вижу, что мою правоту осознал и Пастух. Он шепчет что-то старшему сыну – видимо, напоминает о других свидетельствах, например о заявлении матушки, что я провидица, в тот самый день, когда приехал Лис. Дубильщик и его супруга обмениваются тем особенным взглядом, свойственным супругам, которым в голову пришла одна и та же мысль, и я могу угадать эту мысль: новость о резне есть неопровержимое доказательство моей способности предвидеть. Хмара прижимает ладонь к сердцу. Она знает, что я видела поверженных сородичей, Долька и Оспинка рассказали ей о видении, предрекающем неизбежный конец для всякого соплеменника, втянутого в мятеж. Мгновение я прикидываю, кто еще, кроме Хмары, ее дочерей и Вторуши, знает о предсказании. И тут Плотник швыряет оземь зубило, которое сжимал в кулаке.
Хромуша – провидица, – говорит он и, обращаясь к Везуну, поясняет: – Ты принес бесспорное доказательство ее правоты. Лис и его безумный мятеж… Ему надо было прислушиваться к каждому ее слову.
– Лис знал, что она видела, – замечает Хмара.
– Но выбрал то, во что ему хотелось верить, – подхватывает Вторуша.
– Может, он и не вернется, – говорит Хмара. – Может, его зарубили. – Она глядит на меня, ее брови подняты в немом вопросе: был ли там Лис, в том видении резни?
Я мотаю головой: видение не открыло мне ничего о Лисе. Когда пришла новость, он был не на Священном острове, а донимал Везуна в Городище. После такого откровения только что признанной пророчицы никто уже не надеется, что мы отделались от Лиса.
– Нужно оповестить Вождя о том, что видела Хромуша, – говорит Плотник. – Он должен знать: восстание закончится несчастьем.
– Даже Вождь не осмелится перечить друиду, возражает Охотник.
– Он может объединиться с другими вождями, – отвечает Плотник и поворачивается к Везуну:
– У тебя есть лошадь. Городище прямо за Бревенчатым Мостом. Постарайся уговорить Вождя не медля приехать на Черное озеро. – Он обводит рукой собравшуюся толпу: – Все мы можем поручиться за Хромушу. Все мы знаем, что она предсказала море крови на Священном острове.
Везун вытягивает руку:
– Погодите, вы хотите сказать… – Его пальцы тянутся к моему плечу, но на полпути замирают. – Вы хотите сказать, что Хромуша предсказала гибель друидов? И что она предвидит поражение наших мятежников?
Плотник, стоящий в окружении сородичей, кивает.
– Это точно?
– Точно, как путеводная звезда, – уверяет Плотник.
Везун глядит на моего отца. Бели тот не подтвердит, я останусь девчонкой-ворожеей из медвежьего угла, с узким кругом почитателей и узким кругом доверия.
– Кузнец? – произносит Везун. – Хромуша провидица? Это правда?
Крошечные волоски у меня на затылке встают дыбом.
Отец еле заметно кивает.