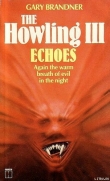Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Кэти Мари Бьюкенен
Дети черного озера
Маме, с любовью и благодарностью
Cathy Marie Buchanan
DAUGHTER OF BLACK LAKE
Когда-нибудь приеду в Орхус[1]1
Второй по величине город Дании, расположенный на востоке полуострова Ютландия. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]Взглянуть на его голову цвета бурого торфа.
На мягкие стручки век,
Островерхую кожаную шапку.
В плоской стране, возле того места,
Где откопали его
С последней кашей из озимых зерен,
Спекшейся в желудке,
Нагого, если не считать
Шапки, удавки и пояса.
Я буду долго стоять там.
ГЛАВА 1
ХРОМУША
Меня зовут Хромуша. Мы с отцом и матерью происходим из племени болотников, осевших на торфянистой почве прогалины у Черного озера[3]3
Древнее торфяное болото; в настоящее время природный заповедник, расположенный в лесу Деламер, графство Чешир, Великобритания.
[Закрыть]. Тихое, укромное место, далеко к северо-западу от земель, целиком захваченных и покоренных завоевателями. Семнадцать лет минуло с тех пор, как наш огромный остров попал под власть римлян и сделался Британией – новейшей провинцией Римской империи. А мы продолжаем жить, как жили всегда: во время сева разбрасываем в полях пшеницу, в жатву машем косами и горбимся под тяжестью собранных снопов. Мой отец давно твердит, что большие перемены не за горами. «Они наступают, – говорит он об отрядах солдат, пробирающихся по Британии все дальше на запад. – Они принесут сюда свои римские порядки», – и приветственным жестом раскрывает ладони. Матушка поджимает губы, теребит складки шерстяной юбки. А я? Один спокойный год сменяется другим, и я начинаю думать, что отцовские пророчества, причиняющие такую боль матери. – не более чем скрытое желание уставшего ждать человека.
А потом, три дня назад, я вдруг вижу их. Римляне и в самом деле не за горами, они прямо у нашего порога.
Видению, как всегда, предшествует вспышка белого света.
К видениям мне не привыкать. В одном из самых ранних, явившемся еще до того, как меня отняли от груди, я наблюдала собственное рождение. Я видела завитки белесых кудряшек, которые однажды упадут волной светлых локонов до пояса; голубые глаза, что так и останутся удивленными, будто первые фиалки, пробившиеся сквозь оттаявшую землю. Я смотрела, как матушка поглаживает мои крошечные мочки, подушечки пальцев на ногах, осторожно переворачивает меня в руках. Тогда-то она и обнаружила отметину у меня на пояснице, над крестцом: красновато-пурпурное пятнышко, похожее на каплю бузинной краски, пролитой из кувшина и расплывшейся в виде полумесяца. Отец, в это время перерезавший ножом слизистые облочки и жилы пуповины, ничего не заметил. Матушка была измотана родами, но собралась с силами и прижала меня к груди, прикрыв рукой полумесяц. Что же делать с пятнышком, прячущимся под ее пульсирующим запястьем?
Она прижала пальцы к губам, затем с глубочайшим молитвенным трепетом разворошила тростниковую подстилку возле тюфяка и задержала руку на земляном полу чуть дольше, чем принято при почитании Матери-Земли – богини, благословляющей оставленное во чреве семя, как благословляет она семя, брошенное в землю.
Матушка ни словом не обмолвилась об отметине, но я всегда знала, что нужно прикрывать поясницу даже от отца. Я умею хранить тайну, которой владеем только мы с матерью. На каждом плече у меня всегда по две пряжки, скрепляющие платье, хотя хватило бы и одной. Мы не говорим о моем рождении, и все же я могу описать глубокую синеву вен, паутиной оплетающих материнскую грудь, легкую дрожь отцовской руки, сжимающей нож, но прежде всего – каким быстрым движением матушка скрыла отметину от глаз супруга. Детали этой сцены вспыхивают у меня перед глазами, яркие, как блеск отточенного лезвия: точно так же, как в том видении о римлянах у Черного озера.
Третьего дня, когда мы с матушкой собирали щавель, чтобы сдобрить вечернюю похлебку, рот мой наполнился металлическим привкусом. Я застыла на месте и насторожилась в преддверии видения, которое, как я знала, скоро последует. Металлический привкус усиливался, и я ждала вспышки света, белого, как солнце. На мгновение ослепив меня, она тут же исчезла, и перед глазами появилась прогалина у Черного озера: редкий чернотал, неподалеку – толстые ветви ясеня, так низко склонившиеся к земле, что деревенская ребятня не в силах устоять перед соблазном вскарабкаться на дерево.
Я насчитала восемь фигур, въезжающих на прогалину. Они казались скорее механизмами, нежели людьми: туловища и плечи покрыты металлическими пластинами, на головах – бронзовые шлемы с нащечниками. У каждого на правом бедре висит меч, на левом – кинжал, в руках зажаты копья различной длины. Все они верхом, бок о бок, – напряженные, мускулистые тела, готовые к нападению. И тут меня выкинуло обратно, в славный денек, к яркой зелени щавеля.
– Римляне! – потрясенно выдохнула я. – На Черном озере!
Лицо у матери вытянулось.
– Матушка? – позвала я, ожидая утешения, которое она умела сплетать даже из самых хрупких нитей.
Пальцы матери разжались, и пучок щавеля упал к ее ногам.
ГЛАВА 2
ХРОМУША
Мне тринадцать лет: всего лишь нескольких лун недостает до материнских четырнадцати, когда она взяла себе первого супруга. В эти годы девочка начинает с любопытством наблюдать за родителями: за их отношениями, их счастьем. Я вижу, что отец не отводит взгляда от супруги, когда она толчет в ступке сушеный медвяный корень, приготовляя снадобье от головной боли. Замечаю, как вздымается и опадает его грудь, когда он смотрит на нее; вижу нежность в его взоре, нерешительность, с которой он тянется к матушке, словно она может увернуться от его рук. Я замечаю и ее неуверенность, мгновенное замешательство перед объятием, словно ей требуется время, чтобы просчитать, чем обернется такая близость. Я вижу, как матушка смущенно прячет глаза, словно влюбленная девчонка, а не супруга, которая делит с ним ложе и стол последние пятнадцать лет.
Однако порой, незаметно для других, но не для меня, матушка все-таки смотрит на отца – Кузнец, так его прозывают, – и во взгляде ее я вижу страсть. Однажды она, прижав ладонь к щеке, сказала: «Лучшего мужа на свете не сыщешь».
Я стараюсь по кусочкам собрать историю родителей, обнаружить то препятствие, что не позволяет матери приблизиться к отцу. Спрашиваю, когда она впервые догадалась о его любви. Матушкино лицо становится девчоночьим, морщинки разглаживаются, и она мысленно уходит в прошлое.
– Он выковал для меня серебряный амулет. Такой, что смотришь на него и диву даешься: уж не боги ли тут руку приложили.
– А где этот амулет?
– Пропал.
– Как пропал?
– Уж ты наверняка слыхала эту историю, – говорит она и, отвернувшись, тянется к стропилам за пучком медвяного корня.
Эту историю знает вся деревня: много лет назад мать бросила амулет в омут Черного озера, принеся его в дар Матери-Земле. Таков наш обычай почитания богов, а эту богиню матушка всегда чтила особо. В деревне мать прозвали Набожей и частенько говорили, кивая друг другу, до чего же пристало ей это имя. В конце концов, она их целительница – жена, искушенная в извлечении чудодейственной силы из корней Матери-Земли, ее листьев и цветков.
В другой раз я с бьющимся сердцем спрашиваю:
– Ты любила Арка?
Расширив глаза и прикусив нижнюю губу, матушка глядит на меня, одновременно удивленная и напуганная вопросом о первом супруге. Конечно, я знаю о ее предыдущем замужестве и о многом другом. Сплетни на Черном озере плодятся что твой гнус.
– Выброси все это из головы. – говорит она, и вдруг оказывается, что ей срочно нужно принести дров из сложенной за дверью поленницы.
Но я хочу разузнать об Арке, который был ее избранником до моего отца, и потому обращаюсь к Старцу: он пережил свою супругу и семерых сыновей, но сейчас его, как на грех, мучают бати в коленях. Он спит сидя, прислонившись затылком к стене.
Я похлопываю его по костлявому плечу – он резко раскрывает мутные глаза, растерянно моргает.
– Хромуша! – наконец говорит он, радуясь моему появлению.
– Вот твое снадобье. – Я передаю Старцу маленький глиняный сосуд с мазью из лапчатки: такой же мазью мой отец натирает плечо, немеющее из-за тяжелой кувалды.
Мы толкуем о погоде – на улице теплынь – и о том, что скоро пора сеять пшеницу и хорошо бы тепло продержалось до конца сева. А потом я закидываю удочку:
– Расскажи, какой он был, тот, кого матушка любила до отца.
И Старец рассказывает. Арк осиротел в восемь лет: его отец перешел в Другой мир после того, как его укусила бешеная собака. Мать Арка бранилась и потрясала кулаком, обвиняя богов в том, что они отреклись от ее супруга, а наутро ее нашли на лежаке – застывшую и синюю. Потом Арк жил в крохотной лачуге у Черного озера: сперва со стариком Звездочеем, отшельником, который дни напролет бродил по окрестностям, а теплые и ясные ночи проводил растянувшись на земле под звездами. Мальчиком Арк таскался за ним, изучал олений след или ласточкино гнездо, на которые старик указывал концом посоха. Однажды, почувствовав приближение конца, Звездочей ушел, видимо желая испустить последний вздох без посторонних глаз, – и Арк остался один.
Я расспрашиваю и других. Настаиваю. Докапываюсь. Возвращаюсь к матери, выуживаю из нее очередную крупицу сведений – трюк удается лучше, когда руки у нас обеих заняты обрыванием листьев со стеблей или процеживанием травяного настоя.
Еще я жду, когда мне откроются мысли отца, ибо порой в этом мире, исполненном чудес, они внезапно возникают у меня в голове и помогают дополнить картину. Правда, приходят они беспорядочно, без всякой связи, помогающей разобраться в них. Отцовские мысли проникают ко мне в разум не как поток слов, а скорее как сценка, мгновенное впечатление.
Однажды он вышел из кузни, и я впервые поняла, что он не произносил вслух слов, появившихся у меня в голове. Отец едва закрыл за собой дверь, а я уже знала: он думает о том, согласится ли соплеменник по имени Дубильщик отдать кусок оленьей кожи за новенький мездряк[4]4
Нож для выделки шкур.
[Закрыть], обрадуется ли матушка подарку и не стыдится ли носить на плече такую убогую суму.
– Ей все равно, что сума драная, – сказала я. Порой матушка показывала мне какую-нибудь заплатку и объясняла: «Из старой отцовой куртки» или «Из твоих первых башмачков».
Отец пристально взглянул на меня: в голове у него витала неопределенность, смутный зуд, который, похоже, лучше было не расчесывать. Если не обращать внимания на покалывание и пощипывание, он пройдет сам собой.
С тех пор я научилась действовать с осторожностью, не отвечать на невысказанные отцовы мысли. Любой намек на то, что мне известны его тайные думы, мог оказаться столь же нежеланным, как хрущаки в муке.
Сегодня матушка то и дело всматривается в даль. Опустив мотыгу, она глядит на юго-восток. Я вижу, как сжимается, затем расслабляется ее горло, но, сколько бы она ни сглатывала слюну, это не избавляет ее от горького привкуса страха. Матушка запретила мне ходить в лес, даже за душистой фиалкой для снадобья, что помогает заснуть. («А как же Недрёма?» – спросила я, отлично зная сочувствие матери к женщине, которая без отвара не сомкнет глаз всю ночь. Не отрывая взгляда от горизонта, матушка покачала головой.)
Когда я, усталая, притаскиваюсь из полей, отец оставляет работу в кузне; взгляд его сосредотачивается на моей хромой ноге, и он прижимает руку к сердцу – такую боль причиняет ему мой изъян. Как и мое положение крестьянки. Сколь низко пал клан Кузнецов со времен его юности! Теперь остались лишь мы трое: отец, матушка и я. Кроме родителей, моему появлению на свет могла порадоваться только одна родственница – мать моей матери. Да и той уже нет: ее сгубил жестокий кашель вскоре после того, как я сделала первые шаги.
Хотя отец работает один, кузня большая, шагов двадцать в длину, и достаточно просторная, чтобы вместить десяток мастеров. Когда отец был молод, здесь трудились, перекрикивая грохот и лязг железа, его отец, братья – родные и двоюродные – и дядья. Куда сильнее нас с матушкой отца печалят стоящие без дела наковальни, наша затрапезная одежда, пустые горшки, в которых нет ни копченой оленины, ни соленой свинины, и полки, с которых исчезла богатая утварь – ее годами выменивали на железные бруски, позволяющие ему работать, и на твердый сыр, сохраняющий жизнь семье в неурожайные годы.
Кузня находится примерно в середине прогалины. С одной стороны ее обступают девять круглых хижин, где обитают сто сорок два жителя Черного озера: мужчины, женщины, дети. Кузня с ее невысокими стенами похожа скорее на крытый шалаш, чем на дом. Отцу так нравится. Стены не запирают внутри чудовищный жар горна, и можно обмениваться приветствиями с деревенскими, живущими своей жизнью, и, что особенно важно, поглядывать на нас с матушкой, когда мы заняты делом.
Отец окликает меня:
– Тяжелый денек выдался?
– Сносный. – Я расправляю усталые плечи.
Раскаленное железо шипит, когда отец окунает его в кадку с холодной водой. Он развязывает тесемки кожаной безрукавки и выходит из кузни.
Я подхожу к нему и прижимаюсь к его руке, и отец ерошит мне волосы.
Будь я сыном ремесленника – кузнеца в нашем случае, – я бы унаследовала отцовское дело Но, будучи девочкой, я разделяю положение матери, которое делает меня крестьянкой, обитательницей болота, рожденной для сева и жатвы. Матушка, наша целительница, уходит с полей уже с полудня, чтобы приготовить снадобья, содержащие всю деревню в добром здравии. Мы надеемся, что однажды это послабление распространится и на меня. Однако пока я еще не считаюсь ученицей знахарки, и мне приходится от зари и дотемна орудовать тяпкой, разбивая комья слежавшейся земли.
Несмотря на тяжкий день в полях, после работы мы с отцом ежедневно ходим к болоту, где я пробегаю отрезок гати – грубого деревянного настила, перекинутого по топкой земле через мелкую заводь Черного озера. Матушка говорит, что эти уроки бега, как она их называет, начались сразу же после того, как я встала на ноги. Она уже объяснила отцу природу моего несовершенства: бедренная кость одной ноги не полностью входит во впадину, отчего я всегда буду хромать. Так и вижу, как он плакал тогда, опустив голову на руки. Кто полюбит его дитя? Что станется с колченогой работницей? Из-за хромоты я сделалась порченой. Полагаю, что, несмотря на катящиеся по щекам слезы, в тот миг отец твердо решил: я буду учиться бегать.
Скорость у меня постоянно растет, и теперь каждый год во время игрищ, устраиваемых на праздник урожая, я бегаю наперегонки с остальной молодежью и показываю всему селению свою выносливость. Мне случалось видеть воробья, вытолкнувшего из гнезда только что вылупившегося птенчика с кривым крылышком; овцу, отгоняющую слабого последыша от истекающего молоком вымени. Помню кабанчика с кривым копытом и ягненка с расщепленным нёбом – обоих зарезали на жертвенном камне; каждому божеству по уродцу, как требует традиция. И я знаю, насколько важно никогда не показывать свою слабость.
– Пойдем, – говорю я.
Он выпутывает пальцы из моих волос.
– На болоте так спокойно, – с преувеличенной веселостью говорю я. – Люблю туман и как тина пахнет. Мне нравится, что там темнеет раньше всего.
С минуту он раздумывает, затем согласно кивает: да, так и есть. Вечерами на болоте обычно темнее, чем на открытой прогалине.
– Какая ты приметливая, – говорит он. – Всегда такой была.
Я беру его за руку, и мы идем по прогалине, оставив позади кузню и обмазанные глиной деревянные стены скучившихся хижин с соломенными крышами. В лесу я крепче хватаюсь за ладонь отца, второй рукой вцепляюсь ему в запястье. Он замедляет шаг, и мы останавливаемся.
– Ты как?
– Да ничего, – говорю я. – Немножко не по себе, вот и все.
– Римляне? – Он хмурит брови. – Матушка рассказала мне, что ты видела.
Матушка не раскрывает ему наш секрет про полумесяц на пояснице, но о моих видениях говорит с отцом открыто, и он был свидетелем их правдивости. Матка, что отбилась от стада, вернулась с порванным ухом, лисица ощенилась в кузне, – я предсказала и то, и другое.
– За новым ветром жди новой погоды, – говорит он.
«Или бури», – думаю я, но предпочитаю промолчать.
– Племена на юго-востоке разбогатели на торговле с римлянами, – продолжает отец.
Я знаю эту историю и знаю, что о ней думает отец. Он уже говорил об этом.
С незапамятных времен юго-восточные племена Британии обменивали соль, пшеницу, дерево, скот, серебро и свинец на предметы роскоши, привозимые из далеких римских земель. Да, соглашается отец, римляне в конце концов не захотели довольствоваться участью простых торговцев и явились с обнаженными мечами. Но племена, продолжает он, почти не сопротивлялись. Почему? Да потому, что понимали тщетность борьбы с римлянами. А еще они видели преимущество развитой торговли.
С нарочитой беспечностью я замечаю:
– Слышно, что все больше и больше римлян оседают на юго-востоке. Матушка говорит, мы собьемся с истинного пути. Говорит, нельзя забывать о том, что римляне – наши завоеватели.
До сих пор мы были избавлены от их посягательств: Черное озеро находится на дальней оконечности острова. Но я видела напор и мощь тех, кто вторгся в наши земли, – людей в броне, с непреклонными лицами, напряженными руками, мощными ногами, сверкающими клинками.
Отец смотрит на меня, замечает, как дрожат у меня губы.
– Знаю, – говорит он. – Знаю.
Я прижимаюсь к нему и лишь тогда осознаю всю силу охватившего меня страха. Крепкие отцовские руки обнимают меня; сердце бьется ровно, как барабан.
Я видела, как он напрягается, готовый к любой неожиданности, когда на Черном озере появляется чужак: торговец с тележкой товара, или бродяга, клянчащий объедки. Однажды отец с уханьем и улюлюканьем перескочил через низкую стену кузни и замахнулся кувалдой, когда из зарослей на краю поляны в нескольких шагах от меня вышел, фыркая и роя землю, дикий кабан.
Отец прижимает меня к себе, укрывает в мощных руках, и сердце мое успокаивается, бьется в унисон с его сердцем. Римляне не тронут горячо любимую дочь, пока ее отец бдит в кузне.
ГЛАВА 3
ХРОМУША
Облако пыли появляется за полями, сперва такое маленькое, что мне приходится щуриться, вглядываясь поверх свежевспаханной земли. Я поднимаюсь с колен. Мы с матушкой и остальными работницами провели утро в поле близ деревни, засевая черную почву пшеницей. Облако вздувается, в центре появляется черная крапинка – конь, летящий бешеным галопом. У меня слабеют колени: вот-вот появятся остальные семь лошадей, сверкающие доспехи и мечи! Вскоре конь и всадник становятся различимы: это не римлянин, а друид в белоснежном одеянии, бьющемся у него за спиной, словно раскинутые крылья. Что-то тут не так.
Друиды, наши верховные жрецы, приходят на Черное озеро благословлять праздничные пиры и совершать наисвященнейшие обряды – жертвоприношения, которыми мы надеемся задобрить богов. Друиды служат для нас законодателями и судьями, посланниками, несущими людям повеления богов. Именно друиды в давние времена взбаламутили народ на сопротивление римским вторженцам. И отец уверяет, что римляне не забыли, какой властью обладают жрецы, как хорошо умеют подстрекать, а то и напрямую принуждать к восстанию против захватчиков. Поэтому друиды всегда появляются только под покровом ночи. А этот несется среди бела дня – в жизни не видывала такой беспечности!
Когда я была маленькой, воздетые руки друида внушали мне успокоение и надежду. Но постепенно я стала замечать, что взрослые говорят о жрецах приглушенным шепотом и поскорее прикладывают пальцы к губам, а потом к земле. «Ты боишься друидов?» – спросила я однажды у матери. И сейчас помню ее ответ. Даже помню, как она сплела пальцы лежавших на коленях рук, – она до сих пор так делает, обдумывая свои слова. Матушка рассказала, как во времена ее юности случился неурожайный год, когда пшеница сопрела в полях. Я кивнула, поскольку уже знала про дождь, гнилую пшеницу и голодавших соплеменников. Старая история, которую в деревне рассказывают с торжественным выражением лица, а затем прикасаются к губам и к земле.
Помню, матушка тогда взяла меня за руку и сказала: «И тогда, Хромуша, друид потребовал принести жертву». Жертвоприношениями мы возвращали себе милость Матери-Земли. Во время нашествия моли отдали на заклание дюжину несушек. В другой раз, в засуху, – пару куропаток. Такие подношения – домашняя птица, а иногда даже овцематки – были для нас обычным делом для обеспечения доброго урожая.
Но дальше мои воспоминания начинают расплываться. Порой мне кажется, что голос у матушки сделался хриплым, будто слова царапали ей горло, и она сказала: «Он велел зарезать слепого мальчика».
Порой я вспоминаю, как спросила: «Порченого?», и матушка, сжав мне ладонь обеими руками, беззвучно прошептала: «Да».
Но иногда мне не верится, что такой разговор вообще был.
Я представляла, как слепого мальчика затаскивают на каменный алтарь; представляла руки, державшие его, когда ему перерезали горло, когда кровь покидала его тело. Столько раз воображаемая картина в конце концов превратилась в незыблемое воспоминание. Совпадало ли оно с рассказом матери об умерщвлении порченого? Обычно я склонна думать, что тут память меня подводит. Мать больше не заговаривала о том случае, и ни один житель деревни, вспоминая мрачные последствия погибшего урожая, даже не заикался, что тогда, помимо обычных несушек или овцы, боги получили кое-что еще. И если во времена матушкиной юности на Черном озере действительно жил слепой мальчик, странно, что болотники о нем никогда не упоминали. Уму непостижимо.
Друид мчится к нам средь бела дня, не пряча своего развевающегося одеяния. Я высматриваю отца и вижу, что он уже вышел из кузни. Его окружают притихшие соплеменники. Кроены[5]5
Ручной ткацкий станок.
[Закрыть] перестают ткать холсты, жернова – перемалывать зерно. Пальцы замирают над штопкой, на тетиве лука. Рассматривая издалека деревенских, теперь стекающихся к середине прогалины, я замечаю Щуплика: он висит в перевязи на спине своего отца.
Щуплик родился четырьмя годами позже меня, он пятый сын Дубильщика, главы клана дубильщиков, выделывающих кожи на Черном озере. Лоб новорожденного был вдвое больше обычного, а из поясницы выпирала мягкая, будто сало, шишка. Такой лоб означал давление изнутри черепа, головную боль. Из дома Дубильщика посылали за моей матерью, и она оставила для новорожденного ивовый чай – сосать с тряпицы.
Я вспоминаю, как матушка потом вернулась с опущенной головой, как объясняла отцу, что с искривленным хребтом ничего поделать нельзя. Встрепенулось ли отцовское сердце, когда до него дошел смысл слов, почувствовал ли он проблеск облегчения? Счел ли везением, что теперь я не хуже всех на Черном озере?
Щуплик пошел только в четыре года, но и тогда отличался от обычных малышей, у которых два нетвердых шажка сегодня, шесть – завтра. Он мог сделать от силы дюжину шагов, после чего валился на землю. Теперь большую часть времени он проводит на спине отца или сидит, привалившись к стене, охая и держась за больную голову, которой ивовый чай, сколько его ни пей, не в силах помочь.
Зачем же явился друид? Недавно скончался старейшина Плотников (этот клан на Черном озере почитают за добротные колеса): рухнул, даже не успев выпустить из рук ремень, с помощью которого таскал бревна. Но мы и без друида знали, как действовать, и уже несколько дней назад отнесли тело на Поляну Костей – туда, где гниет плоть, а черви и стервятники дочиста обгладывают скелет. Может быть, друид всего лишь хочет положить жертвенные хлебы в поля, когда те будут полностью засеяны? Но тогда к чему такая спешка, если мы управились пока только с половиной работы? И с чего бы ему скакать днем?
Матушка заслоняет меня от друида, который уже совсем близко, но я выглядываю из-за ее худощавого тела, напряженно высматривая, не мчатся ли за жрецом по пятам восемь вооруженных римских всадников.
На полном галопе друид огибает поле. Когда он минует меня, я замечаю изборожденный морщинами лоб и глубоко ввалившиеся щеки: лицо, исхудавшее, надо полагать, от неустанных трудов и бдений.
Он не старый, – замечает Долька, моя неразлучная подружка; она родилась, когда луна на небе была тонким ломтиком. – Друиды должны быть старыми.
– Обычно они такими и бывают, милая. Тихо. – Мать Дольки Хмара трогает губы, землю.
– У него короткая борода, – вторит Дольке младшая сестра Оспинка: кожа вокруг рта у нее изрыта отметинками.
– И она не белая, – добавляет Крот; глаза у него, когда он щурится, что-нибудь разглядывая, становятся узенькими щелочками.
Ни волосы, ни борода друида, аккуратно подстриженные, еще не потеряли рыжевато-каштанового цвета. Он сидит на коне прямо, не горбясь. Работницы, пошептавшись, приходят к согласию, что этот друид еще не появлялся на Черном озере и, судя по лицу, поблажки от него не жди, и что молодость его предполагает безрассудство и нетерпение.
– Не нравится он мне, – говорит Старец.
Долька дергает мать за рукав и тянет в сторону прогалины:
– Пойдем узнаем, чего ему надо.
Дети работниц начинают канючить:
– Лошадка! Хочу лошадку посмотреть.
– А вдруг он нас благословит?
– А вдруг уедет!
– Так нечестно – не пускать нас!
Работницы пытаются утихомирить малышей, прижимают к себе, разделяя мой страх, и несколько мгновений я упиваюсь этим утешением.
Зачем он приехал? – спрашивает Долька.
– Чтобы положить хлебы, – отвечает Хмара; ее слабая улыбка убедительна не больше ранней оттепели. – Вот зачем.
– Эти ваши римляне… – бормочет матушка так, чтобы я услышала, и подносит пальцы к губам.
Лошадь друида останавливается в шаге от моего отца и тех, кто собрался в центре прогалины. Когда друид спешивается, все мы – в полях и на прогалине – прикладываем пальцы к губам, к земле. Преклоняем одно колено. Наконец Охотник, первый человек на Черном озере, встает, чтобы обратиться к друиду. Он глава деревни, у него нет выбора. Некоторое время эту обязанность выполнял мой отец, пока клан Охотников не возвысился над Кузнецами. Хотя утрата положения все еще саднит, как открытая рана, сегодня я не ощущаю ни намека на сожаление. Охотник и друид переговариваются; первый склоняет голову. Как я ни стараюсь, не слышу ничего, кроме резких вскриков куропатки, мечущейся в клетке перед дверью круглой хижины Охотника.
Друид жестом подзывает нас, коленопреклоненных в поле, рубит рукой воздух раз, другой: мы не сразу решаемся подняться со вспаханной земли.
Старец первым делает шаг в направлении прогалины, за ним следуют Долька и Оспинка. Долька еле удерживается, чтобы не кинуться вперед, затем оглядывается в ожидании разрешения, но мать хватает ее за плечо, возвращая в толпу работниц. Мы с матушкой медлим, откладывая момент, когда хромота выдаст во мне порченую. Я ищу храбрости в соображении, что друид уже видел уродца, привязанного к спине Дубильщика, но обретаю ее в более благородной мысли: скоро я покажу жрецу, как умею бегать.
Подойдя к отцу, мы с матушкой опускаемся на колени по обеим сторонам от него. Он кладет руку мне на плечо, другой рукой обнимает мать, и она не отшатывается, а, напротив, приникает к нему.
– Мое имя Лис, – говорит друид.
Я пытаюсь не думать о лисьей смекалке, о пресловутой лисьей хитрости. Поднимаю глаза к рыжевато-каштановой бороде жреца: кустистая, и впрямь лисий хвост.
Лис прохаживается меж селян, кончики пальцев прикасаются к плечам, затылкам. Приближается к нашей семье. Я перестаю дышать, когда он садится на корточки и двумя пальцами приподнимает мне подбородок, так что мы смотрим глаза в глаза.
– Порченая, – говорит он.
Я невольно кошусь на Щуплика в ничтожной попытке перенести внимание друида на истинного калеку Черного озера. Но пальцы Лиса сжимают мне подбородок, и я даже не могу отвернуться. Затем матушка трогает друида за рукав, поднимает голову. Грациозная, белокожая, с правильными чертами лица, она прекрасна какой-то неземной красотой – но сейчас кажется хрупкой, как вздох, робкой, как росинка.
– Провидица, – говорит матушка и вновь опускает голову. На шее у нее медленно взбухают и опадают, тяжко бьются жилки.
Лис раздраженно фыркает:
– И что же видит порченая?
– Римлян, – отвечает отец. Голос у него тихий, но в нем чувствуется сила.
Родители рискуют, переводя меня из порченых в провидицы, из бесполезных в ценные – в понимании друида.
В глазах Лиса пробуждается интерес. Он наклоняется так близко, что я чувствую его влажное дыхание:
– Римлян?
Я моргаю и медленно, едва заметно киваю.
Лошадь роет землю, и пальцы Лиса отпускают мой подбородок. Он похлопывает скакуна по крупу, гладит ложбинку на шее. Оборачивается к собравшейся толпе.
– Встаньте, – повелевает он.
Люди выпрямляются, отряхивают пыль с колен. Отец поднимает меня с земли и крепко прижимает к себе. Тут Охотник, выступив вперед, трогает Лиса за рукав.
– Пойдем, – говорит он. – Пойдем, ты поешь и отдохнешь у нас. – Будучи первым человеком, он обязан обеспечить друиду отдых после долгой дороги в седле.
– Ты, – говорит Лис Охотнику, – присмотришь, чтобы моего коня накормили и напоили. – Потом поворачивается ко мне: – Как мне называть тебя?
– Хромуша, – выдыхаю я с трепетом. Девушка, что хромает при ходьбе.
Друид кивает отцу:
Твоя юница?
– Да.
– Тогда я пока поживу у тебя и твоей прозорливицы.
Матушка останавливает руку, потянувшуюся к губам, возвращается на свою сторону. Отец медленно, сдержанно кивает. Охотник берет лошадь под узцы, и я замечаю, как вытянулось у него лицо: он недоволен, что Лис предпочел ему отца – ему, первому человеку Черного озера.
– Набожа, Хромуша, идемте, – зовет отец, и толпа расступается, пропуская нашу маленькую семью.