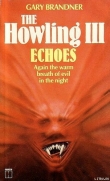Текст книги "Дети черного озера"
Автор книги: Кэти Бьюкенен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА 24
НАБОЖА
Набожа отложила в сторону круглую веялку. По дороге к отхожему месту она все еще горячо надеялась, что ошибается. Но затем, присев над смердящим выгребом, провела рукой между ног и увидела кровь на кончиках пальцев – свидетельство того, что Мать-Земля не благословила ее младенцем.
Шесть лун назад они с Арком вступили в союз, и до сих пор с приходом новой луны она чувствовала, как набухает грудь, ощущала тяжесть в животе. Прошлой ночью она проснулась от знакомого чувства. Вместо того чтобы сонно перевернуться на другой бок, она раскрыла глаза. Словно лезвие спелый плод, ее оцепенение пронзила мгновенная уверенность: завтра придут крови.
Когда пшеница налилась золотом, вместе с другими работницами Набожа взялась за серп, вязала срезанные стебли в снопы и таскала с полей вьюки. Уже двенадцатый день они разбирали сжатые снопы, колотили тяжкими цепами налитые колосья, а затем топтали побитые остатки, пока не высвобождалось зерно. И только нынче утром наконец приступили к более легкой работе: насыпали пшеницу в обтянутое кожей веяло и встряхивали, подбрасывая зерно в воздух. Труд этот был в охотку: приятно следить, как ветер уносит полову и зерно, падающее в веяло, становится чище. Обычно за работой они пели. Но в этот урожай, когда она вернулась с выгреба, радость не пришла, и Набожа не подхватила песню, встряхивая веялку.
Миновало три луны с тех пор, как в полях к ней подошла Хмара и взяла ее руки в свои. Для болотников жест этот не был необычным. Но его трудно было ждать от такой кроткой женщины, как Хмара, хотя она и стала немного увереннее с тех пор, как взяла в супруги Песельника. Набожа смотрела на влажную кожу подруги, ее блестящие волосы, округлившиеся лицо и грудь. Хмара отпустила Набожу, провела руками по юбке, по чреву, в котором наливалось благословенное дитя.
В тот день, когда начали веять зерно, Набожа ожидала потока лукавых замечаний насчет усталости, когда зевала, понимающих взглядов, когда на заре не сразу поднимется с лежака, вздернутой брови, когда брала второй ломоть хлеба. Плоть, истаявшая во время прошлой Зяби, по большей части вернулась, и Набожа уже привыкла к тому, что за похвалой ее цветущему виду следовало выжидательное молчание: оно означало вопрос о состоянии ее чрева. Снизошло ли на нее благословение? Мать помалкивала, однако Набожа замечала, как та поджимала губы, когда при стирке попадались окровавленные тряпки. И еще был Арк, которому не требовалось ничего спрашивать, который знал, что она скажет ему сразу же, как только уверится, и который с такой нежностью целовал ее в затылок в те ночи, когда она кровила.
Набожа начала с отвара из крапивы и красного клевера, затем взялась за настойку, когда потребовалось лекарство посильнее. Она клала под лежак крапивный стебель, привязывала на пояс, ближе к лону, мешочек с крапивным семенем. Она искала возможности испить из кружки Хмары, чтобы втянуть в себя частицу ее плодовитости.
Испросить первого яйца, отложенного несушкой, означало унизиться, но у супруги Молодого Плотника, что ходила за птицей, было доброе сердце. Она сама вручила яйцо Набоже. Отпала необходимость дрожащим голосом объяснять, что ей нужно проглотить желток и размазать по животу белок, чтобы плодовитость несушки пробудила ее чрево.
Еще до того, как Набожа собралась с духом попросить яйцо, супруга Молодого Плотника сама пришла к ней на луг у полей, где Набожа в одиночестве обрывала головки красного клевера.
– Два года я ждала благословения, – сказала супруга Молодого Плотника. В одной руке она держала яйцо, другой теребила складки платья. – Карга дала мне красного клевера, и я клала крапиву под лежак, и все равно приходили крови. Я не лукавила, жертвуя треть выводка, – но выбирала петушков, а не несушек. Выводок-то я укрепляла, но Мать-Землю обманывала. И благословения не было, пока я не пожертвовала ей трех моих лучших наседок. Тщательнее рассчитывай жертвенную долю, Набожа. – Супруга Молодого Плотника вложила в руку Набожи яйцо и загнула ее пальцы вокруг него.
От этой доброты у Набожи запершило в горле. Опустив голову, она подумала: нет у меня никаких наседок.
Разделавшись наконец с вывейкой пшеницы, ячменя и овса, Набожа и Арк улучили минутку, чтобы полежать на плоском камне, глядя в небо. Суровые ветра Зяби обдували их руки и щеки, проникали под плащи, и Набожа теснее прильнула к Арку. Лежать без дела было нелегко, ибо последние несколько лун она собирала орехи, готовила притирки из сального корня и лопуха, но о деле думала мало; в мыслях она восхваляла, молила, давала обещания: «Мать-Земля, ты щедра и великодушна. Дитя, только одно дитя! Я буду работать лучше, буду класть больше в жертвенный сосуд, я превзойду даже Каргу в умении извлекать твою чудотворную силу, в служении сородичам».
Но теперь нужно было лежать смирно на этом плоском камне, чувствовать, как вздымается и опускается грудь Арка, слышать, как выходит дыхание из его ноздрей, ощущать его запах – запах дыма, пота и земляной дух сухого мха, которым он обихаживал себя.
– Ты не здесь, – сказал он уже не в первый раз. – Ты уплываешь.
В другой раз она бы подняла голову, чтобы поймать его взгляд, заметить, как Арк на секунду нахмурился, прежде чем вернуться к своему занятию – свежеванию лисицы, складыванию поленницы под стрехой.
Она почувствовала на своих волосах его дыхание, затем губы и крепче обняла Арка, чтобы показать, что никуда не уплыла.
– Набожа? – произнес он так тихо, словно упала капля дождя. – Что тебя мучает, Набожа?
Должна ли она притвориться, что не знает странного недуга, беспокоящего ее в последние луны; набравшего силу, когда Хмара поделилась своей новостью; сгустившегося, когда крапива и красный клевер оказались бессильны; поднявшего голову, когда супруга Молодого Плотника наставляла ее тщательнее рассчитывать жертвенную долю. Она думала, как это часто бывало, о том дне, когда прильнула к Арку на гати, уловив в тумане шаги их ребенка.
– То дитя, которое мы слышали: я думала, это наше будущее, – сказала она. – А теперь уже и не знаю. Может, это и было наше единственное дитя?
– Это был добрый знак.
После длительного молчания она сказала:
– Хмаре скоро рожать, а ведь мы вступили в союз сразу после них с Песельником.
– Только восемь месяцев назад, года не прошло. Ты сама сказала, что супруга Молодого Плотника два года ходила без благословения.
– У нее были несушки для жертвы Матери-Земле.
Арк не ответил, и в его молчании она услышала неуверенность. У него не было ни несушек, ни иного добра. Определенно ничего, равного по ценности серебряному амулету.
– Посмотрим, что мне удастся поймать на Черном озере, – сказал он. – Мы принесем жертву.
Набожа ощущала проблеск надежды, кладя под лежак стебель крапивы, глотая желток первого яйца, вываливая щедрую порцию дикой моркови и лисьего мяса в жертвенный сосуд, но каждый раз эта искра угасала, меркла, когда приходили крови. Ей не хотелось полагаться на рыбу, выловленную Арком, на огонек надежды, солнечным лучом мерцающий сквозь занавес листвы, – но она не смогла устоять.
– Да, пусть будет рыба, – сказала она.
ГЛАВА 25
НАБОЖА
Арк сидел у огня, обстругивая длинную прямую палку и прилаживая к одному концу шнурок с железным крючком. Старец расхаживал по хижине, повторяя, как разумно со стороны Арка отправиться на озеро сейчас, в начале Зяби: бывшие мальки выросли, заматерели, заленились в холодной воде.
– Когда вернешься, – напутствовал он Арка, – плечи твои будут гнуться под тяжестью ноши.
Набожа готовила отвар для Недрёмы, благодаря которому та могла спать, а не бродить всю ночь. Кроша сухие цветки душистой фиалки, Набожа представила себе корзинку, набитую окунями.
– Это верно, – сказала она.
Арк перестал строгать и взглянул на нее.
– От тяжкой ноши. – Набожа улыбнулась.
Старец похлопал Арка по спине и продолжил обход очага; двигался он обычно с трудом, но тут даже начал слегка подскакивать.
Когда готовая уда была прислонена к стене, а отвар из душистой фиалки отставлен в сторонку набирать силу, Набожа с Арком тесно обнялись под мехами и шерстяным покрывалом. Она потерлась носом о его нос.
– Ты поймаешь дюжину рыбин.
Он тронул губами ее губы.
– Поймаю. – Дыхание его было горячим.
– У них будут такие жирные брюшки.
Она притянула его руку к своей груди, сосок болезненно напрягся. Арк гладил, целовал, тянул ее к себе. Она приняла его в свое расслабившееся тело и качалась на волнах, покуда оба не выбились из сил и не затихли в ворохе мехов и покрывал.
На заре Арк разводил огонь, а Набожа готовила ячменную кашу и отвар из корней одуванчика. Отделила не слишком щедрую треть, полагавшуюся Матери-Земле, и не возражала против привычки Арка поглядывать на нее, занятую делом. Она готовила для него обед – твердый сыр и хлеб, а когда заворачивала припасы, руки подошедшего со спины Арка скользнули по ее талии. Прикрыв глаза, она откинула голову ему на плечо. Отвернувшись от хлеба и сыра, обняла его за шею и лукаво улыбнулась:
– В этом году у нас будет славная, покойная Зябь.
Порыв ледяного воздуха ворвался в дом, когда Арк шагнул за порог. Сохраняя для Набожи тепло, он быстро закрыл дверь и потому не увидел ее руки, взлетевшей в прощальном привете.
Она допила отвар, подбросила в огонь полено. Ей предстоял длинный день, состоящий из непривычной, блаженной пустоты. Преисполненная сил, Набожа сняла плащ с гвоздя у двери. Сегодня она разберет сосуды, коренья и листья, оставшиеся в хижине Карги.
Когда солнце спустилось ниже и свет, падающий из дверей, померк, Набожа подтащила поближе к огню последний набитый сосудами короб. Она тяжело уселась, чувствуя, как затекли руки, которые она слишком долго держала на весу. Арк может появиться на прогалине в любую минуту, и Старец сообщит ему, где ее найти. Они наскоро перекусят хлебом, медом и орехами и отправятся в Священную рощу.
Из сосудов, которые она подносила к носу, веяло ароматами дикого хмеля и чистяка. Она уже выбрала место, в котором они схоронят рыбу: в восточном конце Священной рощи, под особо плодоносной рябиной. Это даже усилит чары. Высыпав на ладонь горстку красновато-бурого порошка, она задумалась, что, собственно, ей известно о том, как усилить могущество жертвоприношения. Путем умерщвления жертвы различными способами можно задобрить не одного, а нескольких богов. Она тронула пальцем горстку порошка на ладони, поняла по цвету, что это змеиный корень, и стряхнула назад в сосуд. Должен ли Покровитель получить свой удар по голове жертвы, Повелитель войны – свое удушение, а Праотец – утопление? Каждую рыбину сперва нужно будет оглушить камнем, затем зацепить за жабры вьюнком и стянуть посильнее, но вот возвращать ее в озеро, где она только что плавала, вряд ли имеет смысл. Хотя не Покровитель, не Повелитель войны и не Праотец должны благословить ее чрево, а Мать-Земля, которой потребна лишь пролитая из рыбы кровь. Набожа тряхнула головой, смела с юбки труху. Слишком долго она просидела в этом чаду, в затхлом воздухе. Поднявшись, она задула огонь и торопливо покинула хижину.
Тонкая белая пелена только что накрыла прогалину. Снег еще лежал нетронутым, и Набожа, подхватив подол, помедлила, обводя взглядом мир, сделавшийся таким чистым: без тлена, без тьмы. Арка не было на прогалине; лишь Молодой Кузнец, оторвавшись от наковальни, мельком глянул на нее и вновь отвел глаза, однако передумал и кивнул Набоже. Вернувшись к работе, он с видимым усилием, до горла захлестнувшим ее волной нежности, ударил молотом по узкой полосе раскаленного железа. Она хотела узнать, не видал ли он Арка. На прогалине больше никого не было, и она могла бы спросить его, как спросила бы любого деревенского. И все же она сказала лишь:
Вот и Зябь пришла.
– Мне холод нипочем, у меня тут жаровня с угольями.
Молодой Кузнец утерся рукой с зажатыми в ней щипцами, оставив на лбу полоску сажи. Набожа провела пальцем себе по лбу, сообщая об этом, но Молодой Кузнец только смотрел на нее. Тогда она показала на его лоб, но он все еще не понимал. Набожа перегнулась через низкую стену кузни и большим пальцем стерла полоску.
– О… – сказал он и покраснел.
– Сажа.
– Теперь всё?
– Да, всё.
Она отправилась искать Арка, но его не было у колоды, где рубили дрова. Ничьих ног не виднелось из-под плетня вокруг отхожего места.
Не нашлось Арка и в хижине, а бадьи, в которых они держали воду, по-прежнему были полны до краев.
– Небось, рыба сама ему на крючок лезет, – сказал Старец. – Пока солнце совсем не сядет, он не явится.
И Набожа до вечера занимала себя работой: смолола муку для завтрашних хлебов, спустилась в погреб за кругом сыра. Сойдя по глиняным ступеням, она отогнула плотный кожаный занавес. Дрожа от влажного холода, дождалась, когда глаза привыкнут к темноте, затем вытащила головку с тремя дырками, означавшими, что сыр принадлежит их семейству.
Когда она вышла из погреба, Арка на прогалине по-прежнему не было, и она решила, что, возможно, слишком задержалась внизу и он уже прошел в дом. Набожа вернулась в тепло и шум хижины: к вопящим детям, бранящимся и поучающим матерям, Старцу, прочищающему нос, к матери, встретившей ее словами: «О, как хорошо, ты сходила в погреб!» Набожа решила сначала досчитать до десяти и только потом взглянуть на то место у двери, где должна стоять бадья Арка, когда он вернется с болота. В хижине пахло дымом, шкурами, шерстью, давно не мытым телом. Запаха рыбы она не уловила. Набожа долго и глубоко принюхивалась, но ничего не изменилось: конечно, ведь у двери не было нагруженной рыбой бадьи.
Набожа повернулась и вновь направилась через прогалину. Уже наступила ночь. Не взять ли факел, подумала она, но тропа была ей хорошо знакома, а под безоблачным небом блестел снег.
Луна была почти полной, да и объяснять домашним, для чего понадобился факел, и лишний раз тревожить их ей не хотелось.
Рыба обнаружилась там, на берегу озера: бадья, полная окуней с широкими, доходящими до брюха темными полосами, с красными плавниками и безжизненными, немигающими глазами. Внизу озеро было оторочено белым – кайма льда тянулась на несколько шагов от берега и затем сливалась с более узкой полоской, где белизна теряла яркость и постепенно серела. У середины озера лед обрывался перистым краем, за которым чернела открытая вода. Взгляд Набожи метнулся по ковру свежего снега и остановился там, где мягкие белые очертания резко сменялись потревоженной палой листвой и утоптанной землей. Она подошла ближе, тронула след, который, как она знала, принадлежал Арку: гладкий отпечаток стопы, плотно обтянутой кожей башмака. Пальцы переместились к другому отпечатку – одному из несметного множества таких же. Она не сразу определила, что это за изрытое мелкими впадинами углубление. Затем ладони ее метнулись ко рту. Набожа крепко зажмурилась, раскрыла глаза, но гладкие Арковы следы по-прежнему были на месте, среди беспорядка других, изрытых широкими шляпками гвоздей, которыми, по рассказам Охотника, были подбиты подошвы римских сандалий. Пошатываясь, она встала и метнулась прочь от места, где, судя по всему, Арк сопротивлялся римлянам, прежде чем его – что? Заковали в кандалы? Увезли доживать дни на строительстве дороги, которая, по слухам, тянулась с юго-востока через всю Британию?
Силой доставили на корабль, который заберет его в дальнюю страну, на невольничий рынок, откуда он никогда не вернется? Она пнула бадью – и еще до того, как та перевернулась, Набожа знала, что в ней одиннадцать хватающих ртом воздух, трепещущих окуней, ибо она сказала: «Ты наловишь дюжину рыбин» – и Арк слишком задержался, охотясь за последней.
Она ступила дальше, на лед вокруг полыньи: сперва робко, затем смелее, потому что знала: боги не разверзнут лед под ней. Они не позволят ей утолить боль в Другом мире. Но это не страшно: она перехитрит их, ступив в черноту за льдом. Кожаный плащ, шерстяное платье, башмаки – все пропитается водой и потянет вниз. Она не станет биться, колотить руками и пытаться выбраться на лед, но позволит озеру сомкнуть над ней зияющую пасть, поглотить ее, доставить в водные глубины.
Но тут ночной воздух сотрясся от смутного, глухого удара – это на противоположном берегу прогнулся и треснул лед. Набожа застыла, не в силах ступить ни шагу. Побежденная, она рухнула на лед и застыла, рыдая и всхлипывая: «Арк, мой любимый, жизнь моя…»
Она не замечала, как ее окутывает холод, как щека примерзает ко льду, залитому ее слезами, слюной, влагой из носа.
ГЛАВА 26
ХРОМУША
Выйдя из хижины, где матушка жила в детстве, я вижу, что у нашей двери стоит не кто иной, как Охотник, и незаметно пячусь назад. Он не приходил уже много лун, и я не видела его с тех пор, как вернулась из Городища. Я отмечаю его позу – грудь выпячена, как у разгоряченного быка, – затем пробираюсь задами к своей хижине, прокрадываюсь вдоль стены и оттуда беспрепятственно наблюдаю за ним, стоящим у двери вполоборота ко мне.
– Я думал, мы можем потолковать, – говорит он.
Из-за двери до меня доносится голос отца:
– Ну, я слушаю.
Теперь больше, чем когда-либо, я люблю ходить в хижину матушки – там можно пересидеть те вечера, когда поблизости рыщет Лис. Никто не умеет развлечь лучше, чем Старец. Он рассказывает истории: про дары Арка – раков и беличье мясо, спасшие матушке жизнь в самую ужасную из всех Зябей; про обещание достать столько яиц, чтобы ребра матушки перестали выпирать. Старец интересуется моей табличкой, смотрит, как я процарапываю в воске «ХРОМШ» – пять знаков, которые Везун показал моему отцу в Городище.
Старец повторяет за мной, когда я произношу: «Хэ-рэ-о-мэ-ше», и указывает на знак, соответствующий каждому звуку. Наконец он морщится, сгибает и разгибает ногу, ожидая вопроса о его больном колене. Только что я пообещала Старцу: «Сейчас принесу тебе еще мази из лапчатки. Слетаю как на крыльях».
Охотник вскидывает голову.
– Твои колышки, – говорит он. – Я видел такие же в Городище.
Отец полностью показывается из-за двери и прикрывает ее за собой. Я вжимаюсь в изогнутую стену.
– Это римские, – говорит Охотник.
– Я слыхал твою похвальбу, – отвечает отец. – И помню того кабана, что ты сменял на кувшин, ударив по рукам с римлянином.
– После того, как пришел Лис, никаких сделок не было. Лис говорит, это измена.
Отец складывает на груди руки, и я понимаю, насколько Охотник цепляется за прежние времена на Черном озере, времена до римлян, когда он был первым человеком, а моя семья прозябала в унижении, когда на руке матушки еще не было браслета.
– Лис может узнать, – говорит Охотник. – Про твои колышки.
– От тебя?
Охотник пожимает плечами, мнется, словно собираясь уходить.
Отец хватает его за рубаху:
– Кабанятина и оленина, которую ты обмениваешь в Городище: думаешь, ни один кусочек не найдет дороги в Вироконий?
Охотник тяжело дышит.
Отец наседает:
– Значит, нельзя поставлять колышки, которыми римляне крепят свои палатки? Нельзя кормить римлян? Я должен посоветовать Лису запретить всем нам совершать мену в Городище?
Охотник поспешно отводит глаза:
– Я только хотел сказать, чтобы ты был осторожен.
– Конечно.
Отец отпускает его; Охотник делает несколько шагов в сторону, затем еще несколько. Отойдя на безопасное расстояние, снова выпячивает грудь и сплевывает:
– Не говори, что я не предупреждал.
Когда он поворачивается, отец вытирает ладони о штаны, словно вымазал их в грязи.
Как же я ненавижу Охотника! С каким удовольствием я лишила бы его отвара из корня одуванчиков, благодаря которому его не в меру румяное лицо не лопается от крови. Он знает, какую опасность для меня несет Лис. Не может не знать. Он знает, какая беда случится, если ярость Лиса выльется на моего отца, и тем не менее стоит у нашего порога, угрожая этой самой яростью! Может, он настолько жаждет вернуть былое положение, что готов на все, лишь бы навредить отцу?
Отец смотрит на прогалину, глубоко и ровно дышит. Он обучил меня этому приему, когда я была еще маленькой. Тогда на прогалину, хрюкая и роя землю, забрел вепрь, и я до смерти перепугалась. «Я знаю, как справиться со страхом», – сказал отец.
Я подскакиваю на лежаке: видение – море крови – вернулось. Такое знакомое «здесь и сейчас». Сердце отчаянно колотится в груди. По рукам и ногам разливается усталость, горло пересохло – видимо, я только что билась и кричала.
В видении берег этого жуткого моря кишел друидами в белых одеждах; одни жрецы были согбенные, изувеченные старостью, другие воздевали руки и обращали лица к небесам, выкрикивая заклинания. Между друидами сновали одетые в черное женщины, завывая, размахивая головнями, припадая к краю платья своих повелителей. На побережье люди в сверкающей броне извергались из плоскодонных судов и, укрывшись за стеной из щитов, слаженным маршем продвигались в глубь острова. Друиды со слезящимися глазами, стеная, даже не пытались задержать сталь, вонзающуюся им в грудь. Безбородые ученики бросали отчаянные взгляды на своих наставников, ожидая сигнала к сопротивлению, но его не было. Прислужницы разбегались, вопя и рыдая, когда их сбивали с ног и опрокидывали на спину, чтобы они успели пережить ужас от занесенного над ними кинжала. Хлестала кровь, заливала плоские камни, впитывалась в плотно утоптанный песок, собиралась в ручьи, устремляющиеся к морю.
Я чувствую, как матушка покачивает меня, гладит по волосам, приговаривает: «Очнись, доченька. Очнись». Отец сидит рядом на корточках, положив руку на мою искалеченную ногу, укрытую шерстяным одеялом; в другой руке у него лучина. Я зажимаю рог ладонями, потом говорю;
– Теперь люди со щитами были в лодках. Друиды ждали на берегу, они подняли руки к небу и молились богам. Они не сопротивлялись. Их всех порубили. Всех до единого.
Родители оборачиваются ко входу в мою спальную нишу, и я обнаруживаю, что мы не одни: Плотник, Пастух и Дубильщик прикасаются к губам, тянутся к тростнику под ногами. Охотник стоит, скрестив руки на груди. Лис отходит от мастеров в полумрак, освещаемый теплым сиянием лучины. Мой ночной кошмар отвлек людей от вечерней рацеи у нашего очага.
– Сколько их? – спрашивает Лис.
Теперь, полностью проснувшись, я колеблюсь. Стоит ли подтверждать перед всеми этими людьми слухи о своем пророческом даре?
Пока вспахивались и засевались поля, ни Долька, ни другие ни словом не обмолвились о змеиных костях или поверженных сородичах, и я решила, что известие о ложном предсказании не вышло за пределы Долькиной семьи. Но после того как поля вовсю зазеленели, я узнала от Вторуши, что ошибалась.
Когда он подошел, я сидела на скамейке у двери хижины, луща горох. Он уселся рядом со мной и сказал:
– Твой отец однажды потерял всех родных из-за того, что друид подбил их на поход. И все же он вместе со всеми поднимает кружку, когда Лис выкрикивает свои любимые призывы: «Праведная месть!», «Свобода!» или «Римляне слишком уж распустили руки!». Я, знаешь ли, наблюдал за ним, за твоим отцом, и он не выказывает рвения больше положенного. Он, конечно, может сидеть по левую руку от Лиса и ковать для него кинжалы, но восстания не поддерживает. Это точно.
Я зажмуриваюсь, прислоняюсь затылком к глинобитной стене.
– Послушай, – продолжает Вторуша так ласково, что я знаю: он не собирается огорчать меня. – Лис уже обвинял в трусости любого, кто не хочет присоединиться к его восстанию. И потом, он пообещает наказать всякого, кто останется возделывать пшеницу, которая всем нам нужна, чтобы выжить. Твой отец – наша самая большая надежда.
Я раскрываю глаза, выпрямляюсь:
– Но что он может сделать?
– Постарайся вразумить Лиса. – Он поворачивается на скамье, смотрит мне в лицо: – Это правда, что я слышал? Ты предвидишь поражение?
И тут слова начинают хлестать из меня, как ручей из высокой расщелины: переполенная долина, стена из щитов, ломящиеся вперед люди в сверкающих доспехах, насмешливый рот Лиса и прищуренные, исполненные ярости глаза.
– Вот почему Лапушку принесли в жертву: я сказала ему то, чего он не хотел слышать.
Вторуша встает, прохаживается вдоль скамьи, возвращается.
– Он одержимый, этот Лис, – говорит он, снова плюхаясь рядом со мной. – Он не умеет рассуждать разумно. И не способен представить, что кто-то может быть не согласен с ним. – Вторуша кладет руку мне на колени: – Если кто спросит про то предсказание, говори, что все придумала.
Расскажи мне, говорит Лис, присаживаясь на корточки у моего лежака.
– Море сделалось красным.
– Море?
– Море вокруг Священного острова[11]11
В 61 году Гай Светоний Паулин, римский правитель Британии, провел карательную операцию на острове Англси, сопровождающуюся уничтожением священных мест друидов.
[Закрыть]. Откуда-то я знаю.
– Опиши лодки.
Видения посещают меня давно, и я привыкла думать, что их насылает благожелательная рука: в них мне открываются места, где лежат красивые камешки; лощина, где вскоре можно будет собирать сморчки. И разве я плохо распорядилась видением сарая Везуна и его набитых товарами складов? Но, возможно, это слабый довод, если отцу постоянно приходится выгребать римские колышки из корыта с водой и прятать их между очагом и стеной. Теперь мне кажется, что видения направляет не только добрая, но и злая рука.
Я вспоминаю Лапушку на каменном алтаре, ее застывшие желтые глаза, навсегда потускневшие, потому что я описала предвидение, которое не устраивало друида.
– Лодки сплетены из ивы, – отвечаю я, вспоминая единственный виденный мною коракл[12]12
Небольшая традиционная уэльская лодка.
[Закрыть]. Она вмещает одного человека и построена из гнутых ивовых прутьев, покрытых шкурами и промазанных дегтем для водостойкости. – Вроде тех, которые привязаны здесь, у гати.
Лис замахивается, словно собираясь дать оплеуху завравшейся девчонке, но отец перехватывает бледное запястье друида.
Матушка прячет лицо в ладонях.
– Говори правду, Хромуша, – велит она, и отец кивает.
Я откашливаюсь, начинаю снова:
– Корабли сделаны из досок. Днища плоские.
Рука Лиса обмякает, и отец разжимает хватку.
– Такие корабли римляне используют на мелководье, – говорит Лис. Затем его голос наливается силой: – Мы позволили римлянам ступить на наш остров. Мы богатеем, кормя и привечая тех, кто порабощает нас, кто желает искоренить наших законодателей, наших хранителей истории, наших звездочетов, наших мыслителей – верховных жрецов, кто прорицает волю наших богов.
Его жесткий взгляд переходит на отца. Лис поднимает бровь, словно сомневаясь, что отец не связан с предательским ремеслом.
Я гляжу на Охотника, приходившего с угрозами, намекнувшего, что Лис может узнать о римских колышках. Мне кажется, что даже Охотник не падет так низко, но он прячет виноватые глаза от семьи, которую подверг опасности. Он глядит себе под ноги, отчего мое сердце, уже и так перешедшее на рысь, пускается в галоп.
– Ступайте! – рычит Лис. – Вы все!
Когда мастера торопливо покидают мою нишу, из светового ореола возникает друид и начинает расхаживать у очага, останавливаясь, чтобы подбросить поленьев, раздувая огонь, пока тот не разгорается. Он расхаживает, а мы втроем жмемся друг к другу на моем лежаке: матушка с одной стороны от меня, свернувшейся клубком, отец – с другой. Мать гладит меня по волосам, отец – по спине. Дважды их пальцы сплетаются. Во второй раз они не разжимают рук, встретившихся на моем искалеченном бедре, и вскоре меня накрывает беспокойный сон.
Лис уезжает с первыми лучами солнца. Слышится громкое ржание и пофыркивание его коня, затем перестук копыт. Я поворачиваюсь, тянусь к шерстяной занавеске, скрывающей родителей от моего взора. Поднимаю нижний край как раз в тот момент, когда матушка, подобрав подол, опускается на колени прямо перед отцом. Он сидит на скамье, и я вижу лишь его ссутулившуюся спину. Отец похлопывает по месту рядом с собой, но она даже не поднимает опухших глаз с покрасневшими веками, и он берет ее за руку. Но после такой ночи матушка слепа к его зову и не поднимается с колен.
– Он вернется, – говорит отец.
– Да.
– У нас мало времени.
Я ожидаю, что родители, склонившись друг к другу, станут строить догадки о том, сколько известно Лису насчет колышков и какую месть он может измыслить; будут задаваться вопросом, куца он сбежал, скачет ли на Священный остров и сможем ли мы избавиться от него и от великой тревоги, которую он обрушил на всех нас. Но они этого не делают. Матушка закрывает лицо руками, качает головой.
– Я обманула тебя, Кузнец, – говорит она. – Изъян Хромуши – это мое наказание.
Я вспоминаю о признании, которое она не успела сделать из-за удара молнии – в то утро, когда ушел Щуплик.
– Набожа.
– Это было давно, – продолжает она. – Я так убивалась по Арку.
Они редко говорят об Арке. И когда матушка произносит его имя, я настораживаюсь, пытаясь выхватить из тумана что-нибудь определенное.
«– Я стала забывать его.
– Набожа, – перебивает отец, качая головой. – Я не желаю этого слышать.
И тогда я начинаю понимать. Вот в чем дело. Настороженность отца имеет основания: когда он слышит ночные вздохи матери, то сразу думает об Арке. Даже уйдя навсегда, Арк не оставляет нас.
Я отпускаю край занавеса, и он падает, скрывая мой лежак. «Прекрати, – мысленно умоляю я мать. – Оставь его в покое».
Давясь слезами, она продолжает:
– Я была надломлена горем. Хотела, чтобы меня забрали в Другой мир.
Скрип скамьи: отец встает. Шорох тростника под ногами, яростный шепот сквозь стиснутые зубы:
– Я сказал, что не желаю слышать.
Дверь со свистом распахивается, а затем глухо захлопывается за ним.