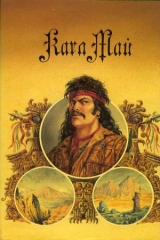
Текст книги "Сатана и Искариот. Части первая и вторая"
Автор книги: Карл Фридрих Май
Жанры:
Про индейцев
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Глава третья
ВИННЕТУ
Наш отряд выбрал хорошо мне знакомое направление – к лесу, в котором растет Дуб жизни. Это пробудило во мне надежду, потому что если мы направимся к лесу, то весьма вероятно, что встретимся с вызванными мною на помощь индейцами-мимбренхо, с которыми я намеревался соединиться как раз возле упомянутого Дуба. Однако, немного поразмыслив, я пришел к выводу, что для меня же будет лучше, если эта встреча не состоится, ибо она очень опасна для моей жизни. Явынужден был признать, что юма, когда на них нападут, скорее убьют меня, чем отдадут в руки мимбренхо.
Как бы там ни получилось с этой встречей, принесла бы она мне счастье или беду, но скоро я понял, что она не состоится, потому что у самого леса юма повернули направо, тогда как мальчишка-мимбренхо и его сестра, мои посланники, поскакали налево. Они огибали лес с запада, тогда как мы направились к его восточной опушке, а поскольку лес был сильно вытянут в длину, я мог с большой уверенностью предположить, что два этих пути сильно расходятся, так что на встречу рассчитывать было бы трудно.
Наступил вечер, а мы все еще не достигли края леса. Пришлось для ночлега разбить лагерь на самой опушке. В былые времена медленное движение каравана из-за еле бредущего стада раздражало бы меня, но теперь оно мне даже нравилось, так как тем самым мне предоставлялась для подготовки побега дополнительная отсрочка.
Естественно, я ожидал сигнала мальчишки-мимбренхо, но он прозвучал только тогда, когда мы уже поели и меня снова запеленали в одеяло. Стало быть, бежать сегодня я не мог, но меня здорово успокаивало то обстоятельство, что помощник находится рядом и готов исполнять мои распоряжения. На слух я определил, что он рискнул подойти очень близко; это удалось ему только потому, что лес хорошо скрывал все его передвижения.
Утром мы снова отправились в путь. Вождю, кажется, наскучила эта тягомотина со стадом; он решился скакать вперед, а на месте будущего ночлега подождать отставших. С собой он взял половину своих воинов и, конечно, прихватил меня вместе со сторожами. Это перевернуло все мои планы. Мимбренхо мог лишь медленно передвигаться за стадом, но не за отрядом всадников; значит, на место стоянки он подоспеет после нас, последним, и можно было предусмотреть, что к тому времени я опять буду закутан в это надоевшее одеяло. Я стану тогда беспомощнее ребенка и не смогу даже думать о побеге.
Как я предполагал, так и случилось! К полудню лес кончился, и мы скакали то по траве, то по голой земле, пока не остановились на несколько часов, чтобы отдохнуть и перекусить. Мне освободили руки. Значит, я мог бы вытащить нож и перерезать веревки на ногах, а потом убежать. Но далеко ли я бы ушел! А если вскочить на лошадь? Тоже не получится. Они паслись на свободе, разойдясь по полянке. Ближайшая из них была так далеко, что мне вряд ли бы удалось ее схватить; к тому же позади оставались хорошо вооруженные краснокожие, а у меня был только нож, кроме того, я не был уверен, что поймаю самую быструю лошадь. Нет, пришлось отказаться от попытки, которая могла привести лишь к моей гибели.
После обеда мы продолжили путь по точно такой же местности, а потом остановились на обширной травянистой лужайке. Так как провизии с собой индейцы взяли достаточно, то опять принялись за еду; потом меня завернули в одеяло. Все происходило так же, как и вчера, лишь мимбренхо не осмелился подойти близко к лагерю по открытой равнине.
Только стемнело, пригнали стадо. Вскоре после этого я услышал троекратное кваканье травяной лягушки, причем на удалении не больше трехсот шагов. Так близко парень мог находиться лишь в темноте; поутру, еще прежде, чем займется день, ему придется где-либо спрятаться, чтобы его не заметили. Бедняга жертвовал своим сном, но мне от этого было не легче.
Ничего не изменилось ни на следующий, ни на четвертый день пути. Если случался подходящий момент, то рядом не было мимбренхо, а когда он подавал знак, возможность для побега исчезала. Зато пятый день должен был стать для меня более счастливым.
С самого утра мы ехали по скалистым холмам, узким долинам и мрачным ущельям. Здесь разделиться было нельзя, потому что пришлось удвоить число погонщиков. У меня возникла уверенность, что сегодня все решится. На обеденном отдыхе меня еще никогда не пеленали в одеяло, а лесная местность позволяла моему помощнику держаться так близко, как я того желал.
Незадолго до того момента, как солнце достигло зенита, мы оказались в сыром, извилистом ущелье, из которого мы внезапно вышли на зеленый луг, окаймленный кустарником. Скот невозможно было удержать; животные вырвались из теснины на зеленую лужайку и в течение нескольких мгновений рассыпались во всю ее ширь, так что всадникам стоило большого труда снова собрать стадо.
Вождь тут же отдал моим сторожам приказ отвязать меня от лошади и положить на землю. Сами они уселись рядом со мной. Так мы образовали центр походного лагеря, оказавшийся так близко к выходу из ущелья, что я мог бы добежать до него за какие-нибудь пять минут.
Судя по распоряжениям, которые отдавал вождь, я понял, что дальше он двигаться сегодня не желает. Похищенный скот так был изнурен четырехдневным маршем, что ему надо было дать отдохнуть по меньшей мере до утра, иначе он бы не вынес дальнейшего пути. В связи с длительным отдыхом были разбиты палатки, чего не случалось в предыдущие дни. Пока выполнялась эта работа и шли другие приготовления, вождь приблизился ко мне и уселся напротив. Как раз в то время, когда он занял место, раздалось кваканье травяной лягушки, на что ни один из индейцев не обратил внимания.
Большой Рот закинул одну ногу на другую, скрестил руки на груди и остановил свой колючий взгляд на моем лице. По нему было видно, что теперь он хочет говорить, тогда как до сих пор он не удостаивал меня своим вниманием. Пятеро сторожей смотрели в землю; они не глядели ни на него, ни на меня; это было почтительное ожидание момента, когда их предводитель, хотя бы на словах, померится силами с Олд Шеттерхэндом. Упрямое молчание только усугубило бы мое положение, поскольку неуместная в моем положении гордость обернулась бы глупостью и, наконец, потому, что мой характер не позволял выносить нападки этого человека, хотя бы и словесные, я решил противостоять ему. Начал он с прямо-таки неостроумного вопроса:
– Ты бледнолицый?
– Да, – ответил я. – Или твои глаза так плохо видят, что принимают меня за индейца?
Он продолжал, игнорируя мой вопрос:
– И ты называешь себя Олд Шеттерхэнд?
– Не я так себя назвал – это имя мне дали знаменитые бледнолицые и краснокожие воины и вожди.
– Зря они это сделали. Твое имя ложно. Твои руки связаны; они не могут раздавить даже червя, даже жука – куда уж им до человека. Вот, посмотри, как я тебя боюсь!
Сказав эти слова, он плюнул в меня. Я равнодушно ответил:
– Пусть мое имя ложно, но твое-то, по всей вероятности, полностью правдиво. Ты зовешься «Большой Рот», и он у тебя в самом деле громадный: другого такого и не найдешь. Но я на твоем месте не гордился бы этим. Плевать в связанного по рукам и ногам пленника – не геройство, потому что обиженный не может отомстить. Прояви лучше подлинное мужество: развяжи меня и сразись со мной! Тогда и станет ясно, кто кого побьет – ты меня или я тебя!
– Молчи, – загремел он. – Ты подобен лягушке, которая кричит позади тебя. Ее кваканье достойно только презрения.
Как раз в это время раздался второй крик лягушки. Слова вождя дали мне возможность открыто посмотреть в сторону выхода из ущелья, не опасаясь вызвать подозрение у моих сторожей. Крик прозвучал так близко, что мне показалось, будто мой маленький мимбренхо притаился за ближайшей выступающей скалой. Я еще выше поднял голову, чтобы показать ему, что я гляжу в его сторону, и в самом деле увидел маленькую смуглую детскую ручку, которая на один только миг высунулась из-за края скалы и тут же скрылась опять. Кто не знал о спрятавшемся за скалой, не мог, конечно, заметить эту руку.
Теперь для меня стало ясно, что бежать надо сейчас. Я должен быть свободен в течение ближайшей четверти часа, самое большее – получаса, иначе мне конец. Именно в этой ситуации я дал ответ вождю, который показался бы смешным в любое другое время:
– А я не презираю это кваканье, наоборот, я радуюсь ему. Знаешь ли ты голоса животных?
– Да, я знаю все голоса.
– Я имел в виду другое, а именно, понимаешь ли ты язык зверей?
– Ни один человек не понимает их!
– Однако я понимаю. Может быть, поведать тебе, о чем рассказал мне голос лягушки?
– Ну-ка скажи! – ответил он с издевательской усмешкой.
– Лягушка сказала, что ты скоро потеряешь человека, а вследствие этого ты должен будешь вернуться назад по пути, который ты совершил сегодня.
– Великий Дух помутил твой разум!
– Нет, скорее он просветил мой разум. Я слышу выстрелы, стук копыт и гневные крики твоих воинов. Ты будешь бороться с двумя людьми, большим и маленьким, и не сможешь их победить. Позор падет на ваше племя, и те, над которыми вы сегодня насмехаетесь, завтра будут высмеивать вас!
Вождь уже открыл рот для гневного ответа, но опомнился, приложил руку к груди, потом опустил ее и посмотрел мне в лицо очень серьезно и задумчиво. Потом он сказал:
– Правильно ли я тебя понял? Олд Шеттерхэнд никогда не говорит как безумец. Его слова всегда имеют смысл, даже если он не всегда понятен. О чем хотел ты сказать? О каком позоре ты говорил?
– Подумай и догадаешься. А если ты не найдешь решения, подожди, пока оно само собой не мелькнет в твоей голове.
Он задумался так крепко, что даже закатил глаза, а потом воскликнул:
– Я догадался! Позор здесь, а потом возвращение? Ты полагаешь, что сможешь убежать, и думаешь, что мы тебя будем преследовать до долины на той стороне асиенды, где тебя все еще ждет юный негодяй-мимбренхо. Ты думаешь, что мы вступим в схватку с тобой и с ним, но не сможем вас победить. Теперь я вполне серьезно считаю, что Великий Дух помутил твой разум. Ты страстно желаешь свободы, мечтаешь о ней, ты говоришь о ней, даже не осознавая смысла своих слов. Твой рассудок болен и…
Внезапно он прервал свою речь; видно, ему пришла в голову мысль, которую он уже раньше высказывал, а именно: Олд Шеттерхэнд не может говорить бессмысленные вещи. Он подошел ко мне, проверил мои путы на крепость. Найдя, что они в полном порядке, он снова уселся на свое место и сказал с улыбкой явного превосходства:
– Теперь я понял, в чем дело: Олд Шеттерхэнд хотел разозлить меня, чтобы потом рассмеяться надо мной, словно над малым ребенком, но ему это не удастся. Он хочет лишить нас уверенности, чтобы мы наделали массу ошибок. Да, он сделал это с умыслом, но здесь он просчитался!
– Уфф, уфф! – закричали стражники в знак того, что они одобряют слова вождя. Он же, повернувшись ко мне, продолжал:
– Олд Шеттерхэнд убил моего сына, Маленького Рта, и должен поэтому умереть. Но он проявил себя мужественным человеком, и я слышал, что он считает себя другом краснокожих, поэтому я, естественно, оказывая ему одолжение, разрешу ему самому выбрать, какой смертью он желает умереть. Хочет ли он быть застреленным?
Я знал, что он издевается надо мной, как вскоре и оказалось, и ответил:
– Нет.
Тогда он спросил по очереди, хочу ли я быть заколотым, сожженным, отравленным или задушенным, и я каждый раз отвечал категорическим отказом.
– Олд Шеттерхэнд говорит одно «нет», но он должен же сказать мне, какой смертью хочет закончить свою жизнь!
– Я хотел бы, чтобы мне было девять раз по десять или десять раз по десять лет; в этом возрасте я хотел бы спокойно уснуть, чтобы пробудиться уже с той стороны жизни, – сказал я.
– Это смерть трусов, но Олд Шеттерхэнд достоин другой кончины. Такой человек должен попробовать всякую смерть, один способ за другим, глазом при этом не моргнув, и мы предоставим ему такую возможность. Сначала мы ему перебьем руки и ноги; он так же сломал руки моего друга Мелтона.
Он вызывающе посмотрел на меня, стараясь понять, какое впечатление произвело на меня его заявление.
– Это хорошо! – ответил я, со смехом кивая ему.
– Потом мы надрежем ему мышцы рук и ног и вырвем ему ногти на всех пальцах!
– О, я буду очень рад этому!
– Затем мы с него, с живого, снимем скальп!
– Очень мудрое решение, потому что я бы ничего не почувствовал, если бы вы меня убили до этого.
– Да, но мы постоянно будем лечить его старые раны, поддерживать жизнь в его измученном теле, чтобы он выдержал новые мучения.
– Это мне очень по душе, потому что иначе я бы, пожалуй, недостаточно прочувствовал новые мучения.
– Напрасно смеешься! У тебя быстро пройдет желание шутить, потому что мы тебе отсечем кисти!
– Неужели обе?
– Обе. Потом мы отрежем у тебя веки, чтобы ты не мог спать.
– Ну, а дальше что?
– Мы засунем твои ступни в костер, и они будут медленно поджариваться на огне. Потом мы повесим тебя за ноги; будем бросать в тебя ножи; мы…
– Остановись! – прервал я вождя и громко рассмеялся, чтобы как следует его разозлить. – Самое интересное, что вы ничего не сможете со мной сделать, абсолютно ничего. Даже если бы у вас была тысяча воинов, их оказалось бы слишком мало для того, чтобы причинить страдание Олд Шеттерхэнду. Для этого нужны люди совсем другого сорта. Ты недавно сравнил меня с лягушкой, которую мы только что слышали; я мог бы сравнить вас с другими животными, куда более противными, но я не стану этого делать. Хочу только сказать вам, что вы должны бояться меня куда больше, чем я вас.
В этот момент мальчишка-мимбренхо подал третий знак. Разгневанный вождь, увидев, что я не шучу, а говорю вполне серьезно и с полной убежденностью, ответил:
– Ты слышишь, как она там квакает? Вот и ты так же заквакаешь. Скоро ты увидишь, кто кого должен бояться. Отныне я буду строже обходиться с тобой, чтобы освобождение больше не казалось тебе таким легким делом. Ты скоро погибнешь, и это так же реально, как голос лягушки, который ты слышал!
– Ты заблуждаешься. Вы мне ничего не сможете сделать, и это так же реально, как слышанное мною кваканье лягушки!
– Ладно, придется применить власть. Отныне ты будешь постоянно связан, как только тебя снимут с лошади. Тогда посмотрим, сможешь ли ты убежать. А пока развяжите ему руки и дайте мяса: пусть наестся досыта; потом я сам закутаю его в одеяло. С нынешнего вечера я лично буду за ним следить, чтобы у этой собаки не осталось и проблеска надежды!
Он совершенно вышел из себя от того, что я оставался совершенно спокойным и показывал свое превосходство, несмотря на то, что находился в плену. Собственно говоря, я, с тех пор как заговорил о своем побеге, вел рискованную игру, но был при этом твердо убежден, что я не должен проиграть партию, а обязательно выиграю ее.
Один из сторожей принес мне мясо, другие развязали мне руки. Приближался решающий миг. Несмотря на это, я был внутренне и внешне полностью спокоен. Да так и должно было быть. Кто проявляет колебание, кто дрожит в такой момент, тот вряд ли сможет выполнить свой план.
Мою порцию постного мяса разрезали на длинные тонкие полоски, которые мне легко было бы прожевать и без помощи ножа, что я и делал медленно и обстоятельно, как будто мне не о чем было заботиться, кроме как о собственном желудке; при этом я сел, сложив руки и ноги так, что мог одним движением перерезать все переплетения ремней. Два движения потребовали бы, пожалуй, уже слишком много времени, хотя и в этом случае счет шел только на секунды. Жизнь моя зависела от какой-то доли мгновения.
Вождь следил за мной с мрачным лицом. Мое напоказ выставленное удобство злило его, и он уже, конечно, замышлял покрепче стянуть меня ремнями.
– Ешь быстрее! – приказал он мне. – У меня нет времени ожидать одного тебя.
Чтобы выиграть время, нужное для того, чтобы моментально вытащить нож, я изобразил на лице испуг, выронил из рук мясо и низко склонился, чтобы поднять его, пользуясь при этом левой рукой. Я мог при этом с большой долей уверенности предполагать, что общее внимание будет направлено на мою левую руку, которой я стараюсь достать кусок мяса; правой же рукой незаметно залез под жилет, отвечая тем временем вождю:
– Быстрее? Хорошо, пусть так и будет. Смотри!
При этих словах острое лезвие ножа уже коснулось ремней на ногах; резкое движение – и я подпрыгнул, ударив вождю ногой в плечо, перепрыгнул через него и изо всех сил помчался к ущелью. Должен сказать, что когда после прыжка через голову вождя я коснулся земли, то чуть не упал; но я должен был быстро двигаться дальше – и побежал, потому что если ты хочешь что-то сделать, то надо это делать хорошо. Пока я мчался большими скачками по траве, за спиной у меня воцарилась глубочайшая тишина, вызванная ошеломлением и ужасом; индейцы словно окаменели и потеряли дар речи, когда увидели, как осуществляется то, что считали невозможным; но потом, когда я был уже шагах в ста от них, наваждение прошло, и раздался такой ужасный вопль, словно раскрыли свои пасти тысяча чертей. Я, естественно, не оборачивался и мчался сломя голову вперед; все мои силы надо было употребить теперь на то, чтобы добраться до лошади. В моем состоянии я не смог бы выдержать такого темпа дольше двух минут.
И тут я увидел, как из-за скалы выглядывает мой мимбренхо. Свое ружье он держал в правой руке, а левой протягивал мне мой штуцер. Он не стоял на месте, а кинулся мне навстречу. Но еще прежде, чем мы сошлись, я крикнул ему:
– Лошади здесь, за скалой?
– Нет, за первым поворотом.
– Сколько шагов?
– Сто раз по пять.
О Боже! Я просто был не в состоянии пробежать еще пятьсот шагов на своих отвыкших от движения ногах; значит, меня должна спасти кровь, пролитая индейская кровь! Это была одна из ситуаций, в которых я готов охотно щадить людей, но просто не в состоянии этого сделать. На бегу я вырвал штуцер из мальчишечьих рук, ощупал затвор – все было в порядке – и сразу почувствовал себя так уверенно, что мигом остановился и повернулся к преследователям. Я вполне резонно предположил, что они не успели взять с собой оружия, и мое предположение вскоре оправдалось. Они приближались, размахивая руками и крича – кучка одичавших людей во главе с вождем и моими стражниками.
– Назад, я буду стрелять! – предупредил я их.
Я все еще непрочно стоял на своих ослабевших ногах, но тем не менее был уверен в верности своей руки и вскинул ружье. Юма не обратили внимания на мое предупреждение и приблизились на расстояние до сотни шагов; я сделал два выстрела; девяносто шагов – еще два; восемьдесят, семьдесят, шестьдесят – и каждый раз по два выстрела; я выпустил десять пуль, каждая из которых попала в бедро какого-нибудь из преследователей; раненые тут же падали. Другие воины, пораженные ужасным зрелищем, растерялись.
– Назад! – крикнул я во второй раз. – Или я перестреляю вас всех!
Еще две пули попали в цель! Храбрый мимбренхо стоял бок о бок со мной и тоже стрелял; я только выводил людей из строя; его же пули несли смерть. Преследователи в страхе остановились; они не осмеливались бежать дальше. Многие отступили назад, помчались за своими допотопными ружьишками. Но один высокий индеец, ослепнув от ярости, продолжал бежать вперед, прямо на меня – это был вождь. Он ревел от ярости, словно дикий зверь, и размахивал ножом, единственным оружием, оставшимся у него, причем держал он его левой рукой, так как правую, как уже было сказано, я ему повредил. Разумеется, кидаться на меня в таком состоянии было чистым безумием, неосторожностью, которую я мог объяснить только возбуждением, в котором он находился, что, конечно, не оправдывало, но по крайней мере объясняло его действия. Было совершенно ясно, что его жизнь принадлежала мне, но мне она была не нужна. Я уже и так вывел из строя его правую руку, надо было сохранить ему левую, поэтому я решил нанести ему удар в голову. Он приближался, высоко подняв нож для удара; в тот самый момент, когда его клинок стал приближаться ко мне, я отпрыгнул в сторону и взмахнул штуцером; его удар пришелся по воздуху, тогда как приклад моего ружья сбил вождя с ног, да так, что он остался лежать на земле.
Воины-юма, увидев это, закричали на разные голоса, ибо они решили, что я только затем сбил вождя с ног, чтобы вернее отобрать у него жизнь. Те из них, кто побежал за ружьем, уже вернулись. Другие, видневшиеся подальше, мчались за лошадьми. Выходит, дольше стоять на месте мы не могли. Мы поспешили ко входу в ущелье, а забежав в него, устремились еще дальше, к своим лошадям. Мальчишка, конечно, был быстрее меня. Когда я оставил за собой три сотни шагов из тех пятисот, что мне надо было преодолеть, он уже исчез за поворотом ущелья, но вскоре появился вновь, сидя на своей лошади и ведя в поводу мою верховую. Он подъехал ко мне и остановился. Я тут же взлетел в седло, и тут появились первые вооруженные ружьями юма. Но в спешке они стреляли неточно и промахивались. Мы же развернули лошадей и помчались по пути, проделанному нами до полудня.
Итак, я вырвался на свободу. Предположение, что юма меня снова схватят, казалось мне совершенно невероятным, однако теперь мне надо было думать не о себе, а о других. Асьендеро был разорен: по меньшей мере, ему стоило бы вернуть свои стада. А это могло произойти только в том случае, если бы мимбренхо, которых я ожидал, отобрали скот у юма. К сожалению, я не знал, и мальчик ничего определенного не мог мне сказать, где стояли в последнее время вигвамы этого племени. На отдых мы остановились после четырех дней пути; видимо, день отдыха выбран был как раз в середине дороги; значит, можно было предположить, что юма надо еще, по крайней мере, четыре дня, чтобы добраться до родных мест. Мимбренхо, конечно, не смогли бы достичь их за такое короткое время. А были ли какие-нибудь средства задержать юма в дороге? Да, и одно из них проверенное, бывшее буквально под руками. И это средство было ничем другим… точнее уж говорить не кем другим, как мною самим. Я должен был увлечь юма любыми способами за собой так далеко, насколько это мне удастся.
Можно было предположить, что они приложат все силы, лишь бы снова поймать меня, хотя бы только из-за того, чтобы отомстить за смерть Маленького Рта. Другая причина их рвения была в том, что они сгорают от стыда, что упустили меня, как мальчишки-несмышленыши. Я был в полной их власти, они издевались надо мной и приставили ко мне пятерых стражников, хотя я и так был окружен сотней воинов. Я даже открыто сказал их вождю, что хочу бежать, и исполнил свое намерение не ночью, под защитой темноты, а при свете дня. При этом мною были искалечены на всю жизнь двенадцать воинов-юма, а еще двое были застрелены мальчиком-мимбренхо. Какой позор, и не только для находившихся возле пленника воинов, но и для всего племени! Позор, который можно было отчасти смыть только моей повторной поимкой и последующей расправой!
Учитывая все эти соображения, я предполагал, что индейцы будут меня рьяно преследовать, и притом большим отрядом. Но если меня не могла удержать сотня воинов, то сколько же их понадобится для новой поимки? Разумеется, больше! А такого количества воинов у юма не было; напротив, их стало на четырнадцать человек меньше. За двенадцатью ранеными нужен был уход; вряд ли они были в состоянии продолжать путь, потому что пуля в бедре опасна для жизни. А где взять людей, чтобы сохранять и гнать стада?
Взвесив все эти соображения, я пришел к выводу, что Большой Рот, как только очнется от удара, оставит стада на месте, так как травы здесь для них было достаточно. Тут же останутся и раненые, а при них – такое количество воинов, какое нужно для охраны животных и ухода за людьми. Все остальные должны пуститься в погоню за мной и попытаться как можно быстрее схватить меня, чтобы восстановить честь племени. Стало быть, весьма правдоподобно, что за нами погонится сорок, а может быть, и пятьдесят человек, и рвение их будет тем больше, что они захотят отомстить мне и индейцу не только за прошлые обиды, но и за то, свидетелями чего они стали сегодня.
Я бы мог легко уйти от них, свернув вправо или влево, но это было бы ошибкой. Потеряв мой след, они тут же вернулись бы к стадам, продолжив путь к дому, и животные были бы потеряны для асьендеро. Но так как я захотел задержать здесь стада, то должен был направить преследователей по моему следу.
А чтобы достичь этого, я все время должен был придерживаться дороги на асиенду, потому что юма считают само собой разумеющимся, что я поеду именно по ней. Торопиться мне тоже не следовало, потому что чем ближе преследователи ко мне подбирались, тем большим становилось их желание нас поймать и тем меньше могла им прийти в голову мысль о возвращении или по крайней мере об отсылке части преследователей назад. А если бы я встретил у Дуба жизни ждущих меня мимбренхо, что не казалось невероятным, то мог бы с их помощью взять в плен весь отряд, а потом вернуться на старое место, отобрать награбленные стада и возвратить их владельцу, бедному дону Тимотео Пручильо. Лишившись своего скота, он превратился в жалкого бедняка – в этом не было никакого сомнения. Дома его были обращены в пепел, леса и сады сожжены; у него, правда, оставались луга, но без пасущегося на них скота они бы не принесли хозяину и пфеннига [63]63
Пфенниг – название немецкой разменной монеты, с 1871 г. сотая часть немецкой марки.
[Закрыть]. К тому же я слышал, что он давно уже не так богат, как прежде.
Всеми этими мыслями я поделился со своим спутником, пока мы лихо мчались по выбранному пути. Мальчик ничего мне не возражал, не имея для этого никаких причин и даже не допуская мысли, что я могу оказаться неправым. Он принял мои рассуждения с полным пониманием, как взрослый, а потом серьезно спросил:
– Значит, Олд Шеттерхэнд полагает, что за нами будут гнаться пятьдесят юма?
– По меньшей мере, от сорока до пятидесяти, – кивнул я.
– Но они не смогут отправиться в погоню. Вождь лежит без сознания, и воины должны подождать, пока он очнется и сможет отдавать приказания.
– Верно, но несколько человек пойдут по нашему следу немедленно. Когда они догонят нас, то подождут остальных. Я буду говорить с ними.
– Говорить? – спросил он удивленно. – Я не ослышался? Олд Шеттерхэнд действительно хочет говорить с этими ищейками, готовыми разорвать его на клочки? В какой же опасности ты тогда окажешься!
– Но я не вижу здесь риска. Тебе грозила значительно большая опасность, когда ты последовал за мной после сожжения асиенды.
– Для меня не могло быть никакой опасности, потому что я должен был искупить свою ошибку. Если бы это было нужно, я пошел бы на смерть.
– Верю, потому что теперь я узнал тебя получше. Своей свободой я обязан только тебе и буду всегда тебе за это благодарен.
– Олд Шеттерхэнд – знаменитый воин; он освободился бы и без меня!
– Ну, может быть, потому что я не только не был ранен, но и не потерял силы. Но сам бы я освободился не так быстро и легко. Не показалось ли тебе чересчур долгим время ожидания за все эти дни?
– Ни одно ожидание не покажется долгим, когда ты терпелив и хочешь стать настоящим воином, который, кроме мужества, должен прежде всего отличаться именно терпением.
– Но ты же не мог спать, потому что днем ты должен был следовать за нами, а ночью в любое мгновение ожидал моего побега!
– Воин должен быть выносливым. Впрочем, время выспаться у меня было, так как я старался отдохнуть сразу же после вашего выступления, а сам пускался за вами через несколько часов. Стада шли так медленно, что я успевал очень быстро настичь вас.
– А о чем ты думал, когда напрасно ждал меня?
– Ни о чем я не думал, потому что знал, что Олд Шеттерхэнд придет, когда пробьет его час.
– Своими ответами ты доказываешь, что когда-нибудь станешь не только храбрым воином, но и обстоятельным, осторожным советником на собрании вождей и старейшин. Ты желал получить имя. Когда я сяду с твоими соплеменниками в первый раз у племенного костра, то скажу им, что ты доказал, что достоин носить боевое имя.
– Уфф, уфф! – выкрикнул он, причем его глаза засверкали. Он так обрадовался, что гордо выпрямился в седле.
– Да, я предложу им дать тебе имя.
– Ты хочешь это сделать? Моя благодарность будет так велика, как сама земля; исчезнет она только с моей смертью!
– Да, я предполагаю сделать такое предложение.
– Тогда они меня спросят, какое имя показал мне великий Маниту [64]64
Маниту – в мифологии североамериканских индейцев сверхъестественные силы или существа, выполняющие роль личного духа-покровителя. Однако в трактовке миссионеров, которой следует в своих романах К. Май, под Маниту понимался «великий дух», аналогичный христианскому Богу.
[Закрыть]и какое «лекарство» я нашел. А я не смогу дать им ответа!
Когда юный индеец подрастает и приобретает ценные навыки, познания, необходимые для воина, он прежде всего должен найти себе имя. И вот он удаляется от племени, соблюдает пост и размышляет обо всем, о чем положено думать воину и знаменитому человеку. Одиночество, строгий пост, размышление о великих делах вдохновляют юношу. Возбуждение переходит в сверхъестественную чувствительность, вследствие чего он впадает в сон или начинает грезить. И вот первый предмет, о котором он подумает или увидит в своих галлюцинациях, становится его «лекарством», его талисманом на всю жизнь. Тогда он берет оружие и уходит и не возвращается назад, прежде чем не похитит, добудет или найдет этот предмет. Вещь эта, будь она велика или мала, будь она самой диковинной формы, зашивается в шкуру и тщательно оберегается. Воин берет талисман с собой в походы и вешает на копье, втыкаемое в землю перед входом в его палатку. Этот талисман станет самым дорогим, самым святым для воина; за обладание им он отчаянно борется изо всех своих сил. Поэтому самой большой честью считается обладание амулетом одного или нескольких врагов. Столь же велик позор потерять свое «лекарство» – в битве ли, по другой какой причине. Смертельным оскорблением для индейца будут брошенные ему в лицо слова: «Человек, не имеющий «лекарства». Оскорбленный такими словами успокоится не раньше, чем отнимет талисман у врага; добыча становится его собственным «лекарством», и тогда поруганная честь воина снова восстанавливается.
Обычно молодой человек, как только он отыщет предмет, который видел во сне, то есть свое «лекарство», принимает то же самое имя, отчего так часто сталкиваешься с такими странными именами, как, например, Мертвый Паук, Разорванный Лист, Длинная Нить… Эти люди во время поисков талисмана прежде всего подумали о мертвом пауке, разорванном листке, длинной нитке и теперь носили эти предметы с собой в качестве «лекарства». Но случается, что молодой человек, если он отличился каким-нибудь особенным поступком, получает почетное имя, напоминающее о свершенном; такое имя ценится гораздо выше, чем случайно найденное имя. Поэтому я так ответил на последние слова моего юного спутника:
– Ты ничего не должен отвечать, потому что, если они тебя спросят, ответ дам я.








