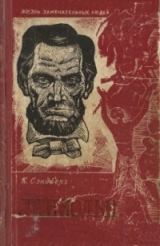
Текст книги "Линкольн"
Автор книги: Карл Сэндберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
Опытные солдаты Шермана в ответ на расспросы местных жителей большей частью давали ложную информацию о дальнейшем маршруте армии. И так как газеты южан предпочитали умалчивать о действиях армии юнионистов в Джорджии, она превратилась в «пропавшую армию» и стала загадкой для всего мира. «Если Шерман действительно поставил свою армию в труднейшее положение, оторвавшись от баз, и намерен пройти через Джорджию и Южную Каролину, – писали военные эксперты в английской «Арми энд Нэйви газет», – то он этим совершил один из самых блестящих или один из самых глупых маневров, когда-либо приведенных в исполнение командующим армией». «Одно из двух: либо Шерман в результате похода будет награжден за чрезвычайную смелость и успех, или станет посмешищем и виновником самой ужасной катастрофы, которая когда-либо постигла вооруженного гостя», – так считала лондонская «Геральд», присовокупляя, что «над ним будет глумиться человечество, а Соединенные Штаты будут унижены».
Брат Шермана, сенатор из Огайо, встревоженный сообщениями южных газет об отступлении и разгроме Шермана, примчался к Линкольну. Кто может ему рассказать о действительном положении армии? Линкольн ответил:
– Не я. Я знаю дыру, через которую он пролез, но не знаю, в какую дырку он вылезет.
Примерно недели через две после исчезновения Шермана Мак-Клюр, уходя от Линкольна, вдруг услышал:
– Мак-Клюр, не хотели бы вы услышать кое-что о Шермане?
Мак-Клюр резко обернулся, но Линкольн лишь усмехнулся.
– Черт меня побери, если я сам не хотел бы узнать о нем хоть что-нибудь.
На одном из приемов в Белом доме Линкольн пожимал руки людям, проходившим мимо него бесконечной вереницей. Подошел старый друг, которого Линкольн не мог не узнать. Но Линкольн так же безразлично пожал ему руку, как и всем незнакомым, и с таким же рассеянным видом приветствовал его. Старый друг постоял возле Линкольна и решил заговорить с ним. Президент как бы пробудился, встряхнулся, снова пожал руку другу и сказал:
– Извините, что я вас не заметил. Я думал о человеке далеко на Юге.
В ричмондских газетах не было описаний атак или эффективных действий против Шермана. Линкольна это тревожило. Впоследствии Грант писал Шерману: «Я заверил его, что с такой армией, как у вас, да под вашим командованием ничего плохого не может случиться».
6 декабря Линкольн обратился с посланием к конгрессу: «Самая замечательная особенность военных операций этого года – это попытка генерала Шермана пройти со своей армией триста миль по территории мятежников. Это должно знаменовать собой значительное увеличение наших сил и возможностей нашего главнокомандующего вести военные действия не только против врага, не только сковать все активные силы противника, но и выделить хорошо оснащенное крупное войсковое соединение для такой серьезной экспедиции. Поскольку результат еще неизвестен, мы не можем себе позволить делать какие-либо предположения».
И это все, что он сообщил конгрессу. Брукс был озадачен – ни слова о маршруте, ни об источнике, из которого можно было бы почерпнуть сведения о Шермане. Положив послание на стол, Линкольн снял очки и усмехнулся. Разочарование Брукса его позабавило. Он добродушно сказал:
– Дорогой мой Брукс, ничего больше сказать конгрессу я не имею права.
В первоначальном проекте послания была одна странная фраза, которую могли истолковать по-разному: «Мы можем сделать вывод, что он (главнокомандующий) считает, что мы можем пойти на риск и лишиться, если нужно, всего экспедиционного корпуса, но, с другой стороны, этот поход может принести нам огромные выгоды, за которыми последует победа». Из этой фразы можно было сделать вывод, что Линкольн не разделяет, не причастен к «рискованной» операции Гранта и Шермана. Линкольн вычеркнул всю фразу.
В первых числах декабря полковник А. Маркланд, офицер штаба Гранта, отправился к Шерману с почтой. Он не знал, где он сможет передать ему пакеты, так как не знал, где он его найдет. Грант предложил Маркланду заглянуть к Линкольну и узнать, нет ли у него какого-либо сообщения для Шермана. Линкольн был на совещании, но когда ему принесли визитную карточку Маркланда, он приказал немедленно ввести его. Он встал, пошел навстречу Маркланду, пожал ему руку и сказал:
– Генерал Грант сообщил мне, что вы, полковник, едете к Шерману и что вы передадите ему любое мое послание. Скажите генералу Шерману от моего имени, где и когда бы вы его ни увидели: «Да благословит бог его и его армию!» Это все, что я могу сказать…
Он не выпускал руки Маркланда и все время смотрел ему прямо в глаза. Навернулись слезы, задрожали губы, надломился голос Линкольна. Наконец они расстались, и Линкольн не спускал глаз с Маркланда, пока тот не вышел из комнаты.
Армия, в течение 32 дней «потерянная» для внешнего мира, как писал потом Шерман, прошла уже 3G0 миль и оставила за собой одинокие печные трубы, сожженные водоотводные сооружения, разрушенные эстакады, оплакивающее свою судьбу население. По обе стороны главного маршрута колонны, начиная от Атланты на 30 мнль вправо и влево, лежала опустошенная земля. Пятитысячная кавалерия Килпатрика свирепствовала там, куда пешие части не доходили. Экономя порох, они резали свиней саблями, забивали лошадей ударом топора промеж ушей, но пристреливали каждую собаку-ищейку, каждого дога или любую собаку, которую можно было бы использовать для выслеживания беглых негров в лесах и болотах.
10 декабря правое крыло армии генерала Хоуарда находилось в 10 милях от Саванны. Хоуард послал телеграмму в Вашингтон с сообщением, что поход закончился полной удачей. Разведчики понесли эту депешу в Порт-Ройал, Южная Каролина, затем по телеграфным проводам вечером 14 декабря эти хорошие вести достигли Вашингтона. Лишь на следующий день Галлек передал Линкольну это сообщение, которое гласило: «Пока все еще продвигаемся. Успех полный. Войска в прекрасном моральном состоянии. Генерал Шерман недалеко от нас».
Эти новости молниеносно распространились по всему Северу. По улицам городов, по дорогам и полям всей страны летела ликующая весть, что Шерман достиг Саванны. От Бостона до Каунсил-Блафс и дальше на запад раздавались торжествующие клики и произносились благодарственные молитвы.
13 декабря Шерман поднялся со своими штабными офицерами на крышу рисоочистительного завода; они глядели на море, где должен был появиться флот, и в сторону опушки леса, где стоял 15-й корпус, готовый двинуться на форт Мак-Алистер. Форт господствовал над рекой, очень важной для переброски флотом припасов в армию Шермана, если бы флот пришел, как было запланировано. В течение долгих часов Шерман и его сподвижники стояли на вахте. Лишь к вечеру вырисовалась труба над горизонтом, а еще через некоторое время флажки запросили: «Кто вы?» – «Генерал Шерман», – ответили флажки с крыши рисоочистительного завода. «Форт Мак-Алистер вами захвачен?» – спросили с корабля. «Нет еще, но через минуту мы будем там».
Эти переговоры как будто послужили сигналом для частей генерала Уильяма Хэйзена; старая шерманская дивизия из Шайло вышла из укрытия, снайперы выскочили вперед, залегли и начали выбивать вражеских артиллеристов. Части северян пошли в атаку под градом пуль, осколков снарядов и опрокинули ряды обороняющихся. Вскоре северян увидели танцующими на парапетах форта Мак-Алистер.
При бледном свете луны того же 13 декабря Шерман отправился на быстроходном ялике к кораблю «Дандилион», и не успела наступить полночь, как он уже писал донесения, которые через пять дней должны были попасть в руки Стентону, Галлеку и Линкольну, – кое-что из этих сообщений было потом передано для всеобщего сведения миру, жаждавшему новостей и достоверных фактов.
Когда Шерман вернулся к своей армии, его встретил полковник Маркланд с почтовыми мешками. Солдаты и офицеры вопили от восторга, потрясая первыми письмами из дома после перерыва в несколько недель. Глаза Шермана засветились, когда Маркланд передал ему слова Линкольна.
Саванна пала. Ее девятитысячный гарнизон под командованием генерала Харди ускользнул к северу в ночь на 20 декабря. Шерман отправил донесение Линкольну: «Разрешите предложить вам в качестве рождественского подарка город Саванну со 150 пушками и большим запасом снарядов, а также около 25 тысяч кип хлопка». На следующий после рождества день Линкольн отправил на Юг письмо Шерману: «Когда вы еще только выступали из Атланты к побережью Атлантики, я волновался за вас, если не сказать, что просто боялся. Но, чувствуя, что вы лучше разбираетесь в этом вопросе, и помня, что «не рискнешь – не приобретешь», я не препятствовал. Теперь, когда ваша предприимчивость принесла успех, весь почет принадлежит вам, ибо я считаю, что никто не решится на большее, чем дать свое согласие… Пожалуйста, передайте мою благодарность всей вашей армии, офицерам и солдатам». Остатки сомнений у Шермана в отношении к нему Линкольна растаяли. Доверие Линкольна к нему и Гранту усилилось. Отныне эта тройка сомкнулась еще теснее.
В тот момент Стентон отказался присоединиться к ним и радоваться в духе веселого рождества. Он написал Гранту: «Я горько разочарован тем, что Харди с его 15 тысячами удалось уйти от Шермана с его 60 тысячами. Из-за того, что армии противника уходят от разгрома, война продлится еще долгое время».
Военные действия в Теннесси носили странный и сложный характер. Они не отличались драматической простотой, сопутствовавшей походу Шермана. Генерал Шофилд писал Шерману, что на их долю в Теннесси выпал весь труд, в то время как на долю Шермана в Джорджии пришлись все удовольствия. Когда Шерман уже был в пути, Шофилд пытался со своими 29 тысячами присоединиться к генералу Томасу в Нашвилле. Ему пришлось выдержать бой с 41-тысячным корпусом конфедерата Худа вблизи города Франклина. Фронтальные атаки Худа были отражены, причем Худ потерял 6 тысяч, а федералисты только 2 300 человек. Шофилд отступил. Худ его преследовал. Шофилду все же удалось соединиться с Томасом в Нашвилле. Там Худ остановился со своей армией численностью теперь уже не более 26 тысяч. В рапорте от 11 декабря он сообщал, что склонен «заставить неприятеля в?ять инициативу на себя».
Вашингтон забеспокоился. 2 декабря Стентон телеграфировал Гранту: «Президента заботит склонность генерала Томаса держать войска на линиях фортификаций в течение неопределенного периода… Президент просит вас заняться этим делом». В тот же день Грант дважды посылал Томасу приказы, в которых требовал от него начать наступление. Томас ответил, что, вероятно, через два-три дня он будет готов.
8 декабря Грант телеграфировал Галлеку: «Если Томас еще не нанес удара, следует приказать ему передать командование Шофилду. Для отражения атаки нет лучше человека, нежели Томас, но я боюсь, что он слишком осторожен, чтобы когда-либо первому решиться на наступление».
Грант получил ответную телеграмму от Галлека по этому очень важному вопросу. Видимо, предварительно ее внимательно просмотрел или даже редактировал президент: «Если вы хотите освободить генерала Томаса, отдайте приказ. Однако ответственность будет целиком на вас, так как здесь никто, насколько мне известно, не хочет снимать Томаса».
Того же 8 декабря Грант сделал еще одну попытку. Он телеграфировал Томасу: «Почему бы не ата-1 ковать немедленно?» Но Томас все еще медлил. У Худа было в 4 раза больше кавалеристов, чем у него; Томас занимался ремонтом и надеялся довести число конников до 6 тысяч. Он телеграфировал Гранту, что в концентрации войск и в транспорте «я сделал все возможное». Грант, получив эту телеграмму 9 декабря, телеграфировал Галлеку, что ввиду того, что Томас до сих пор не перешел в наступление, «пожалуйста, телеграфно прикажите немедленно отстранить Томаса и назначить командующим Шофилда». Приказ был оформлен. Прежде чем телеграфировать в Нашвилл, Галлек спросил Гранта, настаивает ли он на отправке телеграммы. Грант ответил: «Задержите приказ до тех пор, пока мы не узнаем, что он собирается предпринять».
Томас созвал своих командиров корпусов и известил их о получении приказа атаковать Худа. Генералы согласились с ним, что их командующий не должен начинать бой, имея перед собой скользкие горы Нашвилла, до тех пор, пока все не будет подготовлено. Грант, не получив сообщений о начале наступления, телеграфировал 11 декабря: «Никаких дальнейших задержек». Томас ответил: «Выполню приказ при первой возможности. Вся местность покрыта слоем льда и слякоти». Он атаковал бы «вчера, если бы не было бури».
13 декабря Грант приказал Логану отправиться в Нашвилл и принять командование. Логан выехал. Вслед за ним сам Грант, впервые после того как он стал генерал-лейтенантом, отправился в путь на запад, в Теннесси, чтобы лично возглавить операции. Грант доехал до Вашингтона, Логан был уже в Луисвилле, штат Кентукки, откуда до Нашвилла оставалось меньше дня пути. Оба получили известие о том, что Томас бросил свои войска против армии Худа.
Впоследствии Худ писал: «Впервые мне довелось увидеть армию конфедератов, которая бросала свои позиции в таком беспорядке». Ни один разгром в этой войне не был таким сокрушающим. Одним из факторов, способствовавших победе, была кавалерия, из-за формирования которой Томас так долго медлил. Армия Худа как боеспособное соединение перестала существовать. Лишь отдельные подразделения, насчитывавшие в общем около 15 тысяч человек, были сохранены благодаря военному искусству генерала Фореста.
Шерман гордился победой своего друга «старины Тома». Ему предстояло описать это сражение в будущем как единственное в этой войне, в процессе которого «целая армия была уничтожена». В обращение была пущена метафора: «Скала Чикамоги превратилась в кувалду Нашвилла». Многие поспешили поздравить Томаса, в том числе Грант, Шерман, Стентон, Шеридан; поздравление пришло и от Линкольна 16 декабря: «Прошу вас, ваших офицеров и солдат принять благодарность нации за прекрасную работу, проделанную вчера. Вы легко можете добиться великих достижений. Не дайте им ускользнуть из ваших рук». Назначение Томаса на вакантную должность генерал-майора регулярной армии подписали Грант и Линкольн.
Грант старался координировать действия своих войск с таким расчетом, чтобы разгромить существовавшие тогда три армии конфедератов. После победы Томаса их осталось только две.
В это время на Севере бушевала пропагандистская кампания, целью которой было добиться отмщения за бесчеловечное обращение с пленными в лагерях южан. Они умирали от голода. Они ходили в отрепьях, их раны гноились, они превратились в живых скелетов. Самый страшный лагерь находился в Андерсонвилле. Пленные там сходили с ума либо кончали жизнь самоубийством, намеренно переходя линию, за пределами которой стражники пристреливали пленных, как за попытку к бегству.
Если бы Линкольн хотел отомстить Югу, если бы он присоединился к Таду Стивенсу и к той могущественной группе, которая намеревалась отомстить и наказать правящие круги Юга, он не мог бы пожелать более веской причины, чем Андерсонвилл. Он мог бы вызвать такую бурю ненависти, какой еще не было за все время войны.
Линкольн намеренно избегал дискуссий на эту тему. Наиболее остро вопрос стоял на четвертом году войны. В начале войны имело смысл использовать ненависть северян для того, чтобы сразу добиться наибольшей отдачи, но теперь к концу военной кампании ничего хорошего она не принесла бы – Линкольн надеялся на примирение и восстановление страны после войны. Поэтому он предпочел помолчать.
Линкольну твердили, что справедливость требует жестокого ответного удара, что нужно в отместку так же плохо обращаться с пленными конфедератами. Карпентер вспоминает прочувствованный ответ Линкольна конгрессмену М. Оделу:
– Как бы другие ни поступали, что бы они ни говорили, я не могу морить голодом людей. Я никогда не смогу и никогда не захочу быть причастным к такому обращению с людьми.
А в общем статистика показывала, что из каждой сотни пленных конфедератов умирало 12, а из сотни пленных юнионистов – 15.
Внутренние. раздоры угрожали существованию конфедерации в значительно большей степени, нежели голоД и отсутствие снабжения. В ноябрьском послании президента Дэвиса конгрессу конфедерации сквозило отчаяние, вызванное заговорами, изменами, шпионажем в собственном доме. Решения администрации любого штата оказывались более авторитетными и важными для жителей данного штата, нежели любые обращения ричмондского правительства. Убежденность в незыблемых правах штата, так же как и острая нужда в предметах широкого потребления или очередное военное поражение, подтачивали и отнимали жизненные силы у конфедерации.
Ричмондская газета «Виг» предложила отвергнуть название «Конфедеративные Штаты» и заменить его новым: «Объединенные нации объединенных республик». «К сожалению… наша конфедерация не представляет единого народа, это лига наций».
Когда пришло известие о разгроме и паническом бегстве армии Худа, некая миссис Чеснат записала в своем дневнике: «Я в полном оцепенении… Если нам предстоит потерять наших негров, пусть уж лучше их освободит Шерман, а не конфедеративное правительство. Освобождение негров – последний пункт помешательства конфедеративного правительства».
2. Конец тяжелого 1864 года
25 ноября 1864 года в 11 нью-йоркских отелях почти одновременно возникли пожары. Их быстро потушили нерастерявшиеся служащие. В саду Нибло, где 3 тысячи зрителей смотрели спектакль, поставленный в музее Барйума, а также в театре «Винтер-Гарден» раздались ужасные вопли: «Пожар!» Хладнокровные люди умерили размеры паники и потушили огонь. В этом эпизоде сыграл свою роль «двойник» – агент федеральной разведки, который доставлял предписания ричмондского правительства тайным агентам конфедератов в Канаде и который передал Стентону, Дана и Линкольну информацию, позволившую арестовать поджигателей. Одного из них повесили, остальных отправили в тюрьму.
Некто Джейкоб Томпсон, получивший от ричмондцев сумму в 300 тысяч долларов, действовал из Канады. Возможно, он надеялся, что ему удастся создать диверсионный шедевр в Чикаго. По его плану ночью 8 ноября по окончании выборов члены общества «Сыны свободы» должны были напасть на Кемп-Дуглас, освободить и вооружить 8 тысяч пленных конфедератов, «перерезать телеграфные провода, сжечь железнодорожные вокзалы, захватить банки, склады оружия и боеприпасов, обосноваться в городе и приступить к освобождению пленных конфедератов в Иллинойсе и Индиане».
Однако комендант Кемп-Дугласа своевременно узнал о заговоре и за два дня до выступления диверсантов арестовал заговорщиков. Один из них был приговорен к смертной казни, а остальные к тюремному заключению.
Было ли применение этих приемов южанами следствием их отчаяния и упадка духа? Ведь в начале войны они и не думали об использовании такой тактики.
Все способные воевать пошли на фронт, писала миссис Чеснат, «дома остались только старики и мальчики». Перед ней лежала газета, в которой перечислялись граждане Южной Каролины, убитые и раненные в битвах с частями Гранта. Сообщение о том, что Грант получил в один прием подкрепление в 25 тысяч человек, передернуло ее. «Старик Лин-, кольн на своем своеобразном жаргоне лесного человека говорит: «Продолжайте клевать их». А нам остается лишь признать себя расклеванными».
В Ричмонде она сделала покупки и уплатила «30 дол. за пару перчаток, 50 дол. за пару комнатных туфель, 24 дол. за 6 катушек ниток, 32 дол. за 5 жалких, захудалых носовых платочков». Немного времени спустя в Ричмонде будут говорить: «Идя на базар, вы берете полную кошелку денег, а все покупки приносите домой в кармане. По мере того как из месяца в месяц деньги конфедератов все больше обесценивались, все более печальным и жалким становилось дело южан».
Президент Дэвис рекомендовал своему конгрессу призвать рабов в ряды армии конфедератов. Для Севера и Европы это был знаменательный факт. По этому плану 400 тысяч боеспособных, вооруженных негров можно было бы бросить против армий федералистов. Рабство не отменялось, но призванные негры получили бы свободу. Различные группы в конгрессе конфедератов вежливо, но с нескрываемым презрением предлагали другие способы пополнения редеющих рядов армии.
В четвертый раз за время войны пришел декабрь. Линкольн готовил послание для конгресса.
3 декабря президент прочитал его своему кабинету министров. Материалы, представленные некоторыми министрами, фигурировали в послании неизменными, слово в слово. Уэллес писал: «В одном параграфе намечалась поправка к конституции, в которой предлагалось официально признать существование бога. Этот параграф не вызвал ни одного положительного отклика у министров. Прежде чем зачитать его, президент сам выразил свои сомнения, ибо этот параграф был ему навязан определенными кругами церковников».
Международное положение США было удовлетворительным. Предполагалось продать республике Либерия канонерку в рассрочку; намечалось проложить подводный телеграфный кабель в Атлантике; в Китае при содействии западноевропейских государств американцы подавили восстание; два порта во Флориде и один в Виргинии стали доступны для торговых судов, куда им было «выгоднее и безопаснее» заходить, нежели заниматься прорыванием блокады.
До сих пор в послании звучали идеи Сьюарда. Рука Линкольна проявилась, когда зашла речь о торговле черными рабами. «Что касается меня, то я не остановлюсь перед применением власти, совместимой с долгом президента и международными законами, для того чтобы не дать убежища в Соединенных Штатах врагам рода человеческого» (торговцам рабами).
Министерство финансов собрало более одного миллиарда долларов и почти столько же потратило на армию и флот. «Еще больше увеличить налоги» – это, очевидно, была точка зрения министра Фесендена, с которой Линкольн согласился.
Линкольн совершенно не упомянул термин «реконструкция». Слишком много недоверия вызывал этот термин. Однако президент подтвердил, что в штатах Арканзас и Луизиана, по 12 тысяч граждан в каждом, «организовали лояльные правительства штатов, создали свободные конституции и добросовестно стараются соблюдать их и самоуправляться».
Президент уделил место и слухам о мирных переговорах: «По здравом размышлении… ясно, что… переговоры с лидерами мятежников никаких положительных результатов не дадут…»
В то же время Линкольн оставлял как будто само собой подразумевающееся мнение о том, что, как только война кончится, сам он употребит всю свою власть для того, чтобы помочь южанам и поддержать тех из них, которым придется считаться с наличием в Вашингтоне горящих местью врагов: «Помилование и отмена конфискаций, однако, останутся привилегией верховной власти».
В отношении рабства президент высказался кратко, но более решительно, чем в любой другой части послания: «Повторяю заявление, сделанное мной год тому назад: пока я остаюсь на посту президента, я не сделаю никаких попыток отказаться или изменить смысл Декларации об освобождении, я не сделаю рабом ни одного человека, объявленного свободным в соответствии с условиями этой Декларации или постановлений конгресса. Если народ любым способом или формой решит, что обязанность президента вернуть в рабство этих людей, не я, а кто-нибудь другой будет орудием его воли».
Суховато, с чисто линкольнской невозмутимостью и законченностью звучал заключительный параграф, чуть окрашенный своеобразной иронией: «Утверждая, что существует единственное условие мира, я просто имею в виду, что наше правительство прекратит военные действия, как только их прекратят те, кто начал войну».
Этот документ получил самое широкое распространение. Армии федералистов понесли его в те районы конфедерации, где местные газеты не перепечатали послание из прессы Севера. Его обсуждали и штудировали в государственных учреждениях и на улицах Европы.
Анонимный друг Линкольна в лондонском «Спектэйторе» охарактеризовал это послание президента, как «более бесстрастное, более тонкое и вместе с тем более твердое, чем любое предыдущее». Условия мира, предложенные Линкольном, «точно такие же, какие любая европейская монархия обычно предлагает мятежникам». Его военная политика была такой же, как у римских патрициев, которые «щадили покорных, но добивали заносчивых». Его амнистия была обещана всем.
19 декабря бесстрастно, чисто информационно, как бы между делом, президент объявил о призыве в армию еще 300 тысяч человек.
После ноябрьских выборов пошли упорные слухи о том, что президент вскоре наметит другого министра вместо Стентона. Полковник Портер, адъютант Гранта, записал, что президент в беседе с главнокомандующим сказал, что, «если будет намечаться замена, он прежде всего даст возможность генералу высказать свое мнение». Грант ответил Линкольну, что он «сомневается, можно ли подобрать такого умелого человека, как теперешний министр». Грант лично был убежден, что Стентон «робкий» вояка, слишком свободно обращающийся с его телеграммами, но он не видел никого, кто мог бы соответствовать требованию момента.
А Стентон, хотя его здоровье пошатнулось, считал себя прообразом войны, метателем молний.
Однажды вечером он занял позицию у порога телеграфной комнаты военного министерства. Линкольн сидел у стола и писал. Стоя в проеме двери, Стентон принял воинственную, прямо-таки вулканическую позу. Телеграфист Чэндлер описал последовавшую сцену: «Мистер Линкольн вначале не замечал Стентона. Когда он кончил писать и поднял голову, он увидел министра. Он низко поклонился и произнес с очень серьезным видом:
– Добрый вечер, Марс».
Появились слухи, что предполагается перетряхнуть кабинет. Однако все это оказалось пустой болтовней. Линкольн вовсе не намеревался прибегнуть к метле.
– Я решил сделать как можно меньше замен чиновников министерств, когда настанет второй срок моего президентства, – сказал он одному посетителю. – Думаю, что я не побеспокою ни одного человека, если только он не совершит какого-нибудь проступка. Снять человека очень легко, но когда нужно посадить другого на его место, то набиваются десятка два желающих и из них девятнадцать обязательно становятся моими врагами.
Кому народ дал мандат, если судить по результатам выборов: конгрессу или президенту? Должен ли был конгресс бросить вызов президенту и урезать его права? Проверка состоялась в середине декабря. Генри-Уиптер Дэвис внес резолюцию, согласно которой конгрессу предоставлялось «конституционное право авторитетно высказывать свое мнение» в иностранных делах, а «конституционная обязанность президента иметь в виду это мнение… при дипломатических переговорах».
Не прибегая к обсуждению резолюции или к изучению вопроса, конгресс приступил к голосованию предложения члена палаты Фарнсворта отложить обсуждение резолюции Уинтера Дэвиса. Предложение было принято 69 голосами против 63 при 50 воздержавшихся.
Таким образом, в середине декабря 1864 года уважение и приверженность конгресса Линкольну висели на волоске: 50 человек колебались, не приняли решения, болели или не были заинтересованы в исходе голосования. Почти все голосовавшие за него принадлежали к его партии, против него – члены оппозиции в равном количестве, объединившиеся с членами его же партии. Большинство воздержавшихся также принадлежало к его партии.
Тад Стивенс знал, что демократы осуждали «решимость президента настаивать на отмене рабства». Когда ближайшие сподвижники президента упрашивали его пойти на компромисс, он отказывался. «С момента избрания Линкольна президентом он никогда не пользовался таким почетом у народа, как сейчас». Стивенс очень опасался, что если вести войну при помощи компромиссов и уверток, то борьба может кончиться без искоренения рабства.
Джон Памер, демократ-юнионист из Иллинойса, однажды прождал все утро в приемной Белого дома, пока ему не разрешили, наконец, войти к президенту. Как Памер потом рассказывал, Линкольн в этот момент был во власти брадобрея. Линкольн крикнул:
– Входите, Памер, входите! Вы свой. В вашем присутствии я могу даже бриться, чего я не могу сделать при других. А хоть изредка, но побриться ведь мне нужно?
Они поболтали о том, о сем, и под конец Памер откровенным и общительным тоном сказал:
– Мистер Линкольн, если бы кто-нибудь мне сказал, что в годину испытаний, такую, как сейчас, народ изберет президентом адвоката в одну лошадиную силу, выходца из городка в одну лошадиную силу, я бы этому не поверил.
Линкольн резко повернулся в кресле – лицо в мыле, полотенце под подбородком. Памеру поначалу показалось, что президент рассердился. Отстранив брадобрея, Линкольн нагнулся к Памеру и положил руку на его колено.
– И я бы не поверил, – сказал он. – Но это был момент, когда человек с твердой позицией оказался бы смертельно опасным для страны. У меня никогда не было раз навсегда установленной политической линии. Просто я, когда наступал новый день, старался сделать все как можно лучше.
Нельзя было пройти мимо действительной любви к своему Союзу, царившей в тысячах семейств; они в самом деле ненавидели рабство; со слезами на глазах, но тем не менее с готовностью посылали они своих сынов испытать счастье в борьбе со смертью на поле брани. Война означала не только грязь, разрушение и коррупцию.
Начиная с первой торжественной речи при вступлении в должность Линкольна не оставляло чувство смешного; хотя он иногда и фигурировал в роли комедианта, но с течением времени он постепенно начал более остро разбираться в тех возможностях, которые он мог использовать, применяя подобающим образом власть президента. Он научился наилучшим образом публично облачаться в мантию власти и выступать в ней как серьезный трибун. Он верил, что высокая должность обязывала его убедить членов конгресса, что описание «испытания огнем», которому они все подвергались, займет свое место в анналах истории и исполнители драмы будут оценены соответственно их роли.
В Геттисберге он выполнил сложный церемониал. В 1864 году в течение многих месяцев его авторитет держался на волоске, и он знал, что в тот период лучше было не подавать никаких реплик, а молчать; его так и не смогли заставить выступить с заявлением.
Одна из речей президента стала в декабре достоянием масс, и дошла она до них несколько необычным путем. Он вызвал к себе Ноа Брукса, чтобы тот «выслушал рассказ». Когда Брукс пришел, Линкольн еще дописывал его. Он попросил Брукса подождать. Линкольн утопал в комфортабельном кресле, он сидел в нем, скрестив ноги, на колене лежал листок бумаги. Вскоре он его отдал Бруксу. Заглавие было подчеркнуто. Оно гласило: «Последняя, самая короткая и самая лучшая речь президента».








