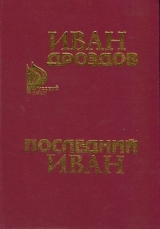
Текст книги "Последний Иван"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
И все-таки образ мудрого Шмакова не раз вставал перед глазами, и где-то в уголке сознания копошилась мысль о его политической зрелости и моей глупости. Молодость! Ей трудно даются уроки жизни.
Один за другим поднимались председатели приемных комиссий. Они тоже… Перечисляли степень готовности объектов, называли лучших строителей. Кому-то посоветовали вручить знамя. Потом я выяснил: это тому тресту, который «сдал» едва начатую фабрику.
И снова смотрел на Чернядьева – он все ниже опускал голову, на Воронина, Руссака – эти смотрели весело, лица их светились торжеством исполненного долга. И вдруг – плач, у окна встает женщина:
– Не могу, не могу принимать больницу, где еще нет и крыши! Мне же врачей пришлют, фонд зарплаты – я должна отчитываться, врать. Не подпишу акта, не подпишу!
Вслед за ней – другая женщина:
– Что же вы делаете? Сдаете школу-интернат, а там один фундамент! Я должна обманывать государство, писать ложные отчеты.
Совещание превращалось в спектакль, где вдруг стали разыгрываться драматические сцены.
Домой я пришел вечером. Сразу же сел писать статью «Пыль в глаза». Утром прочел ее, поправил и передал по телефону стенографисткам. Дня через три она была напечатана. Помню, рано утром мне позвонил «резиновая рука»:
– Газету свою видел?
– Нет, не видел.
– Ну, посмотри.– Выдержав паузу, добавил: – Заварил ты кашу.
Я понял: напечатали статью. И еще понял: тему копнул горячую и неизвестно, как она аукнется и мне, и редакции – и вообще, как ее примут здесь, в Челябинске, и во всей стране.
Вышел на улицу, пошел по проспекту Ленина. Первым встретился Шмаков. Он как раз в это время проделывал с собакой утренний моцион.
Встретил меня неласково, вяло пожал руку. Лицо красное, возбужденное. В глаза не смотрел.
– Надо было посоветоваться,– сказал, наконец. Взял меня за руку, пошли вместе.
– Мне, конечно, неизвестно,– продолжал он,– чем все это кончится, но ты, старик, не думай, что мы всего этого не знали.
– Я этого не думаю.
– Есть вещи за пределами наших интересов. Я, кажется, тебе говорил.
Я молчал. Разговор становился неприятным, Шмаков переходил грань правомерности такого разговора, но он был много старше меня, и я покорно выслушивал нравоучения. Он же распалялся все больше.
– Наконец, и меня подвел, и других коллег.
– Каким образом? – не понял я.
– Что скажет мой главный? Как посмотрят на это в редколлегии?
– Ну, если так подходить к делу… Тогда всякой темы надо опасаться. Я бы не хотел, Александр Андреевич,– сказал я твердо, устанавливая границы наших отношений.– Если же вы опасаетесь за меня, то не стоит. За свои дела я привык отвечать.
В тот день я не пошел в редакцию «Челябинского рабочего», не встречался с писателями, работниками обкома и в корпункте не сидел. Поехал в соседний совхоз, где директором был мой хороший приятель, Петр Иванович Нестеров. У него на столе лежал свежий номер «Известий».
– Там твой рассказ напечатан,– сказал Петр Иванович.
– Рассказ? Почему рассказ?
– А что же? Ну, статья.
Мой друг, сам того не желая, подметил главную сторону всех моих статей и корреспонденции: я писал их, как рассказы или как главы из повести. Сказывался мой литераторский зуд, мое естественное стремление не просто сообщать о фактах, поучать, давать характеристики, как это обыкновенно делают газетчики, а изображать факт, человека, начинать действие исподволь, затем развивать его, доводить до апогея и тщательно выписывать финальную сцену. Многим газетчикам такая манера кажется несерьезной. Она, кроме того, требует больше газетной площади, но я заметил: всякий, кто тяготеет к писательству, тот и стремится не вещать, а изображать. Читатель же видит тут к себе уважение: ему не разжевывают, а подают событие таким, каким оно было в жизни. Такие материалы охотнее печатают и с большим интересом читают. Еще Максим Горький, много проработавший в газете, сказал: каждый факт сюжетен. И писал не заметки, а миниатюрные рассказы.
Можно себе представить, с каким волнением я взял в руки газету и принялся читать свой «рассказ». К счастью своему, убедился, что никаких ошибок, опечаток в нем не было. Отодвинул газету, ждал, что скажет мне приятель. А он не торопился, хотя я чувствовал, что Петр Иванович понимает, что материал этот не рядовой и для меня необычен.
– Много я прочитал твоих статей, но эта…
Кажется, он умышленно тянул, нагнетал напряжение. Помогал жене накрывать на стол, покачивал головой.
– Жалко, что придется нам расставаться,– сказал он не ожиданно.
– Да почему?
– А потому, друг мой, что в нашем волчьем мире таких вещей не прощают. Никому! – Несколько минут он молчал, потом заключил: – И Аджубей тебе не поможет.
Я возразил:
– Если уж отвечать придется, то и мне, и ему, как редактору. Их-то бьют еще больнее.
– Кого-нибудь, может, и бьют, а его не ударят. Пока у него тесть…– Петр Иванович ткнул пальцем в потолок,– не ударят!…
Вечером заехал в «Челябинский рабочий» к Дробышевскому. Вячеслав был, как и прежде, будто бы весел, любезен, но в глаза мне не смотрел, был суетлив и говорил о пустяках с нарочитой, плохо скрываемой беззаботностью. Когда он на минуту вышел из кабинета, ребята, тут вертевшиеся, сказали:
– Он только что с бюро обкома. Там твою статью признали неправильной. Будут писать в ЦК, требовать опровержения.
– А что опровергать? Объекты приняли, а их просто нет. Пусть приедет комиссия, проверит.
– А-а… Брось ты! Комиссия? Кому это надо? Кто руку поднимет – на обком, на Лаптева? Он-то – член ЦК. Нет, старик, ты тут, конечно, дал маху. Таких вещей не прощают.
– В это время в кабинет редактора вошел Киселев – «резиновая рука».
– Бросьте вы каркать! – прикрикнул на товарищей.– Привыкли на пузе ползать, а человек не хочет! Он прямо ходит, с поднятой головой. Размахнулся и врезал им – вралям и бюрократам! – Положил мне на плечо руку: – Не горюй, друг! Пусть они тебе морду расквасят – на то драка, но уж как им ты врезал – по всей земле звон пошел! Говорят, статью твою на английский перевели, по всей Европе передают.
Мне бы хотелось побыть наедине с Дробышевским, пойти к нему домой, но я понимал его щекотливое положение,– к тому же, они, члены бюро обкома, обыкновенно строго хранят тайны, и он мне ничего не расскажет. Махнул рукой и пошел домой. Здесь беспрерывно звонил телефон. Меня поздравляли, благодарили за статью. Не все называли свою фамилию, да мне это и не надо было, но все говорили одно и то же: у них давно заведено так, и это узаконенное вранье дорого обходится государству: объекты превращаются в долгострой, работы на них, хотя и ведутся, но качество плохое, строители работают урывками, кое-как, но, главное, неприятно, унизительно сознавать, что без вранья, без этого всеобщего взаимонадувательства мы жить не можем.
Телефон звонил беспрерывно, но я лег на диван, бездумно смотрел в потолок. Ждал звонка из Москвы. Междугородний звонил по-особому, резкими, короткими звонками, однако редакция молчала. Часу в двенадцатом, когда я уже спал, раздались звонки междугородние. Звонил Мамлеев, из дома:
– Как там? – спросил тревожно.
– Состоялось бюро обкома.
– Ну! Что решили?
– Официально не сообщали, но будто бы… возражают. Требуют опровержения.
Мамлеев молчал. Видно, и его мое сообщение озадачило.
– Да-а-а…– протянул он, наконец.– Скверно!
И долго дышал в трубку. Потом сказал:
– Ну, ладно. Бывай.
И наступила тишина. Накинул халат, прошелся по квартире. Встал у окна, смотрел на затихающий в полночь город. Из окна мне виден был Политехнический институт, тыльная часть театра и вдалеке, в свете тухнущего зарева городских огней, силуэт огромного здания обкома партии. Маленьким и ничтожным, и неуместным в этой жизни человеком казался я себе в ту минуту. Клюнул на брошенную мне приманку, отдался во власть минутным страстям, ложным эмоциям – не подумал о чем-то большом и важном, о том, что заложено в основу нашей жизни – всей жизни огромной, необъятной страны, миллионов и миллионов людей. Среди телефонных звонков был и один сердитый, злой: «А вы подумали, что нам не дадут премии. Тысячам людей! Чем мы детей кормить будем?» В самом деле: они-то, эти люди, при чем? Статья вышла, и что же?… Жизнь пойдет по-старому, все будут лгать и обманывать друг друга и правительство. А правительство, как и прежде, будет знать, что его обманывают, и делать вид, что ничего этого не знает. Боже мой! Да что же это за государство такое мы построили? Королевство кривых зеркал!… Цирк, где представляют одни клоуны и фокусники!
Заснул под утро. Телефон отключил, и он мне не мешал спать до полудня. А когда проснулся и включил телефон, то дежурная мне сказала:
– Вам много раз звонили из Москвы. Просили позвонить.
Связался с редакцией и узнал: в Челябинск срочно на самолете отправилась комиссия ЦК.
– Будь на месте. Тебя могут пригласить. Хорошо бы тебе иметь в запасе больше материала, чем ты изложил в статье.
Я ответил, что использовал в статье лишь пятую часть имеющихся у меня фактов.
От этой новости я испытал некоторое облегчение. Комиссия есть. Комиссия – свежие, независимые от обкома люди. Как бы там ни было, а они-то уж будут вынуждены зафиксировать правду.
Позвонили в квартиру. Открыл дверь: на пороге – профессор Чернядьев.
– Ехал на работу, зашел к вам.
Профессор испытывал некоторую неловкость. На заседании исполкома он молчал. Теперь его мучили угрызения совести. Я сказал:
– Понимаю, почему вы молчали на исполкоме. Вам же тут работать.
– Да, конечно, вы правы, но теперь и я решил пойти в атаку. Одним из первых меня вызвали на беседу к членам комиссии.
– Но комиссия только что вылетела из Москвы.
– Утром мне звонили из ЦК. Просили быть на месте. Им будто бы дали мало времени – два дня. Статью будут обсуждать на Политбюро.
– Неужели?
– Да. Хрущев приказал. Он сам будет вести Политбюро. И я решил выйти из засады, встать рядом с вами и отстаивать правду. Все равно уж… Не стану я работать в обстановке такого обмана.
Весь этот день я пробыл у себя дома. И даже в магазин, и в столовую не выходил – ждал вызова. Но вызова не последовало. Комиссия работала, я знал, кого вызывали, кого спрашивали, но меня не приглашали. Видимо, от меня хватило и того, что было написано в статье.
Назавтра в полдень комиссия улетела. И снова тревога, ожидание. Из редакции не звонили, видимо, и там с тревогой ждали развязки. И никто из местных журналистов, писателей и тем более должностных лиц, состоявших со мной в дружеских отношениях,– никто не звонил и ко мне не заходил. Звонили только простые люди, читатели газеты, рабочие, строители, сельские труженики. Они поздравляли, благодарили, высказывали пожелание побыстрее вскрыть и другие язвы, а их, этих язв, было много, и каждый предлагал свои факты, свои услуги. Я записывал, обещал заняться, изучить, но понимал, что слишком много уж записал в блокнот и вряд ли успею во все вникнуть, все изучить, обо всем написать.
Утром следующего дня стало известно: главное челябинское руководство вызвано в Москву. Среди них – все секретари обкома, председатель облисполкома, председатель совнархоза, управляющие трестами.
А утром следующего дня я развернул газету – на третьей странице броским шрифтом заголовок: «В Челябинском обкоме КПСС». Статья на две колонки – и подпись: «Секретарь обкома Б. Руссак».
Стал читать. Обком признавал статью «Пыль в глаза» правильной, подробно перечислялись положения статьи, с которыми обком выражает свое согласие.
Вот теперь я мог облегченно вздохнуть. Впрочем, как еще повернут дело на Политбюро? Вдруг укажут главному редактору на неуместность выступления, на нарушение какой-нибудь этики в отношениях с обкомом?
Наконец вечером стали поступать некоторые вести. Первым позвонил редактор «Челябинского рабочего» Вячеслав Дробышевский. Почти все первые лица области сняты с работы, секретарь обкома Б. В. Руссак и первый секретарь горкома Воронин исключены из партии. Первый секретарь обкома Н. В. Лаптев сильно наказан, председатель облисполкома внезапно заболел…
Я вышел на улицу. И первым, кого встретил, был Киселев. Здоровой рукой он показал на обком партии, сказал:
– Долго они тебя будут помнить.
И заспешил в редакцию.
А через несколько дней отстранили от должности и первого секретаря обкома. На его место приехал другой – М. Т. Родионов. Как обыкновенно случается в подобных ситуациях, Первый знакомится с корреспондентским корпусом. Приглашает их на беседу – как правило, по одному. Родионов тоже стал приглашать собкоров центральных газет. Разумеется, начал со Шмакова. Как мне доложили, долго и дружески с ним беседовал. Я снова оставался дома, ждал приглашения, но, к моему удивлению, после Шмакова Первый пригласил корреспондента «Труда». Затем – представителя «Комсомольской правды». Меня не приглашал. Я терялся в догадках. Такое откровенное и грубое нарушение этикета, такое пренебрежение к «Известиям» мне казалось непонятным. А тут вдруг в «Правде» появилось постановление ЦК КПСС о челябинских очковтирателях. В постановлении прямо говорилось, что оно принято по статье «Пыль в глаза», напечатанной в «Известиях». И называлась моя фамилия. И тем не менее меня не приглашали. Родионов будто был заместителем министра иностранных дел. Хорош дипломат!
Словом, ничего не понимал я в этих играх. Позвонил главному. Рассказал, что меня игнорируют, не приглашают… Аджубей ответил не сразу. Проговорил глухо:
– Ты там работать не будешь. Вылетай в Москву.
– Как? Почему, Алексей Иванович?
Опять ответил не сразу. Спросил:
– К тебе на прием сколько пришло человек вчера?
– Человек пятнадцать принял. И не всех успел.
– Ну вот. А в приемной обкома всего четыре человека было. Пословицу русскую помнишь: «В одной берлоге два медведя не живут»? Собирайся и – в Москву.
На мое место в Челябинск прислали журналиста из Свердловска Ефрема Бунькова. Я увидел первую ласточку из той категории журналистов, которую избрал Мамлеев для формирования внутренней корреспондентской сети. Вскоре по приезде в Москву я увижу и других новых собкоров. Они подбирались по принципу: еврей, полуеврей или породнившийся с ними. Буньков был полуеврей. Он имел вид подростка с помятым старческим лицом. «Любитель выпить»,– подумал я о нем, искренне жалея, как я жалел всех известинцев, имевших пристрастие к вину. Положение корреспондента обязывало быть высокоморальным и совершенно трезвым человеком. В то же время у корреспондента на каждом шагу подворачивалась ситуация с винопитием и если он имел эту слабость, то рисковал быть вечно непросыхаемым.
Осмотрев мою квартиру, Буньков сказал:
– Хороша, но мала. У меня больная сестра, ей нужна отдельная комната.
Вечером принес вина, водки и сильно напился. А утром, похмелившись, спросил:
– Как думаешь, мне позволят подписывать корреспонденции полным именем: «Ефрем Буньков»?
– Не знаю. Собкоры, вроде, так не подписываются. Такое право у именитых журналистов-спецкоров… Евгений Кригер… и так далее.
– Буду просить главного. Нельзя иначе, сам понимаешь,– неприлично звучит.
Я представил его подпись с именем, обозначенным одной буквой, и – рассмеялся.
– Пожалуй,– утешил коллегу,– редакция разрешит.
Но редакция не позволила сразу зачислить Бунькова в классики – предложили заменить имя, и он из Ефрема превратился в Семена. Подписывал свои заметки: «С. Буньков». Говорю – «заметки» потому, что статей он не писал, а посылал в редакцию лишь короткие информации, да и те редко. А через год или полтора его за пьянство и аморальное поведение исключили из партии и сняли с работы.
С грустью покидал я Челябинск, край невысоких гор, синих озер, горных лесов и безбрежных полей. Там я жил полной интересной жизнью: ездил по заводам, рудникам, колхозам, совхозам. Имел много друзей. Зимой и летом ходил с ними на рыбалку, а в охотничий сезон – охотился. Тогда еще там были чистые реки, озера, в лесах водилась дичь. Со своих полей челябинцы снимали по 120 миллионов пудов зерна, а Курганская область, Оренбуржье и Башкирия – и того больше.
Ни умом, ни сердцем не мог уяснить того, что со мной произошло. От кого и за что я получил жестокий щелчок по носу? Редактор «Челябинского рабочего» Вячеслав Дробышевский по секрету высказал предположение, что новый секретарь обкома, получая назначение, поставил условие, чтобы меня в Челябинске не было,– может быть, и так, но от этого мне было не легче. Выходит, несправедливость творилась на самом высшем уровне.
Так или иначе, но… надо было уезжать. Я расставался не только с прекрасным краем, но и с полюбившимися мне людьми. На журналистских дорогах много встретишь людей, иные станут приятелями, друзьями, но дороги эти дальние, езда по ним быстрая – расставания так же часты, как и встречи. И редко-редко прикипевший к сердцу человек встретится вновь на твоем пути.
Месяца два я был без должности, не каждый день ходил на работу, а придя в редакцию, слонялся без дела. Зайти было не к кому – из прежних известинцев почти никого не осталось. В отделах было много народу, галдели, суетились незнакомые люди – все больше молодые. Я теперь внимательно присматривался к их лицам, находил общие черты – то были евреи. Постепенно вырабатывалась способность различать людей по национальному признаку, впрочем, у нас было только две национальности – евреи и русские. И еще одна категория людей заметна была в новой редакции и среди новых авторов газеты – полуевреи. Потом я узнаю, что много полукровок работает в ЦК партии, Госплане и Совете Министров СССР. Там их называли «черненькие русские».
Я уже думал, что обо мне забыли, что скоро надо будет оформлять расчет. Зашел как-то к «тишайшему» – Алексею Васильевичу Гребневу. Он по-прежнему был вторым замом и «тянул» всю газету.
– За что со мной так? – спросил я Гребнева.
Он долго елозил синим карандашом по пахнущей свежей типографской краской полосе и делал вид, что меня в кабинете нет. Потом, не поднимая головы, спросил:
– Как?
– А так. Статью напечатали, на всех уровнях одобрили, а меня – по шапке.
Он снова долго, старательно чертил карандашом, шумно дышал. Потом стал легонько напевать. А уж затем оторвался от полосы, взглянул на меня сквозь толстые стекла очков. Карие глаза его, увеличенные очками, казались бездонными.
– А ты чего хотел? Премию, орден?… Другим накидал синяков и шишек, а как его задели – сразу в слезы! Ну, нет, брат, в драке так не бывает.
И снова уперся взглядом в полосу газеты.
Я поглубже уселся в кресле, приготовился слушать. В по-отечески доброй, участливой интонации слышал готовность собеседника подробно обсудить мои дела, сообщить мне что-то важное. К тому времени я уже хорошо знал этого благородного, умнейшего человека, его полушутовскую-полусказочную манеру говорить с молодыми сотрудниками; не однажды слышал, как он в подобном же роде говорил и с евреями, но в этих случаях грань откровения опускалась ниже, и добрых, отеческих советов он им не давал. Наверное, они улавливали эту разницу, может быть, о ней догадывались, но если русские отзывались о Гребневе с неизменной теплотой, то евреи о нем говорили редко, а если упоминали, то не иначе как с иронией, называя его «тишайшим».
– Мы в какой стране живем? – спросил он неожиданно, и так тихо, что я едва расслышал.
– В России, Алексей Васильевич. При самом справедливом социалистическом строе.
– В России, говоришь? – возвысил он голос.– Ну вот, ты опять все перепутал. Даже не знаешь, в какой стране мы живем. Ты институт-то кончил или так… по коридорам прошел? Страна у нас Советским Союзом зовется, а ты – Россия… Где она, твоя Россия? Сказал бы еще – РСФСР, а то – Россия. Запиши себе в блокнотик, а то еще скажешь где-нибудь.
И вновь чертил карандашом, и тяжко вздыхал, и – пел. И покачивал головой, сверкая очками.
Я смотрел на него с сыновней любовью, вспоминал, как он до войны и во время войны работал на Дальнем Востоке редактором «Приморской правды», а полковник Сергей Семенович Устинов, мой прежний начальник по «Сталинскому соколу», редактировал там военную авиационную газету «Тихоокеанский сокол». Мой друг по военной журналистике Сережа Кудрявцев, работавший в этой газете, любовно называл ее «Тихоокеанским чижиком»… Все это перебрасывало незримый мост между мной и Гребневым, рождало, как мне казалось, особое дружеское доверие.
– А кто нами правит? – оторвался он от полосы и в упор нацелился очками.
– Нами… Аджубей Алексей Иванович.
– А им кто правит?
– Им?… Ну, там сидят… на Старой площади. Наверное, сам генеральный секретарь.
– А тем кто правит?
– Над тем власти нет. Он и есть власть… надо всеми.
Гребнев качал головой. И в глазах его я читал искреннее сочувствие, будто он жалел меня за то, что я простых вещей не понимаю.
Он снова взял в руки карандаш, склонился над полосой. И чертил долго, и уже не пел, не вздыхал шумно, а о чем-то сосредоточенно думал. Потом так же тихо, как и вначале, заговорил:
– Сталин на что был крут и горяч, а все тридцать лет смирненько сидел в кармане. У кого? А?… Не знаешь?… Чего же ты тогда знаешь. А еще собкором на Урале работал! А таких простых вещей не знаешь. Ну так вот, сидел и посиживал. И очень ему хотелось на травку выбежать, босиком побегать, ан нет, не пускали. Кто не пускал? А уж этот вот вопрос самый главный.
Я, конечно, понимал, у кого в кармане сидел Сталин, и от кого мы теперь с ним зависели в газете,– понимал, но молчал.
Алексей Васильевич выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда бумажку. Разглядывая ее, проговорил:
– В конце прошлого века у нас в России организовался так называемый Ишутинский кружок «Ад». Ты не слышал о нем?
– Нет, не слыхал.
– Так вот, в программе этого кружка было записано: «Личные радости заменить ненавистью и злом – и с этим научиться жить».
Он спрятал в столе бумажку, тихо добавил:
– Иди домой. И жди звонка из редакции.
Я ушел, а дня через три мне позвонили из редакции: приказом главного редактора я назначен специальным корреспондентом.
Меня, конечно, эта весть обрадовала. Должность мне дали престижную – она была более высокой, чем собственный корреспондент по Южному Уралу.
Постоянного места у меня в редакции не было. По новому положению я мог приходить на работу, а мог и не приходить, однако не чувствовал за собой такого права, каким обладали «классики» газеты. Надо сказать, что к тому времени в узкий ряд специальных корреспондентов втиснулись новые люди: Аграновский, Морозов и еще кто-то. Они сразу же повели себя как «классики» – на летучках сидели особняком, ближе к главному, в редакции не появлялись неделями. Меня же безделье томило, а сознание бесполезности не давало покоя. Почти каждый день приходил я в редакцию, примерялся, где приклонить голову и что делать.
В отделе советского строительства, в комнате, где сидела Елена Дмитриевна Розанова, был свободный стол. Севриков мне сказал:
– Ты будешь при нашем отделе, располагайся здесь, рядом с этой очаровательной женщиной.
Елена Дмитриевна улыбнулась, пригласила садиться.
Итак, в промышленном отделе была Елена Дмитриевна Черных, здесь – Елена Дмитриевна Розанова.
В первый же день я мог наблюдать разительную несхожесть в характере, в образе поведения этих двух женщин. Та пребывала в гордом одиночестве, редко кому звонила и, кажется, не имела друзей; эта звонила беспрерывно, и беспрерывно звонили к ней. Шли люди,– главным образом, женщины, и все еврейки. Русской женщины я возле нее не видел,– даже из отдела писем, по делам, связанным с газетой, к ней присылали евреев.
Сама Елена Дмитриевна казалась мне русской: будто бы и черты лица славянские, и глаза серые, волосы прямые, русые. Кто-то мне сказал, что она внучка или правнучка знаменитого русского философа Розанова, наследует его уникальную библиотеку и будто бы даже у нее же хранятся какие-то важные рукописи – труды деда по философии.
Но вот поди ж ты, разберись: связи у нее лишь с миром еврейским и, если звонить примется, так же, как и ее подружки, адвокатствует за них же, за евреев.
Вскоре я насчитал десятка полтора вьющихся возле нее «летучих», нигде в штате не работавших журналисток: Ольга Чайковская, Марина Вовк, Изабелла Кривицкая… Они сидели у нас часами, перемывали столичные новости и непрестанно звонили. Звонили здесь, по Москве, и в разные города страны, и даже за границу. Болтали подолгу – минут по двадцать, и все, конечно, за счет редакции.
Я со все большим интересом наблюдал за их действиями, вслушивался в разговоры. Постепенно они привыкли ко мне, видимо, принимали за круглого дурака,– и звонили, звонили.
Цель у них была одна и та же: порадеть за своего, похлопотать, защитить, протолкнуть в институт, в престижное учреждение. И в каждом разговоре не преминут козырнуть именем главного редактора.
– Мне поручил Аджубей Алексей Иванович… Вы уж, пожалуйста, проследите лично…
В тех или иных вариациях эта фраза фигурировала почти в каждом разговоре.
Елена Дмитриевна, как мне казалось, была умнее большинства своих подруг и частенько с тревогой взглядывала на меня,– будто бы испытывала неловкость.
Некоторое время я не предлагал никаких тем – приноравливался к своему новому положению. Но посетительницы нашей комнаты знали меня по прежней работе, наверняка читали мои статьи, очерки, репортажи.
Надо сказать, что все эти дамочки, налетевшие на газету, как мухи на сладкий пирог, начисто были лишены способности писать – в этом я вскоре мог и сам убедиться, но мне казался совершенно фантастическим и необъяснимым тот факт, что все они в сумках, папках носили вырезки своих собственных выступлений – в газетах, журналах – и охотно их показывали.
Впрочем, со временем для меня стала приоткрываться завеса и над этой тайной.
Как-то Марина Вовк в разговоре, как бы между прочим, стала называла мои статьи и наиболее удачные, как ей казалось, заголовки, сюжеты, персонажи. И тут же излагала план своей статьи, которую мечтала написать и уже собрала материал. Поинтересовалась, как бы я построил сюжет статьи, с чего бы начал, чем бы закончил.
Я охотно развивал свой взгляд на ее статью, предлагал на выбор заголовки и, главное, сообщал соображения по поводу сюжета, композиции, и даже эпизоды один за другим выстраивал в нужный порядок. Она тут же записала нашу беседу, а дня через три-четыре подсунула мне свою объемистую записную книжку, сказала:
– Иван! Набросай начало, ну что тебе стоит?
Я стал набрасывать начало. А она, видя мою сосредоточенность, выводила из комнаты подружек одну за другой, наконец и саму Елену Дмитриевну, «чтобы не болтала по телефону», увлекла за собой в коридор.
Зная в подробностях материал, я «набрасывал» абзац за абзацем, писал час, а может, и больше – женщины не входили. Я подумал: «Напишу-ка ей всю статью! Что из этого выйдет? Неужели и она, как тот "выдающийся" фельетонист?…»
Писал до обеда. И никто ко мне не входил – Вовк, как волк, надежно стерегла двери.
Выходя из комнаты, вручил ей блокнот и пошел в буфет. Тут одиноко сидела за столом и пила кофе Елена Дмитриевна. Подозвала меня, посадила рядом.
– Что будешь есть? – спросила фамильярно.
– Пару котлет и чашку кофе.
– Сиди, сейчас принесут.
Через две-три минуты принесли обед: две большие котлеты, обрамленные сложным и вкусным гарниром, круто заваренный кофе и чашечку сливок.
– Ну, Марина, ну, Марина!…– качала она головой.– Вы ведь, наверное, всю статью ей написали?
– Набросал некоторые мысли.
– Знаю, как «набросал», знаю. Ну, Марина…
Я сказал, что помогать женщине – наш мужской долг, и тут я не вижу ничего особенного. Подруга ваша – женщина одинокая, она будто бы нездорова, как ей не помочь?
– Здоровье – да, у нее неважное. Однако живет она…
Тут Елена Дмитриевна запнулась и больше о своей подруге не распространялась. Святой ее гнев мне был понятен: она много лет работала в газете и никогда не печаталась. Ей был неприятен такой напор подружки, ведь в случае опубликования статьи та приобретала репутацию серьезного журналиста. Впрочем, эту репутацию она уже имела. Теперь она устремлялась к славе маститого публициста. Интересно, каких высот можно достигнуть таким образом?…
После этого Марина Вовк долго у нас не появлялась, а на шестой день статья ее была опубликована, но не у нас, а в другой газете. И дана броско, заголовок набран аршинными буквами, между главками много воздуха. И вверху полужирным шрифтом: «Марина Вовк».
Читал статью и дивился: мое и не мое. Весь текст, который я «набросал» ей в блокнот, был здесь, в статье, но по нему как-то неловко и даже нелепо разбросаны другие, чужеродные слова, ничего не прояснявшие, а, казалось, лишь затемнявшие и запутывавшие смысл написанного.
– Ну что, узнали свою статью? – спросила Елена Дмитриевна.
– Она добавила своего текста, но, по-моему, лучше бы не добавляла.
– Ах, господи! Что там она могла добавить! Ей легче танцевать чечетку, чем писать статьи.
Чечетку? М-да-а…
Мы оба невольно рассмеялись. Вовк в свои пятьдесят лет казалась совершенной развалиной: это была очень полная низкорослая, не имевшая шеи женщина. Рыжие волосы ежовыми колючками торчали по сторонам, желто-зеленые глаза, хотя и обращались к вам, но смотрели один в левую сторону, другой – в правую.
Как-то я в Донбассе заехал в байбачий питомник и увидел там байбаков – древних жителей Приазовской степи. Глаза у них высоко на лбу и все время тревожно оглядывают пространство над головой: зверек боится орлов и все время смотрит в небо… Мне невольно вспомнилась Вовк. Было в ее фигуре, но особенно в глазах, что-то общее с этим жителем Приазовья.
Интересно, что и после опубликования статьи она к нам долго не заходила, а когда пришла, то о статье не проронила ни слова. Розанова ее спросила:
– Статью напечатали?
– Да, тиснули в одной газете, но, гады, как всегда, испортили.– И, повернувшись ко мне: – Тебе, Иван, спасибо: твои наброски пригодились.
В тот день она пришла на редакционное совещание; сидела в ряду «классиков», недалеко от главного редактора. И вид у нее был почти величественный.
В «Известиях» аджубеевского периода я воочию наблюдал в евреях удивительную черту – занимать любой пост, лишь бы он дался в руки, при этом нимало не заботясь об успехе дела. Слов «Я не справлюсь, у меня нет знаний и опыта» они не ведали. Лишь бы царить, лишь бы захватывать власть!
Но – журналистика! Как певцу нужен голос, спортсмену – ловкость и сила, журналисту нужна литературная одаренность. Но так думал я. Марина Вовк и почти все другие посетительницы нашей комнаты так не думали.
Скромнее всех из них была моя «vis a vis» Розанова. Но у нее были свои таланты: она точно знала, какая статья пройдет легко, какую надо проталкивать, а какая и вовсе не пойдет.








