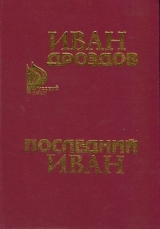
Текст книги "Последний Иван"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
И вроде бы неплохой заголовок, но ему не нравится. Я еще подумал: «Строгий автор, такой может хорошо написать». Я тоже думал над заголовком, перебрал несколько вариантов, но ни в одном не было чувства, лиричности. А теперь меня осенило: «Катюши поют на рассвете». Обрадовался, но тут же подумал: «А как же скажу ему? Мне-то он ничего не говорил о своих записках. Если сошлюсь на Карелина, выйдет, что он разболтал их секрет».
Стороной сознания бежали мысли: «Уж не хочет ли посоветоваться по поводу своих записок?» Вполне возможно, что поэтому он и жался ко мне. Он в душе литератор, и ему для общения нужен человек, близкий по делу и по духу. Дружит же он с художником Судаковым. Сам рисует и к художнику тянется.
Являлись и другие догадки. Мы с ним земляки. Смотрел мое личное дело и увидел: земляки! Почти соседи. К тому же одногодки, и на фронте были примерно в одном положении,– наконец, он просто одинокий, ищет общения с человеком, который ничего у него не просит.
Вспомнил, как однажды зимой, в метель, он позвал меня и предложил погулять пешком. «Мало хожу,– говорил, словно оправдываясь.– На работе с восьми до восьми, сижу не разгибаясь». Шли по заснеженным улицам, пряча лицо в воротники пальто. Хотели зайти в Дом литераторов, но там у подъезда толпилось много писателей. Свиридов не хотел попадаться им на глаза. У ресторана «Арбат» нас свирепо оглядел сверкавший золотыми галунами швейцар. «Мест нет». Я предложил:
– А зайдем к Блинову. Он тут недалеко живет.
Свиридов нехотя согласился. Видно, очень хотелось выпить. Позвонили. Дверь открыл Андрей Дмитриевич.
– А-А… Иван. Проходите.
В коридоре мы разделись, прошли в указанную хозяином комнату. Дворцовая мебель, в шкафу светилась позолотой редкая, дорогая посуда. Тут Блинов узнал Свиридова.
– Николай Васильевич! Вы ли?
– Ну! А кто же?
– Вот хорошо! Я очень рад! Вы подождите, я сейчас…
И он метнулся на кухню.
На столе вмиг появилась батарея бутылок. Тут и египетский ром, и французский коньяк… А скоро и фирменная блиновская картошка подоспела. Выпили по рюмке, по второй… Блинов подступился к гостю:
– Николай Васильевич! Нам бы картона на твердые обложки прибавить, качество набора улучшить. В Туле неважно нас набирают.
Я дергаю его за штанину: «Дескать, о делах-то не надо бы…» Но Блинов тронул меня за плечо – ты, мол, не беспокойся. И продолжал свои служебные, деловые просьбы.
Любопытно, что, когда мы очутились на улице, Свиридов ничего не сказал о назойливых просьбах Блинова.
Андрей Дмитриевич потом у меня спрашивал:
– Вы с ним приятели?
– Да нет, случайно выходили из Комитета и вот – решили зайти.
– Ладно, ладно, Иван. Молодец, что не рекламируешь дружбу свою с председателем. Но я все вижу. Я мужик вятский и всякий нужный мне предмет под землей разгляжу. Председатель – это, брат, не шутка. Я к нему только вчера на прием ходил – так меня в очередь поставили, через неделю обещали к нему пустить, а тут смотрю – сам пожаловал. Нет, это великолепно! Пусть больше дает материалов, лучшие машины…
– Но я против того, чтобы вот так, дома, за столом…
– Ах ты, наивный человек! Да за рюмкой вина все дела и делаются. На Урале работал, в Донбассе, а простых вещей не понимаешь.
Как-то мы со Свиридовым снова шли по улицам зимней Москвы, и я снова предложил зайти к Блинову. Николай Васильевич не пошел. Видимо, представил, как бы нас встретил Блинов: «Во,– скажет,– повадились!…»
И прост бывал Свиридов, и строг, и деликатен.
На этот раз он крепко спал во времянке. И проспал часа три, а когда проснулся, мы пригласили его на веранду обедать.
Обычно молчаливый и с виду нелюдимый, на этот раз был он весел, оглядывал сад, говорил:
– Раскулачивать вас надо. И Фирсова, и Шевцова! Живете как господа.– Но тут же теплел: – А вообще-то бедненько живет русский писатель. От книг Шевцова, Блинова,– а теперь и ваши книги пошли…– миллионы прибылей имеем, авторам же платим гроши. Несправедливый закон оплаты творческого труда,– по-моему, самый несправедливый в мире.
Я что-то сказал о Суслове,– он, мол, там всем заправляет.
– Суслов – да, наш Ришелье,– заметил Свиридов.– Но Брежнев… Этот еще себя покажет.– И затем тихо добавил: – Мы еще хлебнем от них.
Меня поразила степень откровенности Свиридова. Он долгое время работал в ЦК, многое знал о партийных лидерах.
Спустя год или два я сказал об этом Свиридову,– посоветовал быть осторожным.
– Не беспокойся,– ответил он.– Я вижу людей. Кажется, еще ни разу не ошибся.
Мне очень хотелось быть ему полезным. Я сказал:
– Вы служили в первом дивизионе гвардейских минометов. Хорошо бы воспоминания написать,– вроде того, как Верши-гора написал о партизанах или Медведев.
– Думал над этим. И кое-что набросал, но заголовка хорошего нет. А заголовок – первое дело для книги, можно сказать, это полкниги, а то и больше.
– Ну, какой-то нибудь есть заголовок?
– Нет, хорошего нет.
– «Катюши», кажется, били на рассвете?
– В основном – да.
– Так, может, такой подойдет заголовок: «Катюши поют на рассвете».
Свиридов задумался. Взгляд его оживился, он сказал:
– О! Это интересно. Это, кажется, то, что надо.– И дважды повторил: – «Катюши поют на рассвете». И образно, и поэтично. Спасибо. И как он мне не пришелся? Много лет ломал голову, а тут… За одну минуту.
– Заголовок – дело случайное, мне это тоже трудно дается.
На ночь Свиридов не остался. Вечером уехал. Я же, проводив его, невольно думал: «Наверное, прослышал про мои затеи в издательстве и, может быть, хотел поговорить о них, но из деликатности не стал заводить служебных бесед».
Впрочем, может быть, это и не так,– им скорее всего руководят мотивы иного толка – желания вполне земные. Человек, как и все живое, ищет общения с себе подобными.
Проводив Свиридова, взял палку, пошел в лес. Две-три рюмки смородиновой настойки, выпитой с Николаем Васильевичем, голову не замутили, хотя слабый шум и слышался, ощущался характерный после спиртного дискомфорт. И снова возникла давно тревожившая, раздражавшая мысль о невозможности окончательно покончить с винопитием – о неодолимости заведенных в обществе нравов, которые с рождения предписывают человеку потреблять вино, этот красиво названный и наряженный в золотые одежды яд, отнимающий у человека способность ясно мыслить, творить.
К тому времени у меня уже сложился в голове роман из жизни тридцатых годов, когда я двенадцатилетним подростком пришел на Сталинградский тракторный завод, начал у станка свою трудовую жизнь, которую с тех пор не прерывал ни на один день, а если и ушел из газеты, то лишь для того, чтобы одеть хомут «вольной творческой жизни», то есть работать еще упорнее, без уверенности, что получишь за свой тяжелый литературный труд хотя бы копейку.
Двенадцатилетних на завод не принимали, но у меня была справка из сельсовета, где работал мой дядя Андрей,– он всем моим братьям и сестрам, уезжавшим на заработки в город, приписывал по два года. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, не сотвори он этого святого обмана.
Идею моего нового романа мне подал Иван Михайлович Шевцов. Я как-то рассказал ему о своем детстве, о том, как в преддверии голодного 1933 года отец велел сестре Анне – ей было семнадцать лет – и брату Федору – ему пятнадцать, ехать в Сталинград и взять с собой меня, восьмилетнего мальчика. Провожая нас в город, сказал: «В городе не дадут пропасть».
Приехали в Сталинград. Мы с братом устроились в мужском бараке, Анна – в женском. Брата приняли учеником электрика, а несколько дней спустя его ударило электрическим током высокого напряжения. В тяжелейшем состоянии он был отправлен в больницу, а меня комендант барачного поселка как щенка выбросил на улицу.
Мороз в тот день был жестокий – около сорока градусов. Я побежал вниз по улице и увидел, как прямо передо мной проваливаются куда-то мальчишки. Подбежал к ним: они ныряли в люк туннеля, по которому были проложены трубы, кабели – артерии подземных коммуникаций.
Так началась моя бездомная жизнь, из которой четыре года спустя я приду на завод.
Шевцов любил слушать мои рассказы из жизни сталинградской шпаны и как-то с завистью проговорил:
– Эх, ты! Каким материалом владеешь. Садись немедленно и пиши роман. И поменьше выдумок. Пиши о том, что видел, что хорошо знаешь.
И я стал обдумывать план нового романа. И название уже пришло – «Ледяная купель», и многие главы обрисовались. Я таскал в кармане толстые записные книжки и писал всюду, где выпадала свободная минута. Особенно много писал в электричках. Тут был и кабинет, и письменный стол, а величаво плывшие за окном картины Подмосковья да мерный стук вагонных колес создавали настроение покоя, глубокой внутренней созерцательности.
И в тот вечер пошел в лес, придумывал главы, ходы, переходы, вытягивал из дымки прошлого эпизоды, встречи, лица, картины, разговоры. Полностью сосредоточиться я все-таки не мог. Являлись мысли и о визите Свиридова. Большая это была неожиданность. Что-то он, наверное, хотел мне сказать?
На следующий день, как обычно, в десять часов я пришел на работу. В коридоре встретил Вагина и Анчишкина. Они поздоровались со мной преувеличенно вежливо. Секретарша, завидев меня, пригласила к директору,
– Ты где сидишь? – поднялся навстречу Прокушев.
– У себя, а где же мне сидеть?
Вышел из-за стола, взял за руку, повел в кабинет главного редактора.
– Сиди здесь.
– Не люблю в чужом кресле и в чужом кабинете. Нехорошая примета.
– Ты назначен. Сиди по праву. И мне будет удобнее. Звонки разные, начальство высокое – они все больше главному звонят.
– Сейчас на меня переключились.
– Ну, хорошо. Я прошу. Я, наконец, настаиваю. Назначен же! Есть приказ председателя.
– Хорошо. Переберусь.
Сел в кресло главного редактора, но знал: меня Прокушев не хотел бы видеть в этой роли. С прохладцей относились ко мне и его покровители. Иные при встречах не подавали руки, демонстрировали откровенную враждебность.
Знал я и главный тактический прием Михалковых-качемасовых: всех «постылых», не прирученных, держать в неопределенном, подвешенном состоянии. Всякому редактору, которого мы приглашали на работу, директор в приказе назначал испытательный срок, затем надолго продлевал его. Так он поступил и с заведующим редакцией критики Вячеславом Горбачевым. Когда я в свое время требовал утвердить его в этой должности, Прокушев согласно кивал, но с приказом не торопился.
Я для себя не хотел какого-то ложного, двойственного положения,– обязанности главного редактора на мне лежали и по закону, и я хотел бы оставаться в своем кабинете, тем более что там были многие мои служебные связи, туда же звонили друзья, близкие люди,– однако уступил просьбам директора.
Он со мной ни о чем не заговаривал, тут же ушел в свой кабинет, но по лицу его и по особенно беспокойным глазам уловил сильную тревогу. Молнией пронзила мысль: «Не был ли связан приезд Свиридова на дачу с моим нажимом на художников?» Позвонил Карелину.
– Прокушев пересадил меня в кабинет главного, звоните сюда. А еще спросил о здоровье, о настроении – нет ли в Комитете какого неудовольствия нами?
Карелин заверил, что «неудовольствий» нет, все бумаги от нас поступают вовремя, и план на следующий год утвердили. Слова говорил хорошие, но в его голосе я уловил едва скрытые тревожные нотки.
– Что там у вас с художниками? – спросил Карелин.
– Пока ничего не могу сказать определенного, но меня смущает отсутствие прибылей в издательстве. Вы ведь знаете, издание книг – одно из самых прибыльных дел в нашем государстве. Мы по всем расчетам должны были уж построить дом-башню для работников издательства, Комитета, Союза писателей… И фирменный магазин «Современник» тоже за нами. А где они?… Мы и одного миллиона не можем выделить на эти стройки. На литературных гонорарах стали экономить, в карман писателей лезем. А писатель российский по нашим расчетам имеет в среднем сто тридцать рублей в месяц – меньше уборщицы. Вот какие пироги, дорогой Петр Александрович!
Хитрый, как лис, и всезнающий ПАК некоторое время молчал. Затем доверительно, тоном назидания и плохо скрытой укоризны заметил:
– Художники – это болото, их трудно схватить за руку. Боюсь, что кроме ненужного шума из этого ничего не выйдет.
– Но Михайлова, главный художник Комитета, наконец, Звягин, заместитель председателя – они, надеюсь, люди государственные…
– Да, да,– перебил Карелин,– люди они важные, оба они Вагина председателю предлагали. Недавно коллегия была. И Михайлова, и Звягин сильно хвалили постановку оформительского дела в «Современнике», Вагина к премии представляют.
Я молчал. Молчал и Карелин. Наконец он сказал:
– Ты, конечно, поступай согласно совести и законам, но будь осторожен и каждый шаг взвешивай.
Из этого разговора я понял, что все то же мне мог сказать и Свиридов, что в Комитете не хотят большого шума вокруг «Современника». Им хватило волнения в кругах литераторов, возникшего от смещения с должности Блинова, а если еще вскроются финансовые злоупотребления – шум, как девятый вал, вздыбится еще выше. Люди, которые еще вчера смотрели на меня с уважением и даже дружеской симпатией, теперь насторожены и воспринимают меня как человека незрелого, способного выкинуть какой-нибудь рискованный номер.
Напряженная тишина царила в издательстве: все уже знали, что издательство сидит на финансовой мели, что я намерен вызвать комиссию, навожу справки о законности выплат художникам-оформителям. Их у нас сто пятьдесят, гонорары получают многотысячные.
Никаких других действий я пока не предпринимал, но и этих оказалось довольно, чтобы ввергнуть весь коллектив, особенно лиц, ответственных за финансы, в состояние шока.
В полдень в издательстве появился Сорокин – с видом растерянным, с нездоровыми складками под глазами. «Вчера сильно выпил!» – подумал я, но сделал вид, что ни о чем не догадываюсь.
Пошли на обед,– теперь мы ходили с ним вдвоем. И у нас не было друг от друга секретов.
– Что с художниками? Ты вызываешь комиссию?
– Пока еще не решил, а надо бы.
– Не решил, а они в панике. Один уж подал заявление. Вагин бледный, дрожит как осиновый лист. И Прокушева как подменили. Сидит, словно истукан восточный, улыбается, а чему – неизвестно.
– Неужели и Прокушев – замешан?
– Не думаю, конечно, но ведь каша-то какая заварится! Трясти начнут, а там везде его подписи.
– Трясти вряд ли будут.
– Как? Ты же комиссию вызовешь. Нет, ты назад не пяться. Замахнулся – так бей! Ты отступишься, я эту кучу разворошу. Сегодня же Чукрееву скажу. Он у нас председатель народного контроля. Мы и свою комиссию назначим.
Вечером ко мне зашел Сорокин – мрачный.
– Ты чего? Недоволен чем?
– Ванцетий-то Чукреев каков?… Ты, говорит, Валя, в эту историю меня не путай. Я не хочу. Вы без меня как-нибудь.
– Успокойся, Валентин, такую позицию займет не один только Чукреев. У нас теперь много таких. Для них своя рубашка ближе к телу. Давно заметил: таких-то становится все больше. Характер наш знаменитый, русский, испытание на прочность проходит. У многих дает трещину.
– Чукреев – не русский.
– Это неважно. Ты только завари кашу с художниками – многие русские от нас отвернутся.
– Меня ничто не остановит! Это чудовищно – перекачать все деньги в карман прохиндеев. Вон по моей редакции Есенин в подарочном виде издан. Рисунки – мерзость какая-то! Братья Траугот оформляли. Гонорар им выписан – семь тысяч рублей! Да я семь тысяч-то за два поэтических сборника получаю. А у меня их через год, а то и через два печатают. Не буду я этого терпеть. Позову экспертов.
– Ладно, Валентин, уймись. Операцию с художниками мы, конечно, проведем с тобой, но горячку пороть не следует. Надо хорошенько изучить дело. Голыми руками их не возьмешь.
Домой мы шли втроем – с нами был Юрий Панкратов. Он, как и Сорокин, горячо поддерживал идею навести порядок с оплатой труда художников.
Ванцетий Иванович Чукреев заведовал редакцией национальных литератур, выпускавшей примерно тридцать процентов от всех наших книг. Человек пожилой, молчаливый, он порядочно вел дела, был тих и скромен.
В связи с проблемой художников он зашел ко мне, стал отговаривать от каких-либо решительных действий.
– По крайней мере,– говорил он,– меня от этих дел увольте. Я хотя и председатель группы народного контроля и во всяком другом деле готов оказать помощь, но художники…
Я спросил:
– А почему вы боитесь художников?
Чукреев долго и внимательно разглядывал меня, и взгляд его прищуренных хитроватых глаз говорил: «Ты что, мил человек, не понимаешь, чем тут пахнет? За ними – сила! Шевельнет эта сила пальцем, и от тебя мокрого места не останется».
Этот восточный человек долгое время работал в аппарате Союза писателей, знал многие тайные пружины, скрытые ходы и выходы и сейчас взглядом своим, мимикой высмеивал мою наивность. Но мне-то казалось тогда, и я не разуверился в своих убеждениях и теперь, что самая выгодная позиция – это позиция бойца, самая безопасная тактика – тактика наступления и даже атаки, штурма. Во время войны я не был большим командиром, не знал ни штабов, ни генералов – там, может быть, немало встречалось умников, подобных Чукрееву. У нас же на батарее умничать не приходилось. Нам надо было вовремя развернуться и как можно быстрее ударить первыми. В ходу была поговорка: побеждает тот, кто наступает.
А в жизни? Не те ли законы управляют нашими судьбами?
Очень скоро я доподлинно знал: новой бузы в «Современнике» никто из моих начальников – ни Карелин, ни Свиридов – не хотел. Я очень дорожил их добрым ко мне отношением. Свиридов, кроме того, начинал мне нравиться. Нравился его сильный, глубокий ум, мудрость государственного человека, какая-то врожденная интеллигентность. Он был прост и деликатен,– казалось мне, во всех деталях понимал ситуацию с художниками, знал, как она может ему повредить, но в то же время не позволял себе побуждать меня идти против совести.
– Вы, может быть, не знаете, под кем мы ходим? – спросил меня Чукреев.
– Да, конечно, я в литературных сферах человек новый,– прозрачно намекал я на осведомленность собеседника.– Но я знаю, что единственно правильная политика – принципиальная политика. И не хотел бы для себя душевного дискомфорта; ведь если я вижу преступление и пройду мимо, даже не подав людям сигнала тревоги, я потеряю покой. Меня будут терзать угрызения совести. Вы же знаете классическую мудрость: бойся равнодушных. При их молчаливом согласии тебя и обманут, и предадут, и убьют.
– Да, я эту мудрость знаю, но она не подходит к нашему обществу. Нас уже давно и обманули, и предали. Осталось последнее – лишить жизни. Представляю человека, который в сорок пять лет вздумает пойти против заведенных порядков. Ему укажут на дверь, и тогда с ним случится третье действо: он останется без хлеба.
– Да, Ванцетий Иванович, ваша философия мрачновата. Спасибо за урок. Вразумили. И хорошо, что вы не встретились мне в пору, когда я работал в газете. Проникшись вашей мудростью, спрятал бы перо подальше. А я-то, неразумный, лез в драку, корчевал лиходеев – лишь чудом не свернул себе шею. Ну, ладно, еще раз спасибо за совет.
И когда Чукреев выходил из кабинета и уже взялся за ручку двери, я остановил его:
– К сожалению, не читал ваших книг. Принесли бы что-нибудь.
Мудрый человек с таким многозначительным именем – очевидно, от Сакко и Ванцетти – постоял у двери, потом улыбнулся и вышел.
Книг своих он не принес, а я не удосужился поискать их в библиотеках, но и сейчас меня занимает вопрос: о чем он писал в своих книгах? И вообще: какие мысли и чувства несут людям такие писатели? А ведь их много было в нашей литературе и, конечно же, еще больше развелось теперь, таких мудрых, всезнающих мужичков, которых трудно обмануть, предать и еще труднее оставить без куска хлеба.
В тот же день после обеда зашел я в редакцию русской прозы. Спросил Анчишкина – у него тоже имечко: тут тебе сразу и Владимир, и Ленин. Это как у нас в «Известиях» был Мэлор Стуруа, у того в имени еще больше значений: и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Октябрьская революция. Но человек был на редкость пустой и ненадежный.
Владлена Анчишкина в редакции не было.
– Он дома. Читает.
Кто-то сказал:
– Его с полмесяца не видно.
Позвонил ему домой.
– Его нет дома. Давно уж нет, недели две.
Табель в редакции вел младший редактор Маркус. Я попросил его взять табель и прийти ко мне.
С Маркусом произошел такой разговор:
– Сколько дней не было в редакции Анчишкина?
– Четырнадцать.
– А почему в табеле вы ставите отметку «был»?
Маркус замялся.
– Он так просил.
– Но вы же обманываете – меня, бухгалтерию, государство.
Позвонил в бухгалтерию.
– Вы начислили зарплату Анчишкину за последние полмесяца?
– Да, конечно. Он уже получил. Приходила какая-то женщина с доверенностью, и мы выплатили.
– А знаете ли вы, что он полмесяца не был на работе?
– Нет, этого мы не знаем.
Я положил трубку, сказал Маркусу:
– Вот видите – вы обманули и бухгалтерию.
– Я виноват. Что же мне делать?
– Садитесь. И коротко напишите мне докладную.
Я положил ее в портфель и никому ничего не сказал. Назавтра утром пригласил главного бухгалтера, спросил, как же это такой точный и строгий финансовый орган, как наша бухгалтерия, платит человеку зарплату, которую тот не заработал?
– Его отпускал директор.
– Директор? Вам так сказал Юрий Львович?
– Да, сказал.
– Но у Анчишкина есть непосредственный начальник – это заместитель главного редактора, и есть прямой начальник – главный редактор. Я сейчас в двух этих лицах и, представьте, о причинах отсутствия Анчишкина ничего не знаю. Но если бы и я, и директор отпустили Анчишкина, то не на две же недели! Вы в таком случае, как я понимаю, должны потребовать приказ, распоряжение.
– Да, Иван Владимирович, вы правы. Тут явное нарушение.
– Поправьте.
– А как?
– Не знаю. Дела денежные, деликатные. Вам лучше знать, как их вести.
Я отпустил главного бухгалтера, а через два часа она мне позвонила:
– Анчишкин сдал деньги. Все в порядке.
И тут же зашел Анчишкин.
В минуту я передумал все: Анчишкин – главное колесо в прокушевской машине. Работник никакой, по несколько дней не бывает в редакции. Знает одно: натаскивать в план москвичей. И, как правило, только еврейской национальности. Таких людей на пушечный выстрел нельзя допускать к книжному делу, а он руководит огромной редакцией – полтораста книг в год!
И еще подумал: «Они не пожалели Блинова, фронтовика, командира пехотного батальона, инвалида войны, а во мне копошится жалость. Такие мы, русские люди!»
– Вас не было в редакции четырнадцать дней.
– Читал верстки, рукописи.
– Я вас не отпускал.
– Меня отпускал директор.
Посмотрел Анчишкину в глаза, он дрогнул, опустил голову.
– Пишите заявление с просьбой освободить вас по собственному желанию.
– Да вы что?… Кто вам дал право решать такие вопросы без директора?
Анчишкин встал. Высокий, сутулый – оступил на несколько шагов, точно уклоняясь от удара; растерянно стоял, не зная, что делать.
– Пишите заявление, иначе доложу в Комитет, добьюсь увольнения за прогул и запишу в трудовую книжку.
– Иван, ты что, серьезно? Какая тебя муха укусила?… Кто же так поступает со своими товарищами?
– Вы прогуляли четырнадцать дней. Вот докладная Маркуса. И вы сдали в бухгалтерию деньги, признав тем самым факт своего прогула. Пишите заявление или я вас уволю за прогул.
– Но главный редактор не пишет приказов.
– Главный редактор пишет распоряжения. Наконец, я вправе лишить вас доверия, и тогда ваши подписи ничего не будут значить.
Анчишкин раскрыл рот от изумления, глотнул воздух и выбежал из кабинета.
Директора не было, Анчишкин пожаловался Сорокину, и тот вместе с Панкратовым зашел ко мне.
– Что с Анчишкиным?
– Прогулял. Четырнадцать дней.
– И что?
– А что бы ты сделал?
– Уволил бы… в два счета.
– Ну, положим, в два счета, может, не удастся, а уволить по собственному желанию – попробую.
– М-да-а…-тянул Сорокин.– Вот если бы удалось вытолкнуть такого удава.
Вошел Прокушев. Бросил портфель на приставной стол, развел руками:
– Не понимаю, что тут происходит?
И тотчас же, вслед за ним, без стука и разрешения, влетел Анчишкин.
Прокушев визгливым, почти женским голосом велел секретарше позвать Горбачева. Он был секретарем партийного бюро.
– Братцы! – взмахнул руками директор. – Что происходит?… Нет, вы посмотрите, Анчишкина увольняет. Да Анчишкина, если бы мы захотели все вместе, и тогда бы уволить не могли. Да он же в номенклатуре! Да его только председатель Комитета, и то с согласия коллегии, отстранить может.
– А я его и не отстраняю – он сам уходит.
– Я ухожу! – вскочил Анчишкин.– Ну уж извините – я вам этого подарка не сделаю.
– А как быть с прогулами? Четырнадцать дней все-таки. Вы сами расписались – сдали деньги в бухгалтерию. Наконец, вон… докладная Маркуса у меня – две недели не был на работе, а его заставил отмечать в табеле.
– Меня отпускали.
– Я вас не отпускал, а директор… Он, во-первых, должен был меня уведомить, а во-вторых, на день, на два может отпустить. Если же все-таки вам предоставили отпуск, моя резолюция должна быть.
Анчишкин сел в угол дивана и то пожимал плечами, то руками всплескивал. Прокушев не знал, куда себя деть: он то присаживался к краю стола, то принимался ходить по комнате. Горбачев вышел, а Сорокин и Панкратов то выходили из кабинета, то приходили. Они были взволнованы, втайне, конечно, держали мою сторону, но молчали. Директор приблизился ко мне:
– Иван Владимирович, ты что – серьезно что ли?
– Вполне серьезно.
– Как понимать – месть за Блинова?
– Как хотите, так и понимайте.
– Да это антисемитизм! Он же юдофоб! – вскричал Анчишкин.
– Вы человек русский, я – русский. Где же вы нашли тут антисемитизм?
– Да нет, что с ним говорить! – обращался Анчишкин к директору.– Он же из старой гвардии. Так при Сталине людей ломали.
– Почему при Сталине? Совсем недавно вот из этого кресла вы Блинова выкинули. Уж какой человек – не вам чета! На фронте батальоном командовал, кучу орденов заслужил и ногу потерял, а вы его… вон как крутанули. И никто никого не обвинил в русофобии. И директора нашего сталинистом не обзывали,– Юрий Львович вполне современный человек!
Потом мы с директором вдвоем остались. Потряхивая головой и поправляя воротник, будто он давил шею, Прокушев проговорил:
– Месть за Блинова все-таки?
– Не месть, а четырнадцать дней прогула.
После паузы я сказал:
– Юрий Львович, давно хотел спросить: зачем вам Анчишкин? Работник он никакой и человек нечестный: одних своячков в план тащит. Ну, если бы мы их не отваживали, не вышибали из плана – какие бы книги вы выпускали? Скажите по совести: неужели вам не жалко русского леса, труда типографских рабочих? Ведь в этих книгах ничего нет. Я каждую рукопись читаю. И вижу ваших молодцов – и его, и ваших.
– Моих? Ну-ну,– договорились. Да я о Есенине пишу, я его от рапповцев, от тех же сионистов отстоял. Не будь моих работ, вы и теперь не знали бы Есенина. Говорите, да не – заговаривайтесь. Я человек государственный, мне книга нужна, а не своячки, как вы выражаетесь.
– А дайте ваш портфель, вынимайте рукопись.
Прокушев нехотя раскрыл портфель, извлек объемистую рукопись. Это был сборник произведений известного автора, секретаря Союза писателей, еврея. И сборник состоял из всякой мелочи. В пору своей работы в какой-то городской газете этот автор писал антирелигиозные заметки, крушил попов, храмы, русских православных людей. Теперь он собрал эти заметки в отдельный том и предлагал к изданию.
– Вот она – секретарская литература. Скоро пойдет завотдельская и еще какая-нибудь. А куда же бедному российскому писателю податься? Раньше Циолковский в Калуге издавался. Теперь там издательства нет. Прикрыли. А в Москве да в Питере вот эти… ваши подопечные издаются. Так, может быть, нам и совсем прихлопнуть русскую литературу?
Вошел Анчишкин, и снова возобновилась баталия. Я сказал:
– Хорошо. Если вы не хотите кончить дело миром, я всю эту историю выношу на обсуждение коллегии Комитета. И там буду стоять насмерть. А если и там меня не поддержат, подключу органы правосудия. До Верховного суда дойду. Там, кстати, подниму и всю историю с оплатой труда художников. Все. Я свое сказал.
Поднялся и пошел домой.
На следующее утро Анчишкин принес заявление. Прокушев на работу не пришел. И мы еще долго не видели его в издательстве.
Жизнь подтверждала мое давнее наблюдение: наш противник в разгоревшейся идеологической войне прямой атаки не выдерживает.








