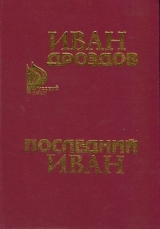
Текст книги "Последний Иван"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Шевцов не отвечал. И тогда я решил его успокоить.
– Но ты не тревожься, Иван. Я не собираюсь уходить из издательства. Буду там до конца. Ты говоришь: ортодокс! Это верно. Мне и Егор Исаев, и Вася Федоров, и Чивилихин одно говорят: больше гибкости, нам сейчас гибкость нужна. Я стараюсь, конечно, прогибаюсь по мере сил и дальше буду гнуться, но вот беда: чуть согнусь, и спина трещит, искры из глаз сыплются. Не приспособлена, значит. Природа не та.
Взял палку и направился к выходу. И уже у самой двери повернулся, сказал:
– А у тебя информация богатая.
И вышел. Сорокин к Шевцову зачастил. Выговаривал мне Шевцов, видно, не одни только свои мысли.
Зашел ко мне главный редактор столичного издательства – очень большого, старого. У него были интересы в одной из наших редакций, он решил обговорить судьбу своей рукописи. Я знал: мой коллега женат на еврейке, у него три сына – один женился на дочке французского дипломата, миллионера, уехал с женой во Францию и живет в Париже. Его папаша, то есть мой собеседник, постепенно выжил из издательства русских, набрал редакторов-евреев. Книг выпускает много, но читать нечего. Некогда знаменитое издательство заглохло, как сад, заросший сорняками. Я давно слышал, что пробиться у них русскому автору очень трудно. В Челябинске, где я представлял газету «Известия», было сорок два писателя, и лишь двоим за многие годы удалось выпустить у них книгу. За время моей работы в Донецке Москва из сорока писателей Донбасса тоже не напечатала ни одного.
Вот такой субъект сидел передо мной.
Когда мы закончили разговор о его рукописи, я спросил:
– Как ваши денежные дела? Доходы у вас большие?
– Доходы?…– главный посмотрел на меня пристально. И будто бы с изумлением – не чудак ли какой перед ним?
– А у вас что – доходы некуда девать?
– Вовсе не так. Мы только ожидаем прибылей, но дождаться не можем.
– А мы… ждать-пождали, да устали. Теперь и не ждем даже.
– Мы недавно приступили к делу, не набрались еще опыта; никак не удается накопить капитал. Но вы-то?… Существуете много десятилетий…
– Да, у нас опыт. Но те, кто деньги тратит, – у них тоже с годами опыт прибавляется.
С минуту помолчал. Потом, видно, сообразил, что интерес мой не праздный, стал рассказывать:
– Я, когда пришел на эту должность, тоже удивился: почему это у нас в кассе пусто? Гонорар размечаю, а главный бухгалтер за руку держит: полегче! Денег мало. «Как? – возмущался я.– Книжное дело прибыльное. Куда деньги деваются?»
В издательстве работал мой старый приятель. Он сказал: «Денежные дела не трогай. Много врагов наживешь».– «Да почему? – Кто же тут порядок будет наводить, если не я?» Мой друг меня вразумил. Он назвал одного деятеля – сквозь его пальцы много денег течет. И сказал: «Он – племянник…– и назвал имя важной персоны.– Смекаешь?…» Назвал и других, за которыми стоят важные лица.– «Теперь-то понимаешь, какая цепь загремит, если тронешь хотя бы одно ее звено. А?…»
Крепко я тогда задумался. И для себя решил: черт с ними, финансами! Мое дело книги выпускать.
Ждал моих откровений, но я молчал. Душу перед ним распахивать не хотелось.
В тот день я был в центре города, зашел к другому главному редактору – в «Московский рабочий» к Мамонтову. Еселева – старейшего издателя – от должности отстранили, на его место назначили другого.
Мамонтову сказал, что Карелин, похоже, затребует материалы на художников в Комитет.
– Скорее всего – замотают. Будут тянуть, а там и положат под сукно. Ты на это смотри проще, не рви душу. Нынешняя война – это война хитрости, коварства и нервов. Мы коварству не обучены. Мафию одолеть может народ, а народ в войне не участвует. Он даже не чувствует, кто ползает у него по спине. Он ослеплен лозунгами, сбит с толку посулами, одурачен прессой, радио, речами официальных людей. Народ наш похож на младенца: что ни говорят ему – верит.
– Но какая же это война, если народ в ней не участвует?
– Войны разные бывают. И бои один на другой не похожи. Вон в кино ночной бой с чапаевцами показан. Одни спят, а другие под покровом ночи часовых сняли, лагерь осадили. И по сонным из пулеметов хлещут… В войне идеологической, которую ведут с нами, примерно такая же ситуация. По спящему народу со всех стволов палят. Нас-то, зрячих, совсем немного, в масштабах страны – единицы. И мы беречь себя должны. Нервы беречь, ясный ум, работоспособность. И если ты видишь стену перед собой,– отступись, выжди. Иначе шею свернешь.
– Мне это же Шевцов, другие мудрые люди советуют. Теперь и вы вот… Но где же грань того выжидания и осторожности? Не получится ли так, что проснемся однажды, а тут уж и заводы распроданы, и дома, и издательство наше Вагин с Дрожжевым купили. А ваше иностранному гражданину в залог под проценты отдали. Может ведь и так случиться!
Я сейчас живу в Питере на Светлановской площади; балкон моей квартиры выходит в Удельный парк, а по парку в двухстах метрах от дома железная дорога проходит. И по этой дороге через каждые сорок минут идет длиннющий состав – наполовину с нефтью, наполовину с березовым лесом. Стандартные кругляки плотными рядками уложены – один к одному. Вагонов не счесть.
Гуляя по парку, зашел на станцию Удельная, разговорился с железнодорожником. Спросил:
– Куда нефть и лес везут?
– Часть в Карелию, в Кондопогу, но больше в Финляндию.
– Помилуйте, Карелия – лесная сторона, а уж про Финляндию и говорить нечего.
– В Карелии лес кому-то запродан, а про Финляндию ничего сказать не могу. Слух идет, что финны свой лес берегут. Вон про Канаду передачу видел: много там лесу, а нет того, чтоб за рубеж вывозили. Запрет строгий положен – и одну березку не вывезут. Потому как уважают себя и богатства свои берегут. Опять же лес,– он, говорят, кислородом нас кормит.
С писателем местным разговорился – этот знает не в пример больше. Говорит, что в проблеме этой много темного,– не знаю, мол, какие пиявки к лесу присосались, но уж больно разбой велик! Псковские, новгородские, вологодские, костромские, архангельские леса подчистую рубят, в Финляндию гонят. Финны из нашего леса бумагу делают, за валюту продают,-делятся, конечно, а вот с кем, что за суммы, куда, в какие карманы плывут,– тут сам черт голову сломит. Одно нам ясно: не все наши бумажные комбинаты сырьем обеспечены, простаивают мощности. Наваждение какое-то!… Будет время, схватим кого-то за руку, да на месте леса русского одни пни да гнилушки останутся.
Блажен, кто не живет вблизи дороги, идущей в Кондопогу и Хельсинки! И кто не видит «цепь», которую нельзя шевелить. Наверное, они чаще смотрят на небо, радуются лучам солнца, красоте цветов, улыбке ребенка. Но что же делать тому, кто стоит рядом с этой всемогущей цепью, видит, как она далеко тянется, как крепко сбита, как она все туже затягивается на шее народа.
Шевцов считает, что не замечать ее совсем нетрудно. И даже легко. Чаще всего, бывает даже выгодно.
Мудрый он человек, знает, конечно, как надо поступать в различных, иногда даже сложных обстоятельствах жизни, и поступает. Ну, а как быть людям, которым Бог не дал столько мудрости?
…В тот же день позвонил из Комитета кто-то из чиновников, ведавших художниками.
– У вас есть материал на художников,– сказал развязно.
– Да, есть.
– Пришлите его нам.
Назвал свою фамилию.
– Зачем, с какой целью?
– Мы разберемся, примем меры.
– То же самое делаем и мы. И тоже будем принимать меры.
– Да, но вы хотели…
Чиновник запнулся. Что мы хотели, он не знал. Но, видимо, очень хотел узнать. Я ему в этом не помог. Закончив с ним разговор, позвонил Карелину. Он попросил, чтобы все материалы о художниках я прислал ему.
– Хорошо. Я сделаю это завтра.
Вызвал машинистку и просил ее снять несколько копий с главных документов. Один экземпляр положил в сейф, другой отнес на квартиру, а оригиналы послал Карелину.
И сразу почувствовал облегчение. Пусть решают. Это ведь их дело, Комитета.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Документы в Комитете залегли надолго. Я понимал Карелина, Свиридова – «цепь» шевелить нелегко. Понимал и не торопил.
Спокойно мы делали свое дело. Неспокоен был один Сорокин. Он продолжал свой эксперимент с Прокушевым: ходил к нему на квартиру, часами сидел у него в кабинете – хвалил! И потом докладывал: «пробил» одну бумагу, вторую…
– Да какие бумаги ты пробиваешь? – спрашивал я. Валентин мялся, называл имена поэтов, одного из которых надо вставить в план, а другому -до срока заплатить деньги.
– А ты не раздавай обещаний. И тогда не надо будет пробивать бумаги.
Сорокин выходил из себя, называл меня формалистом, бюрократом,– вроде бы в шутку называл, но слышалось в его словах стремление оправдать свои действия. Я настаивал:
– У нас не лавочка, есть порядок – он существует для всех.
Привел ему однажды пример, как издателю Сытину принес рукопись романа его родной брат. Сытин ему сказал: «Я печатаю хорошие книги, а твой роман печатать не стану. Неси его в другое издательство». И я заключил:
– Видишь, брату отказал, а ты за дружков хлопочешь. Но так ведь и делает Прокушев. У него что ли научился? Нет-нет, Валентин, мы не коробейники и товаров собственных не имеем. Нечего раздавать подарки.
Валентин обижался, в отношения наши вкрадывался холодок отчуждения. Случалось, не ждал меня на обед, шел или к Прокушеву или же с Панкратовым, или Дробышевым, или Горбачевым. Они были одногодки,– он, видимо, им жаловался.
Однажды сказал:
– Три члена редколлегии «Литгазеты» приглашают нас в «Пекин» пообедать.
– Это что-то новое. Зачем же?
– Как зачем? – закипел Сорокин.– «Литературка» же! Нам нужен с ними контакт.
– Зачем? – повторил я вопрос.
– Странный ты, ей-Богу! Пока еще наши книги милуют, а ну-ка одну за другой начнут разносить – что тогда?
– А ничего. Будем работать, как работали.
– Нет, ты положительно…
– Ортодокс – хотел сказать. Говори смелее. Меня не смутят никакие эпитеты. В ресторан я с ними не пойду. Во-первых, я их не знаю, мне не о чем говорить с ними. Во-вторых, сегодня мы сходим с ними в ресторан, да еще они не дадут нам расплатиться, а завтра нам принесут рукописи. А у них ведь рукописи… сам знаешь, какие. И что ты будешь с ними делать? Опять Прокушева хвалить, подпись его выбивать?
И снова обида. На этот раз Сорокин дулся долго, с неделю. Но однажды зашел ко мне.
– Поговорить надо. Пойдем пешком.
Шли по Профсоюзной улице, поднимались вверх к метро «Новые Черемушки» – в той стороне, на краю Теплого Стана Сорокин жил в новой кооперативной квартире.
Валентин затруднялся. Начал не сразу.
– У меня, понимаешь ли, вопрос к тебе есть. Ты корреспондентом «Известий» работал – знать должен. Что могут сделать с человеком… ну, вот моего положения, если обнаружится, что когда-то, лет десять назад, он своей рукой… Ну, отметку в аттестате зрелости поставил. А? Вроде бы подделал. Чуть-чуть, конечно. Самую малость.
Не стал я добираться, как, при каких обстоятельствах и с кем это случилось,– решил его успокоить.
– Факт не из приятных, что и говорить. По-разному дело повернуть можно, но думаю, все-таки человека нашего с тобой положения трепать за это не станут. Оставят без внимания.
– Ну, Свиридов, скажем, не придаст значения, Михалков – тоже, и в ЦК… А газетчики? Могут же фельетончиком пальнуть?
– Уважающая себя газета, да еще центральная, на такой факт не клюнет. Ей серьезные материалы подавай, а это что – аттестат зрелости. Пустяк, конечно.
Дошли до его дома. Он пригласил меня к себе, и мы с ним пили чай. Он предлагал вина, но я отговорил и его. Сослался на то, что завтра у нас будет много дела.
Назавтра с утра ко мне пожаловала группа писателей и поэтов из Челябинска. Посетовали, что мы их мало печатаем. Я пригласил Сорокина, Панкратова, Целищева. Мы быстро уладили все претензии, за исключением одной – отказались печатать роман о Радищеве старейшего южноуральского журналиста и писателя Александра Андреевича Шмакова, моего доброго приятеля и коллеги. Но тут уж я не хотел ему помогать: роман по общим оценкам был слабым. Дружба дружбой, а деньги, как говорят в народе, врозь.
Один уралец задержался у меня и доверительно рассказал, что в Челябинске целый месяц жил столичный литератор – проводил какое-то «тайное следствие». Он некоторым писателям в обмен на информацию обещал устроить рукопись в «Современнике». Интересовался все больше Сорокиным, спрашивал, почему он из Челябинска переехал в Саратов, и все писал и писал в блокнот.
Я не стал допытываться о подробностях этого странного следствия, мне было ясно, кто вдохновитель этой операции, с какой целью она проводилась. Несомненно, она стояла в том же ряду, что и приглашение нас Баженовым к ночной кукушке, и маневр с исключением меня из партии, а еще раньше – внезапная атака на Блинова.
Напрасно нам казалось, что все эти эпизоды случайны, что они исходят из особенностей психики Прокушева, его капризов; нет, жизнь меня убеждала: атака на нас, да и на все русское, патриотическое, реалистическое ведется планомерно, и тут не предвидится перемирия.
В литературной среде, издательских сферах кипели те же процессы, что и в журналистике,– только здесь, как я теперь понимал, атаки ведутся планомернее, нажим сильнее – здесь линия фронта проходит ближе к противнику, бои горячее.
«Тайный следователь», конечно, поднабрал материала о Сорокине – может быть, больше сплетен, наговоров, чем реальных фактов. Я тут не стану их муссировать, но скажу: Сорокин сник, потух, он уже был не тот боевой, уверенный в себе парень, не возмущался директором, не требовал от меня решительных действий. Несколько раз по дороге в столовую он мне говорил: «Я тебя не предам». Я ему на это однажды заметил:
– Предателей мы на войне убивали. Ныне же в новой бесшумной войне они погибают сами. Их сжигают угрызения собственной совести и ненависть бывших друзей.– Подумал немного и добавил: – А кроме того, поэт и не может стать предателем. О чем же он тогда будет писать в своих стихах?
Сорокин мне на это ничего не сказал.
Валентин все глубже уходил в себя, он как бы отошел в тень, затаился и ждал удара.
Впрочем, в иные дни оживлялся. Снова подступался ко мне с расспросами:
– Ты был журналистом, скажи: могут они пальнуть по мне фельетоном?
Ему хотелось выложить передо мной все, что выудил тайный следователь, но он не решался, сказал только об аттестате зрелости. Я же, хотя и знал кое-что, повторяю, не верил и не верю сейчас в его юношеские «художества». Живу по Библии – «Не судите, судимы не будете». Но можно ли пройти мимо тех поистине ювелирно-химических кружев, которые плелись вокруг нас мастерами вязать, по выражению Свиридова, мокрые узлы! Уж так они изловчатся и так завяжут! Вот и в случае с Сорокиным: кому из нас с вами в голову придет послать эмиссара, следопыта? И столько навязать узлов! Один другого крепче.
«Узлы» завязывают неспроста, не ради спортивного интереса, «узлы» – это бои и атаки, минные поля и артобстрелы, это боевые средства и приемы нашего противника в третьей мировой Идеологической войне с советскими народами, прежде всего с русским. Примерно в то время Организация Объединенных Наций официально заклеймила сионизм как разновидность расизма. Ныне многими учеными доказано, что в своих захватнических человеконенавистнических целях сионизм идет дальше фашизма, он злее гитлеровского рейха, он – старший брат фашизма, его идеолог и наставник.
Могут возразить: «узлы» затягивали еврейские прислужники,– не обязательно они сионисты!
Не хочу вдаваться в дебри теории. Прямых доказательств для политических аттестаций у меня нет. Скажу лишь, что все журналисты, литераторы и издатели, вязавшие против нас, русских, «узлы», были единодушны и смыкались в одном: в отношении к евреям. Они защищали только евреев, тянули в газеты, журналы, издательства только евреев,– не знали и не хотели знать других авторов, и тем более сотрудников, кроме как «своих да наших».
В самый разгар горбачевской перестройки в Москве была создана сионистская организация; могу утверждать, что она давно существовала в нашей стране, особенно в сферах идеологии, а ныне только вышла из подполья. Для сионистов с перестройкой засветила новая заря.
После визита челябинской делегации Сорокин стал больше жаться ко мне. Во время работы подолгу сидел в моем кабинете, после работы вместе ехали, потом долго шли пешком домой. На обед ходили в соседний парк, ели белый хлеб с молоком. Валентин мало говорил, тяжелые думы одолевали его.
– Ты чего смурной такой? – спрашивал я, стараясь не подавать никакой тревоги.
– Ничего. Так. Задумался.
Несколько раз он заговаривал о журналистах из «Литературной газеты».
– Зря ты тогда не пошел в «Пекин». Посидели бы.– Потом добавлял: – Откроешь однажды газету, а там фельетон. Могут ведь, а? Как ты думаешь?
Мысль о фельетоне стала навязчивой. Я говорил, что фельетона не будет.
– Ну что про тебя напишут? Шалость юношеская, проказа рабочего парня. А хоть бы и отважились, так славы бы тебе прибавили.
Рассказал эпизод с поэтом Ж. Это было еще до войны. «Правда» напечатала о нем статью: «Враг среди нас». Поэт, боясь ареста, в тот же день уехал из Москвы, скрывался в лесах, дальних селах. В Москву вернулся в первые дни войны. Зашел в Дом литераторов, идет в буфет, а ему навстречу товарищ. «Вася, ты?» – «Я».– «Где же ты пропадал? Мы все тебя искали, хотели поздравить».– «С чем?» – «Ты стал знаменитым. "Правда" о тебе писала».– «Ругала?» – «Ругала?… Может быть. Но какая разница! Кто помнит, ругали тебя или хвалили – важно имя твое на весь свет протрубили. А так-то, кто бы тебя знал! Слава к тебе пришла – вот что важно!»
Сорокин улыбнулся. Взгляд его карих беспокойных глаз засветился надеждой,– авось, пронесет! И тогда вновь потечет его счастливая, полная удач и вдохновений жизнь. Он, конечно же, сейчас на коне. Никогда не поднимался так высоко и по службе, и в своем творчестве. Едва войдет в издательство, его окружают поэты, к нему идут сотрудники,– у него в руках и власть, и деньги. Почти любому поэту, даже маститому, он может отказать в публикации,– найдет причины,– но может и одарить, сделать счастливым и даже знаменитым. От этого сознания силы и величия жизнь становится богатой, каждый день как праздник. Ну, а это вдруг возникшее препятствие – временный испуг. Он пройдет, от него останется лишь неприятное воспоминание. Говорит же вот Иван, мой друг, что газеты ищут важного, общественного. Он-то уж знает. Сколько лет работал в газетах!
– Отчего Шевцов меня не любит? – спрашивает вдруг Сорокин.
– С чего ты взял? Ему твои стихи нравятся.
– Не любит. Я знаю. Мы когда к нему приходим, он на меня не смотрит. И никогда не спросит, что пишу, как живу. Вижу я.
– Сердце не ошибается, Шевцов действительно недолюбливает Сорокина. Говорит мне: «В стихах его нет лирики. И любви нет. А это значит – злой, не любит никого. Таким поэзия не дается».
– А вот ты, Валя,– спрашиваю в свою очередь,– почему Кобзеву книжку хорошую не дашь? Мужику под пятьдесят, двадцать раз издали – и все книжки тощие, и обложки мягкие. Пора бы и однотомник иметь.
– Кобзев – поэт слабый.
– А Маркова Алексея? Тоже несолидно издаем. Я вчера посмотрел ваши планы – опять хилые книжонки. Одному – четыре авторских листа, другому – пять. Книжки как брошюры.
Сорокин молчит. Я продолжаю:
– Фирсова тоже. Издать бы хорошо.
– И Фирсов слабый.
– Ну вот – и Фирсов! А между тем Шолохов любит его.
– Мало ли что! Это неважно.
Я наседаю:
– Я как-то вам предложил Николая Рубцова издать красиво. В подарочном виде. А ты что сказал? «У него мало стихов». А я ведь знаю, что это не так. По-моему, тебе, Валентин, широты не хватает. Поэты, как артисты, не любят соревнователей.
Рассказал, что недавно прочел несколько не издававшихся ранее писем Л. Собинова. Он своей жене сообщает из Милана, что у него нашелся враг – певец Мазини. Этот «алчный» старец ходит везде и «ругает меня на все корки»,– жаловался жене Собинов. А в другом письме сам же уподобляется Мазини – ругает «на все корки» Шаляпина. А? Нехорошо ведь? Нет ли и в вашей поэтической среде такого «соревнования»?
Сорокин снова стих. И потух. Упреки мои больно задевали его, он чувствовал в них большую долю правды. Сказал:
– Кобзеву дадим однотомник. Фирсову – тоже, и Маркова Алешу издадим как следует. Ребята заждались. Сколько же им ходить в коротких штанишках!
Раньше, приезжая на дачу, он не любил ходить к моим друзьям, особенно к поэтам. Бывало, идем мимо Кобзева, я заворачиваю к Игорю, а он упирается. Не хочет.
– Между вами что – кошка пробежала? – спрашиваю Сорокина. Он пожимает плечами.
– Да нет, вроде бы не было между нами никакой размолвки.
– Ну так что же – зайдем?
Игорь Иванович принимает нас со своим обыкновенным радушием, проводит в комнату с печью, расписанной им в манере русских сказок, усаживает за стол и тут же принимается готовить чай, как он обыкновенно делает. Одет он в толстый темный свитер, просторные брюки, голова у него в густой шевелюре вьющихся серебряных волос, и так же почтенной изморозью отливают на свету бакенбарды, аккуратная бородка.
Кобзев ведет почти отшельнический образ жизни. Ему скоро исполнится пятьдесят, и он лишь в молодости несколько лет работал в «Комсомольской правде». С начальством ладить не умел, во всем повиноваться не хотел – ушел из редакции и с тех пор нигде не работал. Впрочем, «на свободе» работает очень много. Изучает философию, историю религий, общую историю, но особенно историю нашей древней отечественной культуры. Его давний сердечный интерес – «Слово о полку Игореве». Он много лет производил изыскания новых материалов, стал большим авторитетом по части нашего главного древнерусского поэтического памятника,– возглавил народный музей «Слова о полку Игореве», недавно сделал свой перевод поэмы. Но теперь занят новым, еще более древним памятником русской литературы – «Влесовой книгой».
Есть у него и еще серьезное увлечение – он рисует. Здесь его страсть – русские храмы, особенно полуразрушенные, но еще сохранившие свой величественный вид. Кобзев боится, что они придут в окончательный упадок, и люди утеряют их в памяти. Храмов нарисовал много-десятки, может быть, сотни. Любит писать портреты, пейзажи, и все больше маслом.
Человек увлеченный, живет богатой духовной жизнью. К нему очень подходят строки из стихотворения любимого им поэта Федора Ивановича Тютчева:
Пускай служить он не умеет,
Боготворить умеет он…
Пьем чай, болтаем о разных разностях. Невольно отмечаю странное обстоятельство: Сорокин с Кобзевым не смотрят один на другого,– в то же время знаю: не было между ними никаких ссор. Я давно, еще с Литературного института, заметил: поэты ревностно относятся к своим собратьям, внимательно следят за творчеством друг друга. Могут всегда сказать, кто, что, где и когда напечатал. У них память на это особенная – знают и помнят всех, но чтобы похвалить кого из коллег, восхититься,– этого я почти не слышал. Говорят примерно так:
– Работает по-своему, есть удачные места, интересные находки, но… все это уже было. Пока он себя не нашел.
Тут главное: забота о себе самом; как бы не выглядеть ругателем, брюзгой,– и видимость объективности сохраняется, и налицо интеллигентность, даже респектабельность человека, стоящего высоко, над всеми.
Сорокин Кобзева знал, читал с интересом, но судил о нем резко, с раздражением.
– Слабая, вялая строка! Ничего нового!
Кобзев о Сорокине сам никогда не заговаривал, но если я спрашивал, говорил, хотя и не так резко, но тоже уничтожающе:
– Манерен! Он хочет сказать лучше всех – не получается.
Пытаюсь возражать:
– Помню его еще по Челябинску, он тогда писал интересные стихи. Газета печатала. Друзья рабочие его хвалили и даже гордились своим поэтом.
На это Кобзев замечал:
– Да, вначале он писал лучше. Такое бывает со многими.
Я не спорил. Приходил домой, читал Сорокина, Кобзева, Фирсова, Рубцова, Федорова, Ручьева – сравнивал, пытался разобраться. Действительно, в начальную пору Сорокин писал лучше. Вот строки из его поэмы «Оранжевый журавленок», написанной еще в молодости. Они характерны и для других его стихов того времени:
И звенят журавли,
То ликуя, то плача,
Встань пораньше, мой друг,
И любого спроси,
Кто под этот напев
Не поверит в удачу
На багряной моей,
На озерной Руси!
А вот как он стал писать почти двадцать лет спустя:
Цепи,
Кепи,
Шляпы.
Рукавицы.
– Няньчай бронированного фрица!
– Отглумился!
– Сволочь!
– Отрыгал!
– Спесь ему перекует Урал!
Это из поэмы «Огонь». Для человека, сведущего в металлургии, еще кое-как понятно: переплавляют на металл немецкие танки, а всем остальным читателям… Разгадай ребус.
Не этими стихами подкупил он всех, кто рекомендовал его руководить поэтическим разделом «Современника», а теми, ранними. Сорокину было за сорок – возраст для поэта зрелый, пора уже и встать на свою дорогу. Есенин на что был новатор, перепробовал много приемов и методов, но и тот сказал: «В последнее время я в смысле формы все больше тяготею к Пушкину».
Сорокин тяготел к авангардистам, им все больше обуревала страсть ломать, крушить старое и на обломках прошлых достижений воздвигнуть нечто такое, что бы удивило всех, поразило, огорошило.
В свое время Маяковский тоже ломал и крушил. Но талант его был настолько могуч, что и в крошеве раздробленных хореев, раскромсанных фраз, ярко светилось его дарование:
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.
Или:
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
К сожалению, такой силы поэтического озарения в стихах у Сорокина нет. Но что же у него есть? Почему последние его поэмы «Огонь», «Колыбель» я читаю с трудом? Куда он идет?
Я прозаик, стихов не пишу, но всегда любил поэзию.
Частенько задумываюсь: Кобзев, Фирсов, Марков, Ручьев, Котов… Мои сверстники и друзья. Их голоса звенели все громче, они набирали силы, но Сорокин?…
И снова заговаривал о нем с Кобзевым. Заметил, что говорил он на эту тему неохотно. Аттестации давал короткие. Однажды сказал:
– Душа у человека не на месте. Мрак поселился. А поэзия живет в светлых хоромах. Она не любит ни грязи, ни темени. Смятения чувств не любит. И смуты житейской, суеты… Уходит муза из такого мира тихо и навсегда.
О другом бы подумал на досуге и забыл. Сорокин же меня волновал, тревожил. Я любил его, он был мне близким другом, но, сверх того, мы были соратники по делу, от его позиции, поведения многое зависело в издательстве. Вот он теперь с Прокушевым сдружился,– вроде бы и не дружба это, а новая тактика в борьбе за издательство, но Прокушев не прост, не «чокнутый», как говорит Валентин. Это наш враг – хитрый, коварный.
Встречал я еще в молодости поэтов, которые так ярко и красиво начинали, что их дружно зачисляли в будущие Пушкины, Лермонтовы, Некрасовы. В Литературном институте видел, как загоралась то одна звезда на поэтическом небосклоне, то другая. Быстро они сгорали. Дмитрий Блынский учился в нашем потоке. Стихи писал прекрасные. Парень был по-есенински голубоглазый, высокий, статный. Поехал куда-то – кажется, в Мурманск – а оттуда вернулся в цинковом гробу. Ему было двадцать пять лет. Потом Николай Анциферов. Из шахтерской среды. Писал остроумно, горячо. Строки плел, как кружева, затейливо и крепко. И тоже умер в двадцать шесть лет. Будто бы от опоя. Маленький ростом, а выпил много. Другие пили с ним – ничего, а для него доза оказалась смертельной.
Потом Юрий Панкратов, Иван Харабаров. О них много говорили. И Ваня Харабаров умер при загадочных обстоятельствах в том же, почти юношеском возрасте.
Так же вдруг высоко взлетели имена Фирсова, Котова, Маркова, Кобзева, Ручьева, Рубцова… Евтушенко тоже был в нашем потоке. С ним частенько приходили в институт Рождественский, Вознесенский. Эти искали новые формы, «ниспровергали». Копировали отцов всяких «измов» – Авербаха, Бриков, Мандельштама. Слава Богу, «отцам» мы уже знали цену, «сыновей» всерьез не принимали. Понадобились десятилетия дружной работы поставленной им на службу печатной, радио– и телеиндустрии, чтобы вколотить эти имена в головы новых поколений русских людей. И ныне многим кажется, что эти-то имена и олицетворяют современную русскую поэзию. Три еврея стали выразителями загадочной души славянской! Ну не диво ли!
Сыпались, увядали, пропадали русские таланты. Одни погибали, другие, как Сорокин, начинали петь фальшиво.
В чем же все-таки причина? Уж не работает ли тут хитро спланированный, давно запущенный дьявольский механизм, который выражен словами «верхних» людей: нам нужны Щедрины и Гоголи, но такие, чтобы нас не трогали.
Вспоминаю, как в Литинституте, затем в «Известиях», а уж потом в издательстве спорили на ту же тему: почему наше столетие не дает ни Пушкина, ни Чайковского, ни Репина?
Приведу расхожие суждения:
– Социализм нивелирует человека, всех стрижет под одну гребенку. Общество – казарма, все расставлено по полочкам, по ранжиру. Где же тут проявить самобытность?
– Раньше на пути писателя были редактор и цензор. И то многие задыхались под их гнетом. А ныне? Министерство культуры, творческие союзы, цензура, редакторы. Да появись тут сам Пушкин, его задушат в колыбели.
– Верно вы все говорите, да не упомянули главного: критика у нас не национальная, она целиком в руках евреев. А еврею зачем русская литература? Ведь русская, значит, национальная, а если национальная, то ему, еврею, нечего в ней делать. Пишите вы на своем родном языке, а мы, русские, посмотрим, что из ваших произведений перевести для себя следует. А то ведь нет, на русском пишут и русскую нашу жизнь объяснить нам хотят.
Нередко услышишь: сами мы виноваты. Да, виноваты русские. Это они с их библейской многотерпимостью и безбрежной добротой расплодили в своем доме всю эту нелепую вакханалию. Не ведая и не подозревая, что младенческая беспечность славян, проявившаяся в двадцатом веке с какой-то таинственной преступностью, приведет ко всеобщему социальному коллапсу: произойдет взрыв такой силы, что волны от него и осколки достанут самые отдаленные уголки планеты. И напрасно думают те, кто нагнетает ныне давление в «русском котле», что им удастся отсидеться где-нибудь на побережье Флориды или Канарских островах. Нет, не отсидятся! Если они подпалят «русский котел», то взрыв от него сметет все живое на планете. Все эти клинтоны, олбрайты, бжезинские очень мне напоминают кротов, которые в слепом своем рвении прогрызают ход, ведущий в пекло домны.
Но что же все-таки творится с нашими талантами? Не может же быть такого, что в прошлом веке народ русский породил сотню титанов, а в нынешнем – ни одного!
Вспомнил я, как однажды меня пригласил в свою мастерскую один наш именитый живописец – член академии художеств, секретарь Союза художников России. Сказал:








