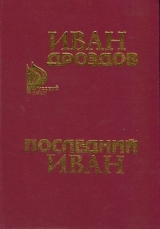
Текст книги "Последний Иван"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Усиленно читал древних авторов, философов средневековья, переводную прозу, поэзию… Читал и перечитывал русскую классику.
В это время я, кажется, открыл для себя и как-то особенно полюбил Салтыкова-Щедрина. Ни в одной литературе – ни в английской, ни в немецкой, ни во французской не видел такого мудреца и тонкого художника. Салтыков-Щедрин, Лесков и Бунин были моей слабостью, я упивался ими, однако они меня, как ни странно, не воодушевляли, а словно бы ударяли по рукам. Являлись укоряющие мысли: «Вон как надо ворочать словом!»
Много раз всерьез подумывал бросить перо и в журналистику не возвращаться – чувствовал пресыщение газетно-журнальной работой. Будто бы ел-ел, а потом кусок застрял в горле, и меня тошнит.
Завел пчел – на случай, если брошу всякие писания.
Особенно много читал мемуарной литературы, эпистолярной. Дневники и письма Толстого, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского, Мусоргского, Репина, Чайковского, Мечникова… И Боже мой! Какая это радость, заглянуть в самую глубь души гения!
Находил у них общие черты: талант, данный провидением, правдолюбие, безоглядную смелость, и непременно у каждого почти сверхъестественное трудолюбие.
И вот еще что важно: не было среди них ни сребролюбцев, ни эгоистов. Думы о других, о вечном – стремление одарить всех людей мира – вот крылья великих талантов!…
Продолжал писать. И уж очередной роман «Горячая верста» подходил к концу.
Утром, позавтракав, шел гулять. Углублялся в лес километров на пять-шесть, а затем, находившись, возвращался домой и снова садился писать.
Роман о металлургах «Горячая верста» написал за год. Отвез его в «Профиздат». Принял меня главный редактор издательства Андрей Дмитриевич Блинов. Знал меня как журналиста, книг моих не читал,– «Подземный меридиан» еще лежал в типографии. Листал страницы рукописи, задавал вопросы и, как мне казалось, воспринимал меня скептически. Даже как будто бы обронил: «Сразу и роман! Лихо!…»
Я знал Блинова как хорошего писателя, автора интересных повестей, рассказов. С одной стороны, был рад, что рукопись попала к нему в руки, с другой – было боязно попадать на суд серьезному писателю.
Разговорились. Оказалось, что дача его в Абрамцево – с нами по соседству. Я пригласил его, дал адрес – без надежды, конечно, что он к нам приедет. Но Блинов приехал. И скоро – дня через три. Смотрю: у ворот зеленая «Волга», за рулем милая, совсем юная девушка – его дочь. Вышел и он – с палочкой, прихрамывая. Блинов – фронтовик, был тяжело ранен. На лице – улыбка:
– Вот вы где! Слыхал про ваше братство, а бывать не приводилось.
На веранде, усаживаясь в кресло, сказал:
– Роман прочитал. Будем печатать.
Я задохнулся от радости. «И этот роман принят. Буду писать. Теперь уже без оглядки».
Так произошла моя встреча с Блиновым. Скоро этот человек круто развернет всю мою жизнь, направив ее в русло, где я вплотную столкнусь с литературным процессом, увижу и познаю грани жизни, доселе мне неведомой.
После обеда, ближе к вечеру, отправился к друзьям. По дороге к Шевцову зашел к Фирсову. У крыльца дома на лавочке сидел дядя Ваня – брат отца Фирсова, русский крестьянин, приехавший в гости к именитому племяннику.
Я любил его общество и не упускал случая побеседовать. Присел рядом, показал на недавно построенную в глубине сада времянку, где находился кабинет поэта. Оттуда доносился громкий разговор, из приоткрытой двери шел табачный дым.
– О чем они там? – спросил дядю Ваню.
– А-а…– махнул рукой.– О них толкуют… Ну, как их?… Синасти.
– Что это, дядя Ваня?
– Ну, эти… как они… синасти!
И уже подходя к двери, я вдруг понял: «сионисты!» Рассказал Фирсову, Шевцову, Чалмаеву. Они долго и громко смеялись. С тех пор надолго в лексикон семхозовской братии вошло это дяди Ванино слово.
Едва я вошел во времянку, хозяин схватил со стола свежий номер «Известий», швырнул на пол:
– На, читай свою газету! Кого печатают?… Кого хвалят?… Тель-Авив сплошной!
В этот момент по радио упомянули Антуана Сент-Экзюпери. Фирсов выдернул шнур.
– Вот еще! Сент-Экзюпери!… Хороший человек и сказку про принца написал. Но пощадили бы мои уши – с утра до вечера талдычат: Экзюпери, Хемингуэй, Ремарк… Если о наших поднимут гвалт – Евтух, Робот Рождественский, Майя Кристалинская, Кобзон. А уж если об ученых, о великих мудрецах загалдят – Энштейна не забудут! Ты, Иван, в газете работал, скажи на милость: кончится это когда-нибудь или нет?
Плюхнулся на диван, заломил руки за голову, смотрел в потолок. Гнев его святой мы понимали. Тут, среди гостей Фирсова, не было человека, который бы на собственной шкуре не испытал засилья в газетах и журналах сионистов, которое к тому времени, на рубеже 60-70-х годов, становилось не только ощутимым, но уже принимало повсеместный характер. И если раньше мы не имели серьезных печатных трудов, разоблачающих сионизм, то тогда уже у каждого из нас на столе лежала книга Юрия Иванова «Осторожно: сионизм!» – книга, произведшая в умах русской интеллигенции эффект разорвавшейся бомбы. Правда, Юрий Иванов исследовал сионистское движение как явление планетарное. Эта расистская идеология будто бы была где-то, не у нас, но каждый читавший книгу невольно и как бы автоматически проецировал события и сведения, в ней содержавшиеся, на нашу жизнь,– слишком знакомы были каждому из нас взгляды, действия, образ поведения заокеанских и всех прочих господ, претендующих на мировое владычество.
Это было время, характерное для всего послесталинского периода: за вольные разговоры не сажали, за «нелюбовь к евреям» не расстреливали, но говорить громко обо всем люди еще опасались. Зато же и давали волю языкам в кружках дружеских – подобных тому, который невольно составился в семхозовском писательском братстве.
Можно понять горячность, с которой витийствовал Фирсов: он, хотя только начинал свой путь в поэзии, но уже был изрядно искусан критиками. Он бы мог о них сказать словами Чехова: «Критика меня мало интересует, она у нас не национальна».
Придет время, и оно теперь недалеко, когда эта самая «не национальная» критика примется и меня утюжить; я бы тоже мог повторить слова Чехова, но могу свидетельствовать: от ударов и укусов этой самой критики бока так же долго болят, как и от всякой другой.
Били Фирсова и свои – те, кто охотно подпевал «неистовым ревнителям», выслуживался перед власть имущими и тем обеспечивал себе право печатать статьи, книги.
Союз «швондеров и шариковых» набирал силу. Недаром его больше всего боялся Михаил Булгаков. В 80-х он уже в образе мафии тугой петлей затянет всю русскую национально-патриотическую литературу.
Молодой Фирсов еще в начале 60-х напишет:
В цене предатели народа,
Что говорить, в большой цене.
Да, господа Шариковы, обнявшись со Швондерами, получая от них щедрые подачки, оказались сущей бедой для русской литературы в канун третьего тысячелетия. Ныне всякая попытка литератора сказать доброе слово о России, русском характере, даже само слово «русский» воспринимаются как опасная форма национализма, шовинизма, и слово «русский» многими понимается как синоним «антисемита».
В кабинете Фирсова в тот раз собрались близкие товарищи и не было среди них не битого, не искусанного критиками, о которых каждый бы мог сказать словами Маяковского: «все мои критики коганы».
«Литературную газету» в то время возглавлял Александр Борисович Чаковский, «Литературную Россию» – беспринципный Вася Позднеев, в «Известиях», как я уже писал, весь отдел литературы и искусства состоял из евреев… Начиналась хорошо спланированная травля русских писателей – изгнание из всех сфер искусства русского духа.
И первые удары из тяжелой артиллерии – со страниц центральных газет – уже были нанесены по Шевцову, Кобзеву и Фирсову. Притулившийся тут же в кресле у камина критик Виктор Чалмаев напечатал две-три статьи в защиту патриотического духа и как раз в эти дни подвергался за них дружному остракизму. Его и критика Михаила Лобанова, напечатавшего в «Молодой гвардии» статью «Просвещенное мещанство», предавали анафеме даже радиоголоса из-за кордона.
Я и сам, не зная броду, сунулся в эту «воду» – написал две статьи на литературные темы: «Закат бездуховного слова» напечатали в «Журналисте», а «С самой пристрастной любовью» – в «Огоньке». Последняя статья о журнале «Юность».
Отступая, мы огрызались, отстреливались – иногда наносили удары, но… отступали. Однако силы были неравны. Родная партия, членами которой мы состояли, отдавала самое грозное оружие – печать – в руки противника, множила тиражи его газет и журналов. Русские люди в пьяном усердии рубили русский лес, и русские же люди в том же пьяном бреду и слепом забвении набирали, печатали эти газеты и журналы,– и вся эта отечественная родимая силушка сваливалась на голову русских патриотов, стремившихся из последних сил прокричать слова тревоги, отрезвить, образумить замутненное сознание своих соплеменников.
Но адская машина одурманивания, оглупления и ослепления, запущенная родной партией, набирала обороты. У руля стояли великие «кормчие»: вначале Сталин, затем Хрущев, а уж потом пьяница с отпадающей челюстью Брежнев. Они туго знали свое дело: мяли, крушили, давили все святое на Руси, и в жернова этой адской машины попадала прежде всего наша родная русская литература.
Все собравшиеся тогда в кабинете Фирсова уже были втянуты в закипевшую в канун семидесятых годов литературную баталию и, как потом мы все убедились, приведшую нас к полному и бескомпромиссному размежеванию. Призывы к консолидации, раздающиеся ныне из конъюнктурных соображений, не возродят русского искусства, оно может подняться только на национальной почве.
Однажды, ближе к вечеру, я вот так же зашел к Фирсову. В кабинете не было привычных лиц, но у камина в кресле сидел невысокий, кареглазый, начинающий седеть человек. Фирсов назвал его:
– Свиридов Николай Васильевич.
Мы познакомились. Я сел от него поодаль, слушал их беседу. Я знал: Свиридов – председатель Госкомиздата РСФСР, недавно он был в ЦК заместителем заведующего отделом пропаганды.
Словом, к Фирсову залетел глава всех издательств России.
Он был строг, сдержан, но скоро мы разговорились.
– Напрасно вы ушли из журналистики,– сказал он.
– Почему? – удивился я.
– У вас был серьезный пост. Они на ваше место быстро подтянут своего бойца. Я-то уж их знаю.
Свиридов обозначал свою позицию. Это уже была откровенность. Он начинал мне нравиться.
Между тем Людмила, жена Володи – женщина сколь яркая и обаятельная, столь и остроумная – накрывала стол. Выставила вино, коньяк. После первых выпитых рюмок языки развязались. Фирсов, обращаясь к высокому гостю, сказал:
– Вот Дроздов, выпал из гнезда – нашли бы ему должность.
Свиридов, набычившись, склонился над столом, не отвечал. Я каждой клеткой ощущал неловкость своего положения, допил вино, решительно поднялся.
– Извините, мне нужно на станцию жену встречать.
Свиридов встал, протянул руку, Прощаясь, сказал:
– Заходите в Комитет. Поговорим.
На следующий день утром с измятым лицом ко мне пришел Фирсов:
– Людмила не дает выпить. Дай чего-нибудь.
Я выставил графин самодельного вина – из черной смородины. Володя «поправил голову», сверкнул карими глазами.
– Иди к Свиридову – должность даст. Министр!… Должности у него, как пятаки у нас в кармане.
Наливал стакан за стаканом – пил.
– Иди, говорю. Не мешкай. Завтра же!
– Я сотрудничаю в журнале «Человек и закон», судебные очерки печатаю. Там и редактор – милый человек – Сергей Высоцкий.
– Нашел милого человека,– «шнобель»!
– Никакой он не еврей! – вступился я за Высоцкого.– Я его здесь, в Семхозе, хочу поселить. Вполне приличный человек!
– «Шнобель»! – вновь отрезал Фирсов.– А если «шнобель», значит такой же, как все эти…
Язык у него начинал заплетаться. Я решил не спорить. Сказал:
– Хорошо, Володя. К Свиридову я зайду. Спасибо за рекомендацию.
– Да, старик, иди, проси должность. В издательствах прорва «шнобелей», трудно дышать. Меня не печатают, а если возьмут, то все лучшие стихи выбрасывают, оставляют безделки. Может, в издательстве редакцию тебе даст, а то и того выше – заместителем главного назначит. Он же министр! Все может.
Фирсов пил, пока не увидел дно графина. Вновь и вновь меня тревожило это обстоятельство: пьют наши ребята! Природа такой большой талант парню отвалила, а он его заливает спиртным. И вот ведь что страшно: никто из них, зашибающих уже сильно, не видит опасности в своем пристрастии. Пробовал я говорить и с Шевцовым, и с Фирсовым – отмахиваются, как от назойливой мухи: «Ах, пустяки! Брось нагнетать страхи!»
Проводил Володю до дома. Людмила и ее мать, завидев нас, всплеснули руками.
Я чувствовал себя виноватым.
Госкомиздат России помещался вблизи Никитских ворот, на улице Качалова, тут же рядом церковь Святого Вознесения, где венчался с Натальей Гончаровой Пушкин.
В кабинет председателя вели дворцовые двухстворчатые двери, украшенные золотыми вензелями, старинными сияющими ручками.
Кабинет был огромный, как и у всякого министра,– хозяин его при появлении посетителя не поднимал головы, а ждал, когда тот приблизится к его столу. Еще при встрече у Фирсова заметил, что Свиридов туговат на левое ухо и потому предусмотрительно зашел с правой стороны, сдержанно поздоровался.
– Садитесь,– сказал Свиридов, не подавая руки.
Приземист, сутуловат, с красивой шевелюрой волнистых волос. Выглядел молодо. Отстранил на столе бумаги, откинулся на спинку кресла.
– Ну, как на свободе? Не скучновато?
– Поэт Алексей Марков, никогда нигде не служивший, говорит: самый несвободный человек – это свободный человек.
– Марков скажет. Горазд на хлесткое словечко.
Хозяин кабинета помолчал, тронул для порядка бумаги. Неожиданно сказал:
– Вы в Литературном институте учились, наверное, знаете многих литераторов?
– Не сказал бы, что многих, но кое-кого…
– Мы сейчас новое издательство создаем – «Современник». Важно подобрать туда серьезных людей. Вот… Юрий Панкратов. На курсе с Фирсовым учился, вы должны знать его.
– Давно мы учились, люди меняются. Раньше его «Литературка» до небес возносила, потом бросила. Чем-то не потрафил.
– Когда поднимали его, во времена Кочетова?
– Да нет, уж при Чаковском.
– Чем же он не угодил Чаковскому?
– Панкратов Пастернаку молился, на даче у него дневал и ночевал – тогда его поднимали, а тут вдруг бросил учителя, разошелся с ним. Ну, тут его и кинули в колодец. Ни слова доброго о нем.
– Да, похоже на то. Он, говорят, поначалу все черным цветом мазал.
– Было такое. Вот как он Россию в то время представлял:
Трава зеленая,
Небо синее,
На воротах надпись:
«Страна-керосиния».
– Вот, вот… Такой-то Чаковскому подходил.
Говорит басовитым, нутряным голосом. В глаза собеседнику долго не смотрит. Я во время своей корреспондентской службы вырабатывал способность смотреть в глаза собеседнику. Ценил и завидовал тем, кто способностью этой обладает в высокой степени. Свиридов долго в глаза не смотрел и в одной позе не сидел – то отклонится в угол кресла, то подвинется к столу. Однако говорил умно и дело свое, видимо, знал хорошо.
– Ну, так как – станете рекомендовать его в новое издательство на редакцию поэзии?
– С ходу так – не могу. Если позволите, спрошу у верных людей, тогда и вам доложу.
– Да, да, я вас попрошу об этом. И вот еще – Валентин Сорокин. Этот нас особенно интересует.
– Сорокина я знал еще по Челябинску,– тогда он на металлургическом заводе работал машинистом подъемного крана.
– Крановщиком?… Не металлургом?
– В мартеновском цехе крановщик – тоже будто бы металлург.
– Именно: будто бы – буркнул Свиридов, видимо, недовольный теми, кто неточно ему доложил.– Я вот тоже… артиллеристом мог бы назваться, а я был химиком в дивизионе «катюш».
Свиридов после нашей продолжительной и вполне доверительной беседы предложил мне зайти к Карелину.
– Побеседуйте еще с ним,– сказал Николай Васильевич.
Со второго этажа я спустился на первый. Здесь, в конце правого крыла здания, располагался издательский главк – Рос-издат. В небольшом кабинете сидел главный редактор всех издательств России Петр Александрович Карелин или ПАК,– так его сокращенно называли в Комитете.
Петр Александрович, завидев меня, не удивился – видимо, Свиридов его предупредил. Только сказал:
– И тебя скушали в «Известиях»?…
– И да и нет. Сам ушел, но, конечно, припекло.
– Понимаю,– крепко пожимал мне руку Петр Александрович.– Я с ними всю жизнь работаю, заметил: у них, как в атомной физике,– критическая масса есть. Как только количество евреев в редакции достигло критической массы – тогда беги. Русскому там делать нечего.
– А сколько же это – критическая масса?
– Тридцать процентов. Они при этом числе быстренько занимают все ключевые позиции, настраивают свои дела, и если ты соглашаешься плясать под их дудочку, тогда еще подержат немного, а не то сам уйдешь. Тошно станет.
Петр Александрович меня знал еще с Литературного института. Он тогда в «Литературной газете» с В. Кочетовым работал и был вторым человеком в редакции – ответственным секретарем. В то время Кочетов был популярным писателем, мы все знали его роман «Журбины»; с Карелиным они работали еще в Ленинграде, в дни блокады, во фронтовой газете «На страже Родины». Мы приходили к Карелину – он любезно принимал нас и, если нам удавалось написать что-нибудь дельное, печатал.
Потом вместе с Кочетовым они перешли в журнал «Октябрь» – Карелин и там играл первую скрипку. Но у Кочетова жена была еврейка, она все время поставляла мужу кадры. Эти-то «кадры» ссорили фронтовых друзей, и наконец та самая «критическая масса», о которой говорил Карелин, вытолкнула его и из «Октября».
Нам вместе привелось работать в «Известиях». Он был заместителем редактора по разделу литературы и искусства, заказывал мне статьи, охотно их печатал. Мне нравился этот высокий интеллигентный человек с легким и веселым характером – он много знал и умел о любом пустячном случае забавно рассказывать.
Посылая меня в Комитет, Фирсов сказал:
– Там Карелин… Имей в виду, это первый у Свиридова человек.
Узнав, что я на свободе, Карелин без дальних предисловий предложил мне должность своего заместителя. При этом сказал:
– Я скоро пойду на пенсию. Вот мне достойная замена.
И рассказал: Комитет только что получил решение правительства о создании нового мощного издательства «Современник». В нем будет печататься в основном художественная литература – проза и поэзия. И будет небольшая редакция критико-публицистической литературы. Строго определена пропорция регионов и столицы: 80 процентов – книги писателей российской периферии, 20 процентов – москвичей. В год будет издаваться 350 книг. Почти каждый день – книга.
Свиридов поручил мне подобрать редакторский состав. Строго наказал: «Ни одного еврея!» Условились, что я свое решение сообщу на днях по телефону.
Первый день работы в Комитете напомнил мне тракторный завод в Сталинграде, где двенадцатилетним мальчиком начал я трудовой путь. Принимали с четырнадцати лет,– пришлось прибавить себе два года. Учился я на токаря, но скоро мастер подвел меня к строгальному станку, показал, как на нем работать, и велел отстрогать планку. На другой день мне уже пришлось работать на двух станках – токарном и строгальном, а очень скоро заболел рабочий, и меня тут же научили долбить фаски, канавки на станке долбежном. Прошло три-четыре месяца, мастер попросил меня остаться во вторую смену. Так четырнадцать часов я беспрерывно переходил от станка к станку – долбил, строгал, точил детали. И помню, как однажды, когда выпал особенно жаркий день и меня оставили во вторую смену – в десятом или одиннадцатом часу вечера я в изнеможении присел на штабель деталей и подумал: «Неужели всю жизнь… вот так, от станка к станку?…»
В Комитете не было станков, тут ничего не надо было строгать, точить – тут надо было сидеть. С десяти утра до шести вечера. Каждый день. Безотрывно, безотлучно – сидеть и… не делать глупостей. Боже упаси, если в беседе с посетителем или сотрудником что-нибудь не так скажешь, не так оценишь бумагу, не то ей дашь направление.
Тут надо было быть умным. Или изображать из себя умного. Если же ты не был ни тем, ни другим, надо было больше молчать. И покачивать головой, не очень сильно, но так, чтобы и посетитель, и сотрудник, общающийся с тобой, не могли понять истинный ход твоих мыслей. И тогда им нечего будет о тебе говорить.
Карелин был вечно в отсутствии. Он обыкновенно вечером звонил мне на квартиру, говорил, что завтра будет писать для председателя доклад или речь на какой-нибудь книжной выставке, на приеме или на банкете. «Запрусь где-нибудь в свободной комнате – ты меня не ищи».
Я принимал на себя поток посетителей. Нельзя сказать, что это был сплошной поток, что народ валил к нам в кабинеты. Нет, народ в наших коридорах не толкался. Да, в сущности, здесь и не было народа – были писатели, ученые-литераторы, а из наших, ведомственных,-директора издательств и главные редакторы.
Помню, в первый же день заявился Илья Бессонов – наш известинский журналист, собкор по Ставропольскому краю.
– Ты здесь? – удивился он.– И меня съели. Я теперь директор Ставропольского книжного издательства. И вот – написал роман.
Вытащил из портфеля объемистую рукопись, положил на стол.
– И что же? Хочешь, чтобы я почитал?
– Конечно! И дал бы добро на публикацию в нашем издательстве.
– А я… разве имею такое право?
– А кто же? Здесь порядок таков: директора издательства или главного редактора могут напечатать только с разрешения Карелина. Ну, а ты – его заместитель. Тут до тебя был Николай Иванович Камбулов. Он все такие дела прокручивал.
– Если так… оставляй.
Бессонов рассказал о бедах своего издательства. Бумаги мало, писатели стонут. По пять лет ждут своей очереди.
– А ты тиражами маневрируй. Уменьшишь тиражи – больше имен выпустишь.
Бессонов выпучил на меня глаза. «Не шутишь ли?» – говорил его взгляд. Популярно мне объяснил, что большие тиражи выгодны издательству и типографии. Рукопись подготовили, завели на поток и – шлепай. Отсюда премии, прибыли. Кажется, я сморозил первую глупость. Хорошо, что на своего напал.
Позже мне станет ясен главный механизм, угнетающий наше книгоиздательское дело. Громадные тиражи: сто, двести, триста тысяч! А то и больше. На бумаге, которую мы тратили на одного писателя, можно было издать десять, двадцать авторов.
Бессонов раскрывал передо мной дверь, ведущую в одну из самых важных тайн партийной политики, точнее – политики серых мышей и их полководца красного кардинала Суслова: переключить бумагу и всю полиграфическую мощь страны на авторов, живущих в столицах. Соответственно пошли закрывать издательства в российских городах, их все больше сосредоточивали в Москве и центрах республик.
При царе было несколько сотен издательств – точной цифры никто не знает, теперь пятьдесят два, и главные, бумагоемкие – в Москве.
Серые мыши подбирали вожжи – налаживали жесткий механизм контроля над мыслью, и прежде всего русской мыслью.
Госкомиздат РСФСР – главное колесо в этом механизме.
Бессонов достал из портфеля прекрасно изданный толстенный том. Подавая его мне, сказал:
– Не подумай, что это Лев Толстой,– нет, это Фрида Вигдорович. Поучает наших детей, как им надо жить, кого любить, а кого и не очень.
Я листал книгу в голубой обложке. Не рассказы, не повести – какие-то статьи, записки, документы. Все из области педагогики. Бессонов доверительно сообщил: с мадам Брежневой знакома. Бойся ее! Посмотрел внимательно на Бессонова, заметил хмель в глазах. Сказал строго:
– В Комитет навеселе не показывайся больше. И Карелин, и, паче чаяния, Свиридов чтобы тебя не видели.
– Ладно, старик, за меня не волнуйся, а лучше взгляни, каким тиражом эту Вигдорович тиснули.
Я посмотрел и ахнул: триста тысяч!
– А теперь гляди на сроки,– тыкал пальцем Бессонов в справочные сведения книги.
Я смотрел: сдали в набор, подписали к печати… Раньше я не обращал внимания на эти цифры и не очень-то хорошо представлял, что они означали. Бессонов все объяснил. И в заключение помахал у меня перед носом томом:
– На этот «шедевр» вы истратили столько бумаги, сколько выдается мне за год на издательство. А писателей на Ставро полье больше полусотни. Их-то вы на голодном пайке держите. Вот она… ваша служба на ниве народного просвещения.
Прощаясь, я показал на его рукопись:
– И здесь кое-что отразил?
– Самую малость. А стоит мне зачерпнуть поглубже – ты первый и хлопнешь меня по башке. Система!
Я проводил Бессонова до церкви Святого Вознесения, усадил в такси и еще раз предупредил: под хмельком у нас не появляйся.
– Спасибо, Иван. Надеюсь, мою рукопись не зарубишь. Я писал ее слезами.
В тот день я принял еще четырех писателей – двух москвичей и двух с периферии – и, беседуя с ними, открыл для себя еще одну дверь, ведущую к тайнам нашей системы. «Маститый» автор из Москвы просил оставить его «позиции», то есть рукописи, в четырех или пяти издательствах.
– Ваш отдел координации оставляет только три «позиции», а две выбрасывает из планов.
Отдел координации был для того и создан: не допускать дублирования одних и тех же имен в разных издательствах, разрешать любому автору в течение года издавать только одну рукопись. Здесь же автору разрешалось издать одну и ту же книгу, и давно написанную, сразу в трех издательствах, а он недоволен.
Слушаю внимательно, и это поощряет автора к откровенности. Он раскрывает свою лабораторию: пишет он быстро, много и все издает. Многое проходит у него через радио, телевидение – его любят театральные режиссеры. Я его знаю. Он один из тех, кто пишет стертым как медный пятак языком, русской жизни не знает и русских изображает пьяницами, бездельниками, дурными людьми.
– Три позиции у вас оставлены,– пытаюсь возражать.
– Зачем эти запреты, рогатки, препоны! Издатели хотят выпустить книги – значит, их требует читатель. И пусть издают! Зачем же бить по рукам?
– Хорошо, мы здесь подумаем. Учтем вашу просьбу.
Другой москвич, тоже «маститый», принес кучу хвалебных статей о своих книгах. И так же требует открыть ему семафор в издательствах.
– Если хотят – пусть печатают! – пытается меня учить.– Вы сами видите, какие я пишу книги. Вот рецензии: «Литературка» хвалит, «Советская культура», «Учительская газета» – требует мои книги в каждую школу.
Заходит писатель периферийный. Он и выглядит, и держится по-иному: скромный, сдержанный, и тон его речи просительный.
– Накладка вышла,– говорит, словно извиняясь.– Пять лет не печатался, залез в долги, жить не на что, а тут вдруг повезло – сразу в двух издательствах. Рукописи, правда, новые и разные, но все равно… Нельзя ведь. Так я прошу, чтобы рукопись поменьше объемом – у нас, в местном издательстве, сняли бы, а побольше – ту, что здесь, в Москве, запланирована, – оставили. И гонорар побольше, и чести, престижности… Все-таки – Москва, как бы признание…
– Но в чем же проблема? Я в толк не возьму.
– Да ваш отдел координации выбрасывает московскую позицию. Вы уж, пожалуйста, скажите им…
– А если обе позиции оставить? Ведь вы пять лет не печатались.
– Да разве можно? – удивленно смотрит на меня писатель.– Вроде бы закон есть,– запрещает.
– Да, да,– спохватываюсь я, забыв, что представляю официальное учреждение и обязан блюсти законы. И чуть было не сказал, что только что был писатель, которому разрешили три позиции, но вовремя смирил порыв откровения. Сказал:
– Вы напишите нам заявление, все растолкуйте хорошенько, а мы тут посмотрим. Постараемся вам помочь.
Второй писатель из дальнего российского города,– кажется, из Иркутска,– изложил примерно такую же историю. И его я попросил написать заявление.
Он уходит в другую комнату писать заявление, а я звоню директорам издательств, объясняю положение, прошу оставить обе позиции. Зашел в отдел координации и тоже объяснил и попросил…
Не знал я и этого тайного механизма, при котором одним писателям, москвичам, разрешалось одновременно издаваться во многих издательствах, другим – такого права не давалось.
Вечером мы с Карелиным шли пешком до «Краснопресненской». Он посвящал меня в тайны явлений, с которыми в первый же день столкнула меня служба в Комитете.
– Что за люди сидят в отделе координации? – спрашивал я Карелина. – Я сегодня почувствовал, что строгости свои они распространяют не на всех литераторов.
– Дело не столько в людях, сколько в обстоятельствах, в которые они поставлены. Есть в этом отделе и честные работники – их, пожалуй, там большинство, но, попробуй они отказать Вознесенскому или Ахмадулиной, Симонову или Гранину,– тут такой гвалт поднимется,– за океан покатится. «Голоса» на защиту встанут, по всему миру возвестят: «шовинисты», «антисемиты»!… Права человека ущемляют, рот зажимают! А тот, из Воронежа или из Орла писатель,-он шума не поднимет, «голосам» он не нужен. Так его и поприжать можно, а если пять лет не печатают – тоже ведь никому от этого ни жарко, ни холодно. Деньги на прокорм займет, а если уж совсем припечет, на завод пойдет или в поле: русскому человеку физический труд привычен.
– Ну нет, Петр Александрович, я, наверное, так рядить и судить не смогу. Если уж есть закон, так пусть для всякого, исключений делать не стану.
Карелин помолчал с минуту – видно, я его озадачил,– но потом так же тихо и ровно, как он и говорил обо всем, заметил:
– В «Известиях» мы с вами тоже не все принимали, а жизнь знай себе гнет нашу спину. Где-то я читал, что будто бы в Америке перед входом в конгресс долгое время надпись висела: «Умей не выходить из себя по поводу вещей, которых ты не сможешь изменить». Вот эти «вещи», которых мы не можем изменить. У нас их, к сожалению, много.
– Мне такая надпись не очень по душе, капитулянтским душком отдает, трусостью, окопным настроением. Сиди себе в окопе и не рыпайся. У нас же с вами есть права, власть, наконец, воля. И Свиридов будто бы человек правильный. Вот и вам он команду дал: в новое издательство евреев не пускать.
Я горячился. И уже подумывал: «Черт меня занес в это болото! Мало того, что писать не смогу, торчать тут буду с утра до вечера и на дачу дорогу забуду,-тут еще и ловчить, подличать надо! Своих ребят обкрадывать, русской литературе кислород перекрывать, а этих… чужебесов с их пустопорожней писаниной выпускать, да еще и подталкивать, машины, рабочих загружать, леса русские на них изводить. Нет, не смогу я в этой конторе! И заявить об этом надо как можно раньше. Нечего ни им, ни себе голову морочить».
Но тут заговорил Карелин:
– Николай Васильевич – человек честный, принципиальный, но он, к тому же, еще и человек умный. Понимает: если перед ним стена – лбом переть не надо, лучше обойти ее, уклониться от лобовой встречи. Он в такие условия поставлен – врагу не позавидуешь. Он, словно волк, со всех сторон красными флажками обложен. Куда ни метнись – охотник с трехствольным ружьем. И каждый в сердце метит или в голову. На Старой площади главный охотник сидит – Яковлев Александр Николаевич, заведующий отделом пропаганды; в Совете Министров РСФСР – второй охотник, Качемасов, заместитель председателя Совета Министров по культуре; в Союзе писателей – большом, союзном,– Георгий Марков, сын Маркуши; в Союзе писателей российском – Сережа Михалков – у этого столько масок на лице, что и сам черт не поймет, какому он богу молится. А если уж правду говорить: все эти молодцы одним миром мазаны – от каждого из них чесночком отдает. А уж о Яковлеве и говорить нечего: этот на все русское буром прет.








