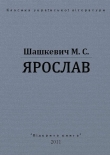Текст книги "Лесные дали"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Так ведь я не знаю.
– А ты узнай. Это твой долг: знать. Из книг узнай. Вон их сколько у меня и, считай, добрая половина про лес.
Афанасии Васильевич резким жестом указал на старую, еще довоенную этажерку, заставленную книгами, и сам пошел к ней, тяжело ступая мягкими, подшитыми войлоком валенками, приговаривая:
– Сам покупал, а больше Степа, сын, одаривал отца лесными книгами. Все хотел сделать из меня ученого лесника. А и то правда – человек при деле должен свое дело знать не хуже профессора. Если ты бочкарь, то знай, из какого дерева какая кленка на что годится А так же и лесник. И Николай Мартынович тоже привозил мне лесные книги. – Он извлек из библиотеки два томика: один толстый, другой потоньше, повернулся лицом к Ярославу: – Во, "Русский лес" называется. Леонид Леонов написал. Роман. Николай Мартынович подарил. Он с этим Леонидом Леоновым, вот как мы с тобой, разговаривают и чаи пьют. А это сочинение самого Николая Мартыновича. Называется: "Сердитая книга". – Он протянул Ярославу второй томик. На титульном листе стояла надпись: "Лесному чародею, моему доброму исцелителю А. В. Рожнову – великому труженику земли русской и редкой души человеку – с благодарностью за приют и ласку. Ник. Цымбалов". Ярослав вслух прочитал надпись и видел: старику приятно. Спросил, как понимать "исцелителю"? Афанасий Васильевич охотно пояснил:
– Так ведь он больной, Николай Мартынович. И нестар еще, а больной. На фронте был – ну, это само собой, считай, весь народ через войну прошел. А потом, работа его писательская, как я посмотрел, ох и несладкая. Вот эту книгу он шесть лет писал. А человек он не каменный, и нервы у него, и сердце, и душа. У нас тут в прошлом году случай был: директора гортопа ни за что ни про что в газете пропечатали. Клевета на него. А он чист был, безгрешен. Так расстроился человек, что на другой день скорополительно скончался.
Ярослав улыбнулся этому скорополительно, но смолчал, а старик продолжал:
– А доктора что, доктора душу не лечат. Отдых и покой прописали. Приехал он в наши края. На родину свою, выходит. Какой тут покой, сам видишь. Бывают дни, что и Лель ни разу не гавкнет – не на кого. А без причины умная собака брехать не должна. Правда, весной дело было: птицы шумели – днем дрозды, зяблики, иволга кричала, кукушка, а по ночам – соловей. Тут они в черемухе над оврагом поселение имеют. Ежегодно. Придет пора – услышишь. Только они Николаю Мартыновичу не помеха, а самое что ни есть успокоение для души. Ну, а потом лес – это целая аптека. Что ни дерево, то лекарство, безвредное и пользительное, пей его и денно и нощно, сколько твоей душе угодно. Фитонциды называются, слыхал такое слово? Они и есть это самое древесное лекарство, которым мы дышим. От разных болезней. А самое сильное и пользительное в наших краях – дуб. Потом ягоды, грибы. Мед. Э-э, мед – это, скажу тебе, самое главное лекарство. Я и медком майским Николая Мартыновича поправлял. И маточным молочком. Слыхал про такое? – Ярослав отрицательно покачал головой. – Ну, брат, это же сила! Хотя тебе еще рано, ты молодой, и так здоровый.
На другой день Ярослав поехал на делянку, где шла рубка ухода.
Снег сыпал весь день спорый, густой. Он обильно покрыл землю, укутал деревья, не успевшие сбросить листву. Похоже было, что зима наступила сразу и всерьез, без обычных слякотей и ростепелей. К вечеру подморозило, и, когда снег перестал падать, на небе высыпали беспокойные звезды. Они искрились, дрожали, точно кем-то потревоженные, а может, только так казалось Ярославу, потому что тревога поселилась в нем самом, поселилась еще с утра и не покидала его и теперь, когда в потемках верхом на лошади возвращался в дом Афанасия Васильевича, который еще вчера казался ему и его домом, а сегодня… Сегодня все спуталось, смешалось в голове Ярослава, как моток проволоки, где много концов, да трудно вытянуть нужный кусок. И первопричиной всей этой неразберихи он считал Кобрина, для которого нет ничего святого в этом мире, а существует только он один со своим единственным стремлением – поживиться чем только можно, прибрать к рукам все, что плохо лежит. О Погорельцеве Ярослав еще не составил определенного мнения, а просто был зол на него за девять сосен, за непонимание красоты природы и даже за то, что у него симпатичная жена. "А ведь она не обиделась на меня", – почему-то вспомнил Ярослав веселый добродушный смех ее и такой же тон, когда она призналась, что лесничий – ее муж. И она не одобряет своего мужа и разделяет гнев и возмущение Ярослава. Вот и думай-гадай. И что за человек этот Валентин Георгиевич? Месяц тому назад Афанасий Васильевич о нем отзывался неплохо: мол, дело знает, хозяйственный и к людям внимателен. Бывает грубоват, да с иным без крепкого слова и не договоришься. Интересно, поедет Афанасий Васильевич к сыну или нет? А если поедет, то когда и надолго ли, думал Ярослав, подъезжая к дому. Залаял Лель – добродушно, беззлобно: просто сообщил хозяину, что появились свои, а не чужие.
Во второй половине верхний свет был выключен – это Ярослав заметил, еще подъезжая к воротам. Афанасий Васильевич в темной рубахе, подпоясанной ремешком, и не в старых, ватных, а в новых, выходных брюках и черных катанках, которые он носил с калошами, сидел у телевизора и смотрел концерт коллективов художественной самодеятельности. По его одежде Ярослав понял, что старик куда-то ходил: должно быть, в лесничество. И с досадой подумал: "Как же я не догадался оставить ему лошадь. С больными-то ногами – пять километров туда да пять обратно". Стало неловко. А старик, не отрываясь от телевизора, спросил, скорее для проформы:
– Ты на делянке был?
– Ага, – ответил Ярослав и, подсев к Афанасию Васильевичу, сказал: – Деревья падали, как люди на войне. У меня душа кровью обливалась. Жалко смотреть.
– Это ничего. И рубить надо, и сажать. Только с умом.
– Я понимаю – рубили законно, спелый лес. Все как положено. Но я не могу смотреть спокойно, когда такую красоту губят.
– Ну, а это – глянь, разве не красота? – старик многозначительно кивнул на экран телевизора. Там скрипач играл Шопена.
– Тут другое дело, – неопределенно отозвался Ярослав, не понимая, что хотел сказать старик.
– И совсем не другое. Скрипка, она из чего сделана? Из ели. Вон она какая певунья, наша северная ель. Выходит дело, и срубили ее не напрасно. Для пользы человеческой. И красоту не загубили. Потому что в жизни так устроено: природа и человек могут и должны жить в мире и согласии. Помогать друг другу. А то, что душа, говоришь, болит – это по молодости. Я вот тоже, помню, мальчонкой был. Больно любил цветы. Возле нашего села луг весь в цветах. Ну такая красотища! Заберешься в траву, ляжешь на спину среди ромашек да разных колокольчиков, смотришь в небо, а кругом такая благодать, что невольно плакать хочется от радости и полноты. А потом в июне выйдут косари и всю мою красоту подстригут под корень. Жалко. Да как ни жалей, а красота эта опять же на пользу пошла: скотине корм на всю зиму.
Старик умолк и задумался. Немного погодя Ярослав спросил:
– Вы, никак, выходили, Афанасий Васильевич?
– Прошелся маленько… по первопутку. С ружьецом. Думал, косого встречу, – схитрил старик.
– Какая обида! Я-то, голова садовая, Байкала угнал, – сокрушался Ярослав.
– На что мне Байкал? Он теперь твой. Законный. Так что ты не сумлевайся насчет справки. С Валентином Георгиевичем все обговорено – честь по чести. А тебе придется теперь уважить просьбу Аллы Петровны – я слово дал.
"Настойчивая, однако", – подумал с возрастающим любопытством Ярослав и спросил:
– Вы ее видели?
– Дома у них был. Чаевничали. О тебе говорили, – не глядя на Ярослава, с преднамеренным безразличием ответил старик.
Подложив в печь три березовых полена и приглушив звук телевизора, продолжал, не отрывая взгляда от экрана:
– Все расспрашивала: много ли картин нарисовал. Оно, конечно, новый человек появился – интересно знать, что да кто. Так уж заведено.
Ярослав так и не понял, к чему все это говорилось. Одно было для него совершенно ясно: беседу со школьниками придется проводить, и эта неизбежная необходимость (старик слово дал) ложилась не просто обременительным, а даже очень беспокойным грузом. Беспокойным и странным, потому что его охватило то двойственное чувство, когда и хочется, и боязно.
Афанасий Васильевич показался Ярославу каким-то новым в этот вечер, чем-то озадаченным. Леля в дом впустил, побаловал кусочком сахара. Седой мохнатый пес с глазами, спрятанными в длинной густой шерсти, доверчиво и преданно улегся у ног старика возле телевизора, не проявляя никакого интереса к голубому экрану. Он тоже был задумчив и, как показалось Ярославу, печален. Перед самым сном, ласково проводив Леля за дверь, Афанасий Васильевич сообщил, что он решил уехать к сыну теперь, не откладывая, так, чтобы встретить Новый год с внучатами, а когда вернется – не знает, возможно, по весне, как настанет время открывать пчел. Значит, всю зиму Ярославу предстоит жить здесь одному, опекать Байкала и Леля, содержать в порядке дом, как содержал его сам хозяин. И, конечно, готовить себе пищу. И не забывать о пище для птиц. Под окнами к двум старым березам прикреплены кормушки. Туда с первых морозов старик подсыпал хлебные крошки, ягоды, иногда крупу. Большие синицы, гаички, поползни стаями водились у дома лесника. Сорок и соек, норовивших поживиться в кормушках, Афанасий Васильевич не любил, ворчливо отгонял со двора, иной раз, рассердясь, постреливал. Их он считал вредными, хищными врагами мелкой пичужки, и никакие доводы ученых о якобы полезности сорок не убеждали его, потому что за свою жизнь он насмотрелся, как во время гнездовья сороки беспощадно пожирают яйца и птенцов пеночек, славок, дроздов, овсянок и прочей певчей мелюзги. Из зимней птицы он особое предпочтение отдавал поползню, большой синице и гаичке.
– Лучшие друзья леса, – с любовью говорил он о них, – потому как работают круглый год. И пожирают разных лесных вредителей видимо-невидимо. Каждое деревце так обработают, так очистят-выхолят, что не всякая мать за своим дитем так ухаживает. Птице главное – корм. При хорошей кормушке им никакие холода-морозы не страшны. И улетают на зиму от нас птицы не потому, что им холодно, а потому, что жратвы для них нет. Сегодня целую стаю дроздов видел. Снег выпал, а они не улетают. А в прошлом году задолго до холодов улетели. А почему? Потому что рябины не было. А нонче посмотри: весь лес красный от рябины. Кумачом полыхает. А для них рябина – царственная еда. И не улетят, пока всю не склюют.
Много разного наказывал Ярославу старик. С ружьишком быть поосторожней, как бы сгоряча человека не подстрелить. И не скучать. Потому что, как говорит Афанасий Васильевич, скука – для бездельников, лентяев и малодушных. Настоящие же люди скуки не знают.
Глава четвертая
Ярослав не был ни бездельником, ни лентяем. А вот скуку познал в первые дни после отъезда Афанасия Васильевича. Это была еще незнакомая, никогда прежде неведомая ему тоска одиночества, и настигала она его обычно долгими вечерами, когда усталый он возвращался в пустой дом, заброшенный в лесную глушь, где на пять километров вокруг нет никакого жилья, и, случись беда – никто тебя не услышит и не поможет. Эта неожиданная тоска усугублялась странным поведением Леля. Прежде доверчивый и дружелюбный к Ярославу, он вдруг повел себя отчужденно, с почти нескрываемой неприязнью: молодой, обходительный человек, поселившийся в их доме, был виноват во внезапном отъезде его старого хозяина. Вначале Лель не обращал на Ярослава никакого внимания, будто дом был пуст после отъезда старика. Три дня он не притрагивался к пище, даже не соблазнился душистой костью, извлеченной Ярославом из щей. На зов Ярослава не откликался и глазом не повел в его сторону. Лежал на снегу возле будки задумчивый и отрешенный и, казалось, дремал. Ярослав бросил кость прямо у его морды, но пес по-прежнему оставался безучастным.
И Байкал не давался седлать, а выйдя из конюшни, сразу направлялся к крыльцу дома, тыкался мордой в дверь и не хотел выходить за ворота. Ярослав понимал животных, был с ними ласков и внимателен. Вечером позвал Леля в дом, тот поколебался, потом, словно делая уступку новому хозяину, вошел с независимым видом, не спеша обследовал все комнаты и, не найдя Афанасия Васильевича, возвратился к выходу, молча остановился у двери. Но Ярослав не спешил выпустить собаку, делал вид, что не замечает желания Леля выйти, взял кусочек сахару и сел на стул возле телевизора, где обычно сидел Афанасий Васильевич. Минут пять постоял Лель, ожидая, когда ж наконец ему откроют дверь, и, не дождавшись, лег у порога.
– Лель, поди ко мне, – ласково позвал Ярослав. Пес пошевелил ушами. – Ну, поди, поди, – попросил Ярослав, и Лель сдался, неторопливо встал, подошел к телевизору. Ярослав дал ему сахару, приговаривая: – Хорошо, Лель, хорошо. Все будет хорошо.
Лель съел сахар и улегся у ног молодого лесника. С этой минуты между ними установились новые отношения доверия и дружбы. Пес смирился с отсутствием старика, которому верно служил девять лет, и признал нового хозяина.
На голубом экране мелькнула надпись: "Конец фильма". Ярослав выключил телевизор и поднялся. Из окошка настенных ходиков выскочила кукушка, похожая на маленького серого мышонка, и прокуковала восемь раз. Встал и Лель, поднял глаза: мол, ну а дальше что? Ярослав понял этот взгляд, сказал:
– Сейчас пойдем в наряд. На службу пойдем. На границу. Пойдем на границу, Лель?
Пес оживленно вильнул хвостом, выражая свою готовность. Ярослав надел присланные позавчера отцом куртку на меху с цигейковым воротником и цигейковую ушанку, сунул в карман фонарик и четыре патрона, взял ружье.
На дворе стояла хрупкая звездная тишина. Мороз слегка пощипывал уши. Ярослав стал на лыжи и несколько минут колебался: брать или не брать собаку с собой в обход. Лель нетерпеливо поджидал у калитки. Небо светилось зеленоватым светом, отраженным от снежной белизны, и от этого дрожащего хрусткого сияния, разлитого в морозном воздухе, от ярко мерцающих звезд в небе и от снега на земле было не то чтобы светло, но видно на расстоянии десятка шагов. И зоркие, привыкшие на границе к ночной темноте глаза Ярослава без особого напряжения различали лыжню, по которой он ходил позавчера, вчера и сегодня.
Утром Погорельцев собрал лесников и еще раз напомнил об усилении бдительности, особенно в предвечернее и вечернее время: до Нового года остались считанные дни, начинается трудное для лесников время – полоса хищнического истребления молодых елок. Лесники галдели: и когда это кончится! Каждый новый год губят миллионы молодых елок.
– А и без елки нельзя: что ни говори, а ребятишкам радость, – рассуждал степенно Филипп Хмелько.
– Для детей можно в школе делать, в детсадах, в клубах, во Дворцах культуры, – отвечала ему Екатерина Михайловна, и потом, обратясь к Ярославу: – Вам, Серегин, надо особенно смотреть за участком у шоссейной дороги. Там обычно рубят приезжие.
Именно к шоссейной дороге и шел сейчас Ярослав. Легко скользят лыжи по проторенному следу. Лель лениво семенит сзади, ломая лапами непрочную лыжню. До шоссе около пяти километров. Идти хорошо и приятно в новой теплой куртке, только заброшенное за спину длинноствольное ружье немного мешает. Куда удобней карабин или автомат. Думалось о доме: его ждали к Новому году, а он написал, что никак не сможет. В посылке вместе с теплыми вещами – елочные украшения. Ярослав понимает: сестренка положила. Елка у него стоит не в комнате, а во дворе – прямо перед крыльцом, живая, постоянная голубая ель. И у всех работников лесничества, и прежде всего у Погорельцева, возле дома растут новогодние елки. Их посадили четыре года тому назад по указанию самого лесничего, а точнее – по предложению его жены. "Давайте создадим новую традицию, – обратился Валентин Георгиевич к своим сослуживцам. – Не будем рубить новогодние елки, нарядим их живыми, на воле". Его поддержали. Этот почин подхватили в Словенях, и прежде всего председатель колхоза Кузьма Никитич, для которого любое начинание Погорельцевой было чуть ли не гениальным, потому что в его глазах Алла Петровна была самой умной и самой красивой женщиной на всем белом свете. Теперь во дворе каждого колхозника на почетном месте росла новогодняя елка. "Танечкина посылка кстати, – с благодарностью думал о сестре Ярослав. – Елку наряжу, как все".
Вдоль шоссе тянулся смешанный доспевающий мягколиственный лес. Среди пятидесятилетних берез и осин, под их защитным покровом, бурно шел подрост – молодой ельник, готовый через какие-нибудь пятнадцать – двадцать лет прийти на смену этой звонкой веселой березовой роще. Именно здесь, в этой роще, Ярослав услышал от Афанасия Васильевича об удивительной закономерности в жизни леса – смене пород.
– Сеять елку в открытом поле – дело трудное и почти безнадежное, – объяснял тогда ему старик. – Молодая ель, она больно нежная, всего боится: и осенних заморозков, и летней жары, и высокой травы, и ветра. Гибнет. А вот когда самосевом среди взрослых берез и осин – чувствует себя великолепно. Еще бы, под крылышком таких клуш! Погляди, какой еловый подрост идет. Потому как и мороз в лесу умеренный, и жары нет, и затишь, и трава не глушит. А потом – почва. Лесная подстилка – это особая статья. Лес сам себе почву создает – такую, какая ему нужна. Гнилые листья, сучки, пни, корни – это ж ценнейшее питание для дерева. Через двадцать лет тут будет шуметь темный бор… если его не растащат браконьеры.
Рожнов признался своему молодому преемнику, что целую неделю перед Новым годом днюет и ночует в лесу. Это был деликатный совет, и Ярослав запомнил его и без напоминания помощника лесничего собирался в предновогодние дни дежурить на наиболее уязвимых участках.
Шоссе не было магистральным, и в этот вечерний час машины шли редко. Ярослав остановился на опушке, прислушался. Вдали, над темной громадой леса, неяркой короной сияло зарево: там был город со стотысячным населением, добрая половина которого работала на крупных заводах всесоюзного значения. Город не спал. Город трудился. Город готовился к встрече Нового года. И вспомнилась Москва, уютная квартира, мама с Таней, наряжающие елку.
Яркие лучи автомобильных фар издалека полоснул стылую темноту и спугнули невеселые мысли Ярослава. С мягким шипением прошуршала "Волга". И снова тишина, снова те же мысли: а не написать ли в газету о новогодних елках, о начинании Аллы Погорельцевой, поддержанном жителями села Словени. Так и написать: по инициативе жены лесничего… Нет, лучше – учительницы Словенской средней школы Аллы Петровны Погорельцевой. Чем плохой новогодний подарок для нее? Можно было бы в стихах. Только стихов он никогда не писал. А почему это он думает о человеке, которого видел всего один раз, да и то мельком, и которому, кажется, нагрубил? Новогодний подарок! Спустись на землю. Посмотри, как вонзаются в морозную темень два огненных меча. Стоп: свет фар погас и мотор заглох. Странно. Любопытно.
Ярослав быстро пошел вдоль шоссе, туда, где погасли огни автомобиля. Прежде чем увидеть стоящий на дороге самосвал, он услышал стук топора. Пошел по следу, с трудом различимому в темноте. Ружье повесил на шею, Лелю приказал идти сзади. Ярослава охватило знакомое по службе на границе волнение. Он снова в наряде, на страже интересов народа. Перед ним нарушитель законности, браконьер-порубщик, злейший враг природы. Сейчас для Ярослава этот нарушитель мало чем отличался от тех, которые пытаются перейти линию государственной границы.
Ярослав достал фонарик и направил луч на порубщика. Стук топора умолк, но вместо этого послышался, густой самоуверенный бас:
– Ну, ты, чего светишь? Ослеп, что ли? Надень очки!..
Этот грубый надменный тон бросил Ярослава в дрожь. Он даже хотел было сначала выстрелить вверх, чтоб охладить нарушителя, а потом уже с ним разговаривать. Но вспомнил наказ Афанасия Васильевича: "С ружьишком не балуй. Ты молод, горяч, как бы беды не накликать". Да и Лель выручил: он решительно шагнул вперед, дважды гавкнул злобным, предостерегающим басом. Ярослав, не выключая фонарика, на какой-то миг скользнул лучом по Лелю, чтобы показать порубщику, с кем он будет иметь дело, а затем направил луч и на самого браконьера, негромко приговаривая: "Спокойно, Лель, спокойно… Ко мне. Рядом". Пес, злобно щетинясь, не очень охотно подошел к хозяину и стал рядом, продолжая рычать. Здоровенный детина в десяти метрах от Ярослава стоял с топором, широко расставив ноги, обутые в валенки, и жмурился от света. Подле него лежала срубленная пушистая елочка. Лель взволнованно подался немного назад и пролаял в сторону шоссе Ярослав услыхал шаги сзади себя, быстро бросил к шоссе луч фонарика и увидел человека, идущего от машины. В голове сверкнула мысль: "Их двое – я один. Впрочем, не один". Лель напомнил о себе свирепым рычанием.
Южнорусские овчарки отличаются выносливостью, злобностью и недоверчивостью к посторонним. Всеми этими качествами обладал и Лель. К тому же это был рослый и сильный пес, и Ярослав опасался, что он может выйти из повиновения и наброситься на людей.
– Бросьте топор, – не приказным, но достаточно твердым тоном сказал Ярослав, – собака волнуется. – Он воткнул палки в снег, открепил лыжи, снял ружье с шеи.
– Да мы ведь ничего, мы вот елочку хотели к Новому году, – уже совсем другим, виноватым голосом проговорил порубщик, разведя в стороны руками. Лель снова зарычал и сделал движение вперед.
– Еще раз говорю: бросьте топор, я не могу удержать собаку.
А вы кто будете? – Порубщик явно тянул время, поджидая своего товарища, идущего от машины
– Я лесник, черт возьми! Вы понимаете русский язык?
Он понял русский язык, когда Лель изготовился для прыжка. Опустил топор в снег.
– Лель, ко мне! – строго приказал Ярослав. Собака, рыча, попятилась к хозяину и вдруг повернулась в обратную сторону, откуда раздался голос человека, запыхавшегося от быстрой ходьбы:
– В чем дело? Что случилось?
Но, увидев человека с ружьем и мохнатого зверя, настроенного явно недружелюбно, спросил как-то уж очень ласково:
– Собака не укусит?
– Не только укусит – разорвет. Идите к машине. Оба идите. Топор я подыму и принесу. Лель, спокойно, спокойно, – и придержал собаку за ошейник, пропуская впереди себя порубщика. Затем взял топор, лыжи, ружье снова повесил на шею и пошел по следу к шоссе. Но только он дошел до обочины, как мотор заревел и самосвал с ходу рванул с места и умчался в сторону городских огней. Ярослав даже номера не успел разглядеть: с веселым недоумением и досадой смотрел он вслед умчавшейся машине, держа в руках чужой, ненужный ему топор, и думал о срубленной елочке, оставшейся в лесу. "А может, взять ее, бросить на дорогу, кто-нибудь подберет: ведь все равно уж загублено дерево, – необдуманно мелькнула первая мысль, но он тут же погасил ее: – Ни в коем случае! К черту. Нет уж – пусть привыкают встречать Новый год без елок". Он не чувствовал комичности своей угрозы – просто было обидно и горько, что браконьер срубил прекрасное молодое дерево и ушел безнаказанно.
Ярослав стал на лыжи и несколько раз прошелся по опушке леса вдоль шоссе. Проходили редкие машины, но не останавливались. Лес был таинствен в этот ночной час, наполнен причудливыми фигурами. Одетые в белые одежды, казались живыми все эти гномы, медведи, мамонты, кардиналы, тюлени, орлы, монахи. И огромная голова витязя – точно из "Руслана и Людмилы" – возвышалась на поляне. А кусты орешника, опушенные снегом, напоминали цветущий сад. Лес не спал – затаив дыхание он прислушивался чутко к тому, что беззвучно творилось в его владениях.
Потом с запада потянул ветерок, робкий и неуверенный, точно вздох, нечаянно погасил звезды. Запахло влагой, а через несколько минут пошел снег, но не хлопьями, не медленными пушинками, а косой, мелкий, крупчато-острый. Снежные шапки на вершинах сосен и елей росли и тяжелели. Возвращаясь домой через сосновый бор, Ярослав увидел непривычную для него картину: тонкие высокие сосны под тяжестью снежных глыб склоняли увенчанные головы; изогнувшись дугой, почтительно кланялись кому-то невидимому и всесильному.
В эту ночь Ярослав лег спать почти под утро: писал статью о новогодних елках. Писал вдохновенно, легко, будто выплеснул на бумагу свежие, еще не остывшие мысли, соображения. И конечно же упомянул имя учительницы Аллы Погорельцевой и председателя колхоза Кузьмы Никитича. А утром, наскоро позавтракав отварной картошкой и квашеной капустой, оседлал Байкала и первым делом отвез статью на почту. Затем заехал в лесничество, рассказал Погорельцеву о вчерашнем случае на шоссе. Валентин Георгиевич выслушал его с покровительственной ленцой, а едва заметная улыбка его говорила: "Это что, бывает и не такое. Погоди – узнаешь". И неожиданно спросил:
– Вы в сосновом бору за трассой сегодня не были?
– Нет. А что? Что-нибудь случилось? – забеспокоился Ярослав.
– Возможно. Всю ночь шел влажный снег. А сейчас чуть-чуть подморозило. Кое-где начался снеголом. Нужно проверить. Думаю, что за эту ночь мы недосчитались не девяти неделовых сосен, а всех девяноста. Но тут я уже не виноват: стихия. – Сделав этот булавочный укол, не глядя на Ярослава, Валентин Георгиевич вздохнул и повторил уже заботливо: – Стихия, черт бы ее побрал.
– Да, наломало дров. Хоть бы ветерок, что ли, может бы, сдул понемногу ледяшки, – ввернул находящийся в кабинете лесник Хмелько. – Я восемь сосен насчитал. Прямо пополам переломаны. Вот беда.
Ярославу показалось, что слова Хмелько совсем пустые, неискренние, что за ними – никаких мыслей и чувств, никакой беды для Хмелько не случилось, а, пожалуй, наоборот – он радовался, потому что восемь поломанных сосен может с выгодой "пустить в дело". Это о нем, о Филиппе Хмелько, Афанасий Васильевич говорил: "Кулак. Душа кулацкая. Только для себя. На скотине живет. И в лесники пошел, чтобы, значит, сено иметь Для своих коров. Из-за сена".
И вдруг подумалось: а может, Рожнов не прав, и я, поверив ему, ошибаюсь в Хмелько и уже предвзято, неверно понимаю его слова? Не надо спешить в оценке людей. Человек – сложная машина, как говорил начальник погранзаставы капитан Алексей Никаноров, – в нем много разных винтиков, шестеренок и прочих деталей, и нельзя по одной детали судить о человеке. Никаноров разбирался в людях. А Рожнов, при всей своей честности и прямоте, мог ошибаться.
На дворе мела поземка, косой снег хлестал в лицо, Байкал дурой выгибал шею, подставляя ветру густую челку, и не хотел идти рысью. А Ярослав чувствовал себя хорошо. Да что поземка, и этот снег в лицо, и жгучий ветер, когда ты в свои двадцать с небольшим лет – хозяин вот этих лесов, страж и хранитель богатства и красоты родной земли! Когда глаза твои способны видеть огромный мир. Когда у тебя есть светлая и ясная мечта. Есть будущее, в котором ждет тебя самое святое, что есть в этом мире, – любовь.
Никому не дано знать, что ждет его в жизни. А вдруг эта жизнь согнет в дугу или сломает, как вот эти молодые высокие и тонкие сосны? Но ведь не все гнутся-ломаются Вон дубы – стоят себе, молодые и старые, с одинаково-горделивой осанкой, и никакие бури-ураганы не в состоянии ни согнуть, ни сломать их. И люди, как и деревья, разные.
Глава пятая
Утро тридцать первого декабря выдалось мягкое и пряное от слабого теплого ветерка, разносившего тонкие и чистые запахи хвои, слегка подтаивающего снега и еще чего-то неопределенного, едва уловимого, возможно исходящего от низких спокойных, неторопливых в своем движении туч, а может, и от прилетевшего с далекого юга влажного и хмельного воздуха. Рыхлый пушистый снег слегка подтаивал и уплотнялся. С деревьев не падал, а еще крепче прилипал к оголенным веткам берез, к отяжелевшим крыльям сосен и слей влажный снег.
Ярослав проснулся еще до света, умылся холодной, натаявшей из снега водой, затопил печь и поставил на плиту чайник. Подбросил в ясли Байкала охапку душистого, пахнущего июлем, сена, налил Лелю миску вчерашнего картофельного супа, насыпал корму синицам и начал готовить свой нехитрый завтрак – жаренную на свином сале картошку. Он любил ее есть с квашеной капустой, холодной, хрустяще-ледяной, приправленной подсолнечным маслом и репчатым луком.
Потом водил Байкала на водопой к незамерзающему даже в лютые морозы источнику, где из стальной вцементированной трубы падала в озеро светлая струя. К источнику ехал верхом без седла, насвистывал, как учил Афанасий Васильевич, пока Байкал с наслаждением пил не очень холодную родниковую воду, содержащую серебро, йод и кальций и издавна называемую в народе "святой". Возвращаясь с водопоя, наводил в доме порядок – мыл посуду, подметал пол, затем седлал Байкала и с этюдником через плечо объезжал свой участок, проверяя, не было ли за ночь порубок. Зимой в этом отношении хорошо – не то что летом: порубщика можно найти по следам на снегу.
С каждым днем он открывал для себя новое в красоте окружающего мира.
Ничто так не располагает к весомым, серьезным раздумьям, как природа, когда человек остается с ней один на один. Человек спокоен, вокруг простор и свобода. Память воскрешала многое, прочитанное в книгах и услышанное от людей и не оставившее тогда заметного следа. Теперь он заново все осмысливал, анализировал, раскрывал и вдруг обнаруживал то главное, что прежде проскочило мимо сознания. "Без лесу на земле жизни быть не может". Это сказал старый лесник Афанасий Васильевич. "Россия крепка березой. Истребят леса, пропадет земля русская". Эти слова Достоевского написаны ровным почерком Николая Мартыновича Цымбалова на фотографии березовой рощи. Фотография эта, вставленная в рамочку, висит на стене на самом видном месте, под портретом Ленина, в горнице Афанасия Васильевича. Слова совсем не мудреные, простые, обыденные, а наводят Ярослава на грустные размышления. Со свойственной молодости категоричностью он убежден: люди, так нещадно, варварски истребляющие леса, совсем не представляют возможных последствий. Ему кажется, что не только Кобрин, но и Погорельцев не понимает значения леса в жизни людей. Для Погорельцева лес ценен как древесина. А тридцатилетний кедр, расправивший свои мохнатые крылья над крышей дома лесника Рожнова, не представляет никакого интереса. И сосны на Синей поляне он разрешил срубить, поскольку они неделовые. А вот жена его, Алла Петровна, та понимает. В ее приглашении рассказать школьникам о лесе Ярослав видит глубокий смысл. Он считает, что все люди, все граждане от мала до велика должны сызмальства понять значение леса, постичь его смысл в жизни нашей планеты, полюбить его нерукотворную красоту. И тогда не будет равнодушных к лесу, а будут радовать людей синие, голубые, зеленые, розовые поляны, окруженные пахучими кедрами, прозрачной белизной берез, звонким янтарем сосен, стреловидными шатрами елей. И вот эта маленькая елочка, похожая на снегурочку, не будет срублена зря. Она будет стоять восемьдесят, сто и сто двадцать лет, пока не придет ее черед превратиться в так называемую деловую древесину, чтоб затем в новом качестве служить людям еще сто, а то и двести лет.