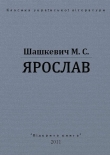Текст книги "Лесные дали"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Алка, что с тобой происходит? – Она обняла подругу, сочувственно заглянула ей в глаза. Но Алла ответила отчужденно:
– Не надо. Роза. Это мое, личное.
– Да я ведь к тебе по-хорошему: люди же говорят.
– Люди?..
– Видели вас с Ярославом… Вдвоем. Считают, что у вас роман. – Роза старалась найти слова поделикатней, но ей как-то это не давалось.
– Роман… Слово-то какое. – Алла усмехнулась. – Романы в книжных лавках да в библиотеках. А у нас с Ярославом любовь. Понятно? Любовь…
В голосе Аллы был дерзкий вызов. Роза была поражена. Думала, что Алла отделается шуткой, станет отрицать. А тут на тебе – любовь.
– Алла, что ты говоришь?.. Ты шутишь?
– Этим не шутят, – уже как-то мягче, спокойней ответила Алла. – Любовь человеку дается однажды.
– Господи! Да как же это? – Роза всерьез встревожилась. – А Валентин? Ведь он узнает.
– И разойдемся.
– Ты думаешь, это так просто? Нет, Алла, ты легкомысленная.
– Не спорю: давно известно – все влюбленные легкомысленные, слепые и глухие, – согласилась Алла. – Ладно, Розик, не будем об этом, философ из меня не получится. Я говорю тебе серьезно: люблю и не могу без него жить. А там будь что будет. Что кто скажет, мне плевать… Валентина иногда жалко. Любви у нас с ним не было. Так, обвыклись и жили. – Она горько усмехнулась. – На что я ему? Был бы телевизор. Да машину купит. А больше ему ничего и не надо.
Роза сгорала от любопытства, но Алла отрезала все пути:
– Не задавай мне вопросов, и – прошу тебя – пусть пока все останется между нами. До поры до времени. А теперь – до свидания и не осуждай меня. Я ни в чем и ни перед кем не виновата.
Запыленная председательская "Волга" остановилась у избы лесника Чура. Хозяин сидел на толстом бревне, приваленном к частоколу, босой, без рубахи, подставляя уже нежгучему заходящему солнцу бронзовую грудь, и под собственный аккомпанемент пел:
От жары, от злого зноя
Гимнастерки на плечах повыгорали.
Свое знамя боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.
Сегодня в конце дня Тимофей Чур распил на двоих поллитровку и теперь предавался воспоминаниям давно минувших лет, когда он был молод, служил в гвардии, участвовал в боях, был дважды ранен. Сильва сидела рядом, задорно виляла хвостом, вострила уши, но не пела, потому что пел сам хозяин, а петь дуэтом она не была обучена. На подкатившую «Волгу» Сильва дважды гавкнула, не сходя с места, а Чур, рывком растянув мехи, воскликнул, тоже не вставая:
– Пламенный гвардейский привет начальству. Прошу садиться. Я вам сейчас сыграю чего пожелаете. Про дорогу хотите? – И запел:
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.
– Не хотите про дороги? И не надо: потому как по нашим дорогам далеко не уедешь. Сейчас на них пыль, а скоро будет грязь и туман. Верно говорю, начальник?
Ярослав присел на бревно, а Кузьма Никитич продолжал стоять, с улыбкой говоря:
– Да ты, Чур, оказывается, не человек, а произведение искусства. Тебя бы вмонтировать в раму – и в Третьяковку, в Москву.
– А что? Можно и в Москву. Чем плохой экспонат? В ремесельном морячок один рисовал, – заговорил словоохотливый Чур. – Ворону чайкой звал, комнату – каютой, а козырек у кепки – форштевнем. Чудак был. А рисовать умел. У него талант, вроде как у Ярослава. Только Ярослав – человек. Это совесть человеческая. – Он обнял Ярослава одной рукой и продолжал, мотая лохматой головой: – Мы тебя любим и ценим. Ты солдат и честный человек. Критикуешь начальство – и правильно делаешь. Умный начальник не должен бояться критики, а должен бояться подхалима, елки-палки. А Погорельцев наш так глуп, что сам своей глупости понять не может.
– Это почему же… – начал Кузьма Никитич, и Чур не дал ему закончить:
– А потому, что все норовит других уму-разуму учить. Это первая примета глупости. Умный любит учиться, а глупый – других учить.
Ярослав обратил внимание на его шрамы, кивнул на грудь:
– Я вижу, вас не только моряк расписывал…
– И фашист. Вот это под Мценском осенью сорок первого. А это на Днепре в сорок третьем… Орден Славы получил.
– Эх, Тимофей, Тимофей, – заговорил Кузьма Никитич. – Гляжу я на тебя и думаю: человек-то ты хороший, да сгубила тебя проклятая водка.
Ярослав слушал старого солдата и видел совсем другого человека, непохожего на того, каким он знал его до сего дня. Тимофей Чур снова независимо растянул мехи и запел:
Враги сожгли родную ха-а-ту-у,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь пойти солда-а-ту-у,
Кому нести печаль свою?..
Пел самозабвенно, и на багровом лице его, освещенном косыми лучами, отражалась вся скорбь ветерана Великой Отечественной, та испепеляющая душу скорбь, которую не властны погасить годы. Пропев два куплета, он умолк и сказал, вытирая рукой глаза:
– Мотив мне не нравится. Зато слова… Уу-х! Все нутро выворачивают. Вот бы Чайковский воскрес – он бы такой мотив к словам сочинил… Уу-хх!
И снова лихо рванул мехи:
– Давай веселей.
Запел надтреснутым сухим голосом:
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная,
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою.
Проходящие с поля женщины спешили домой, не останавливаясь, лишь роняли безобидные слова:
– Во дает. И радио не надо.
– И телевизор ни к чему. Можно продавать.
Мужчины останавливались, подшучивали, ребятня толпилась вокруг. Но вот пришла с работы жена его, разбитная женщина с худым усталым лицом, взяла за руку, сказала властно:
– Ну хватит горло надрывать. Сборище устроил. Пошли в дом.
И увела его, оборвав недопетые песни. Люди расходились по домам. И только Алла пожалела, что так быстро оборвались песни Тимофея Чура, колышущие покой мягкого августовского вечера.
Подходя к дому, она увидела на крыше Погорельцева и Саню Хмелько, поправлявших телевизионную антенну. Неделю назад полосой прошла буря, потрясла яблони в садах, поломала подгнившие деревья, кое-где порвала рубероид и толь на крышах, а у них повалила антенну. А без телевизора скучно жить Валентину Георгиевичу, телевизор – его слабость, его любовь, университет, отдых, одним еловом, вторая жизнь.
И оттого, что Погорельцеву помогал сын Филиппа Хмелько и что Погорельцев не может и дня жить без телевизора, Алла почувствовала какую-то унизительную неприязнь к мужу и подумала: "Нет, не будет он переживать мой уход. В телевизоре найдет забвение и покой".
Она вошла в дом и вдруг ощутила беспредельную тупую усталость. Нужно было готовить ужин, а она опустилась на тахту и уставилась неподвижным взглядом в ландыши на стене. Они казались живыми, даже как будто пахли. Эти ландыши, написанные Ярославом, ее ландыши, никогда не завянут, они вечны, они навсегда.
Вошли Погорельцев и Хмелько, включили телевизор. Передавали футбольный матч.
– Порядок! – восторженно воскликнул Погорельцев. – Мы с тобой, Саня, будем смотреть футбол. Аллочка, у тебя найдется чего-нибудь закусить? – Голос мирный, а взгляд даже как будто виноватый.
– Будете ужинать, – сухо сказала Алла и вышла на кухню. Ей хотелось тишины, пусть даже непрочной, той, которая бывает перед грозой.
Алла почистила молодой картошки, поставила отваривать на плиту, разделала селедку, достала малосольных огурцов. Потом сделала салат из помидоров и репчатого лука, приправила укропом и петрушкой, залила подсолнечным маслом. И стала ждать, когда сварится картошка. А Погорельцеву не терпелось: он даже от футбола отвлекся, заглянул на кухню:
– Ну как? – И, увидав закуску, воскликнул: – Порядок. Саня, можно начинать! Мы где будем, на кухне или там? – вопрос относился к жене.
– Где хотите.
– А ты? Я не буду.
– Ну, как знаешь. В таком случае мы здесь, на кухне, устроимся.
Алла переключила телевизор на другую программу. Певица в длинном платье заканчивала старинную песню:
Не корите меня, не браните:
Мне и так тяжело, тяжело.
Алла выключила телевизор. Заныло сердце, защемило, словно для одной Аллы была пропета эта песня.
Алла набросила на плечи белый пуховый платок и вышла за калитку, мысленно повторяя: "Не корите меня, не браните, мне и так тяжело, тяжело". Солнце уж зашло, и все звуки четко слышались в чистом прозрачном воздухе. В просторном шелковистом небе медленно плыло алое облако, похожее на парус. Скорей бы развязка. Будет ли Ярослав говорить сегодня с Рожновым и что он ему ответит?
Ярослав вернулся домой уже затемно, но Афанасий Васильевич еще не спал, Ярослава встретил недовольным взглядом. Ярослав начал с ходу рассказывать о стойбище горе-туристов.
– Знаю, – со вздохом обронил старый лесник. – А что с такими сделаешь? Новый закон приняли против нарушителей порядка и разных уголовников. А преступления все равно есть. Отчего, думаешь? Законы плохи? Нет, законы у нас неплохи.
Разговор о хулиганах уводил в сторону от главного, смягчил недовольный настрой старика. Ярослав понимал: главная тема – впереди, объяснений не избежать. Да он и не собирался. Афанасий Васильевич посмотрел на Ярослава в упор и спросил без обиняков:
– С Аллой-то Петровной у вас что? Шуры-муры?
Ярослав ответил с достоинством:
– Любовь, Афанасий Васильевич… Дело у нас серьезное, – он смотрел на старика открыто и честно, и тот все понял, сказал:
– Да уж куда серьезнее, коли любовь.
Помолчали. Ярослав ждал. Пусть старик спрашивает. Афанасий Васильевич думал, уставившись в угол. Узловатые руки его лежали на коленях. Ярослав заметил, что пальцы вздрагивают: волнуется. Старик заговорил без напряжения и дружелюбно:
– Беда мне с тобой, парень. И вроде бы неглупый, и расторопный, а вот поди же – нашел топор под лавкой. Так только лентяи поступают – берут, что под рукой окажется. Поискать им лень.
Ярослав молча покачал головой, дескать, не тот случай. Старик живо сказал:
– Что? Не согласен? Не прав я?
– Мы любим… – глухо выдохнул Ярослав.
– Так ведь замужняя она! – уже воскликнул Рожнов, раздосадованный непонятливостью Ярослава. – Девчат у нас мало, что ли, которые в невестах скучают?
Ярослав снова покачал головой, и мягкая ласковая улыбка чуть-чуть скользнула по его лицу.
– Сердце, значит, не лежит, – резюмировал старик. – Оно конечно, сердцу не прикажешь. Алла Петровна – она красивая. Только ведь не зря говорят: на красивую глядеть хорошо, а с умной жить легко.
– Она умная, – сказал Ярослав.
– Да знаю, есть ум. Все при ней. Про нее не скажешь: красна ягодка, да на вкус горька… Что ж, получается, что с Валентином-то они не в ладах… Это верно: на что клад, коли в семье лад. А там, значит, ладу нет. Ну гляди, я тебе не судья и не советчик. Сам заварил кашу, тебе и расхлебывать. Скажу только: не теряй голову, она у тебя одна и не пуста. Думай перед тем, как сделать, а не тогда, когда сделаешь. Вот и весь мой тебе сказ.
– Я думал, Афанасий Васильевич, много думал.
– Ну и как же вы? Жить где собираетесь? Или об этом не думали?
"Да, значит, отказ. Дело осложняется", – решил Ярослав.
– Почему же? Думали. Снимать будем, пока своим жильем не обзаведемся.
– Я не об этом, – уточнил старик. – Выходит, тут останетесь? У нас? Али куда в отъезд подадитесь?
– Желательно здесь. Привыкли. Мне у вас нравится, Алле Петровне – тоже.
– Оно конечно, добро не искать надо по белу свету, а создавать там, где ты есть, – одобрил Афанасий Васильевич. Решение Ярослава оставаться здесь пришлось ему по душе. – В таком разе и снимать незачем. Живите тут у меня. Места хватает.
Ярослав весь засиял, встрепенулся.
– Спасибо, Афанасий Васильевич.
Но тот никаких восторгов не изъявлял, напротив, был озабочен.
– Родители-то как, одобряют?
Ярослав стушевался.
– Родители? – повторил он ненужно, не зная, как ответить. – Честно говоря, они не знают. Окончательно мы решили только сегодня. Ну а раньше я не хотел им говорить. Пришлось бы сообщить, что замужняя… Старики мои без предрассудков, но все-таки…
– Так-то оно так, да выходит и этак: замужняя невеста. То-то и оно. Только я вот о чем мозгую – не погубил бы ты бабу. – Он смотрел на Ярослава внимательно, вопрошающе, как добрый друг и старший товарищ.
– Я вас не понимаю, Афанасий Васильевич.
– Любовь, она что водка – разум мутит. Когда молод – тебе все нипочем. А ну как разлюбишь? Что тогда? Погибель. Не для тебя, а для нее, для Аллы Петровны. Потому как ты себе другую найдешь, помоложе? А она? К Погорельцеву возвращаться? Не примет. А хоть бы и принял – сама не пойдет: гордая она.
– О чем вы говорите, Афанасий Васильевич? Никакая другая мне не нужна – ни сегодня, ни через двадцать лет.
– В молодости все так говорят. Не зарекайся.
Уже когда погасили свет и легли спать, Ярослав неожиданно спросил:
– А вы изменяли своей жене?
Старик не удивился и не обиделся. Ответил вполне серьезно:
– Кто об этом знает? Про такое никто не должен знать.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОСЕНЬ
Глава первая
Вот и кончилось лето.
Отпели птицы, отгремели грозы, отцвели на лугах и полянах цветы, пожухла на солнцепеках трава. Ребята пошли в школу. Длинными и прохладными стали вечера. В кудрях берез появились первые золотистые пряди.
Афанасий Васильевич снял с яблонь спелые плоды штрейфлинга, анисовки и коричной. Осталась только антоновка. Пусть еще повисит недельку-другую. Старик последний месяц никуда не ходил, кроме как по двору: болели ноги. На ночь он натирался настоями разных лечебных трав. Немного помогало, но облегчение приходило ненадолго. "Должно быть, отходили свое", – подумал он и решил истопить баню, хорошенько пропарить ноги. Утром Ярослава предупредил, чтоб не задерживался сегодня, – мол, будет баня. Баню Ярослав полюбил уже здесь, в лесничестве, и так к ней пристрастился, что сам удивлялся, как это в Москве он жил без бани, довольствуясь ванной.
Последние дни Ярослав проводил либо на посадках деревьев, либо у лесного оврага, где под руководством Кузьмы Никитича колхозная молодежь сооружала плотину. Посадок этой осенью было много: добрая половина саженцев из питомника от Белого пруда переселилась на Синюю поляну и за село Словени. На Синей поляне посадку производило лесничество, кедровые же аллеи возле Словеней делали школьники с Аллой Петровной во главе.
Время шло, а Алла все еще не решалась открыться мужу. Сомнения точили ее: это был голос разума, беспокойный, тревожный, пугающий. С Ярославом Алла встречалась по-прежнему, хотя встречи их теперь стали реже, с Погорельцевым не ссорилась, но держалась отчужденно, по принципу мирного сосуществования под одной крышей. Ярослав страдал от ее нерешительности и терпеливо ждал.
От Афанасия Васильевича своих отношений с Аллой не скрывал.
Баня Афанасия Васильевича – рубленая, с небольшим предбанником, стояла на отшибе, возле родникового ручья, в сотне метров от дома. Еловые дрова прогорели – Афанасий Васильевич считал, что только еловые дрова дают легкий пар, хотя некоторые придерживались другого мнения, предпочитая для бани березу и ольху. Старик приготовил свежее белье – мыло, веники и шайки постоянно находились в бане – и поджидал Ярослава. "Обещал быть вовремя. Хлопец он аккуратный: значит, что-то важное задержало его", – рассуждал Афанасий Васильевич, сидя на скамеечке возле бани и глядя на белые нити паутины, натянутые на кусты репея, иван-чая и шиповника. Подумал с тревогой и горечью: "Небось с Аллой Петровной свидание. Дурит хлопец, теряет голову. Предположим, как он говорит, у них любовь, первая любовь. Ну, а дальше что? К чему приведет их любовь? Конец-то должен быть хоть какой-никакой. А говорить с ним, что-либо советовать – бесполезно, все равно что слепому радугу показывать. А Ярослав слеп. Ослепила. Эх-хе-хе. – Старик сокрушенно вздохнул. – Проходит, все проходит, и даже любовь. Куда только девается. Было – и как не было. И у него пройдет, а с ней пройдет и слепота. Что ж останется? А ничего. Останется только то, что ты сделал для людей. Лес посадил – это останется".
Но не Алла была причиной задержки Ярослава. Случилось другое. От Синей поляны Ярослав направился домой и решил по пути заглянуть на строящуюся плотину, где осуществлялась его идея – создать большой лесной пруд. Идеей этой загорелся Кузьма Никитич, и вот теперь, когда в колхозе закончилась летняя горячая страда, взялись за ее воплощение. Уже была насыпана земляная перемычка пятиметровой высоты, и теперь yкpeпляли плотину. Кузьма Никитич говорил Ярославу, что уже будущей весной он запустит в этот пруд несколько тысяч мальков карася.
– Для карася тут рай будет, а не жизнь.
В это время к ним подошел запыхавшийся мальчонка и многозначительно посмотрел на Ярослава, затем на председателя.
– Ну, что ты? – спросил Кузьма Никитич. – Ко мне?
– Нет, – парнишка угрюмо покачал головой. Лицо его было розовое и серьезное. – К Ярославу Андреевичу.
– Пожалуйста, я слушаю, – сказал Ярослав. Но мальчик недоверчиво исподлобья посматривал на председателя и молчал. – У тебя секретный разговор? – Мальчик кивнул и отошел в сторону. Ярослав подмигнул Кузьме Никитичу и пошел вслед за пареньком. – Ну, выкладывай.
– Пташка с топором в лес пошел, – вполголоса проговорил мальчик, волнуясь. – Мишка Гусляров пошел за ним следом, Петька побежал к вам домой, Толя – на Синюю поляну, думали, там вы, а я – сюда.
– Тебя как зовут?
– Коля.
– Ну, Коля, спасибо. А теперь – в погоню? Как мы его найдем?
– Найдем, я знаю. Мы договорились с Мишей. Условный сигнал есть.
Коля шел уверенно и быстро, и Ярослав еле поспевал за ним. Минут через двадцать они вышли на лесную дорогу. Коля остановился, прислушался. Взгляд у него настороженный, как у настоящего разведчика. Попросил Ярослава отойти с дороги в лес и сам тоже стал за дерево. Вдруг четыре раза прокуковал кукушкой, да так ловко, что Ярослав ахнул от удивления: ну точно, кукушка! И подумал: "А кукушка-то уже, должно быть, улетела в теплые края". Хотел сказать об этом Коле, но тот сосредоточенно прислушивался. И вот вдали раздался свист и визжание иволги. Коля прошептал:
– Это Миша. Значит, все в порядке: он наблюдает за Пташкой. – И прокуковал теперь шесть раз, что означало: "Я тебя слышал и понял".
Этот шепот, условные сигналы снова напомнили Ярославу пограничную службу. Есть что-то общее в службе солдат-пограничников и лесников. Так почему бы ребятам, отслужившим срочную службу на погранзаставах, после демобилизации не идти в лесники? Ведь в каждом лесничестве не хватает лесников, настоящих, любящих лес и природу вообще. Если б знали ребята, какая это интересная и благородная служба! А не написать ли об этом на заставу, размышлял он, осторожно, без шума идя вслед за Колей. Как всегда, при нем был фотоаппарат.
Коля остановился навострив уши.
– Слышите? Рубит, – произнес шепотом.
Да Ярослав и сам уже слышал стук топора и теперь пошел быстрее, обгоняя Колю. Вскоре они увидели Мишу Гуслярова. Он стоял посреди дороги и поджидал их. Коля не удержался – побежал бегом.
– Там. Клен рубит, – сказал вполголоса Миша. Ярослав потрогал его светлые волосы и, дружески улыбаясь, прошептал:
– Спасибо. А теперь вам лучше уйти. Я уж один справлюсь.
И бесшумно, пружиня на носках, нырнул в чащу на стук топора. Сойкин торопился.
Ярослав подкрался к нему незаметно метров на десять и притаился за толстым деревом. Клен вот-вот должен упасть. Каких-нибудь пяток ударов топора, и дерево рухнет. Ярослав поставил диафрагму, выдержку и нажал на спуск в момент удара топора, так что Пташка не мог слышать щелчка фотоаппарата. Потом сделал еще два кадра и стал ждать. Вот упало дерево. Сойкин выпрямился, бегло осмотрелся кругом, вытер рукавом с лица пот и принялся рубить дерево пополам. Ярослав сделал еще один кадр. Потом Пташка очистил от сучьев комлевую половину и с немалым трудом взвалил ее на плечо, согнувшись под тяжестью. Вот этого заключительного кадра и ожидал Ярослав: теперь, уже не прячась, он щелкнул затвором фотоаппарата раз, другой на глазах у оторопелого Сойкина. И, не сказав ему ни единого слова, поспешил домой, вспомнив, что там его ждет Афанасий Васильевич в натопленной бане.
Еще издали Ярослав увидел сидящего на скамеечке возле бани старика. И Афанасий Васильевич заметил его издалека и, чтоб не терять времени, скрылся в предбаннике. Ярослав застал старика на верхней полке. В бане клубился жаркий пар, тугой струей устремлялся в открытое оконце. Ярослав сразу же рассказал о причине своей задержки.
– Теперь Пташка прочно сидит в клетке. Не выкрутится.
– Дай бог. Проучить хоть одного, чтоб другим неповадно было, – отозвался старик и начал нахлестывать себя веником.
Пар был еще суховат, люто обжигал и схватывал дыхание. Ярослав мочил свой веник в ведре с холодной водой и тряс над головой, чтобы смягчить воздух. Казалось, волосы трещат от жары, и Ярослав окунул голову в ведро и нахлестывал веником порозовевшее мокрое тело. Было и жарко, и приятно, и боязно. Он отодвинулся к самой стенке, подальше от печки, возле которой, кряхтя от удовольствия, нахлестывал себя Афанасий Васильевич. Жара была ему нипочем. Сначала старик парился сидя. Потом лег на спину, попросил Ярослава поддать еще маненько и стал обрабатывать свои больные ревматические ноги. Ярослав уже не мог сидеть на верхней полке – спустился на среднюю. Но и там было жарко. Как это старик терпит, как выдерживает его сердце такую жару? Сам Афанасий Васильевич отвечал коротко:
– Привычка, голубь, привычка. И ты привыкнешь.
Баню Афанасий Васильевич считал самым лучшим санаторием.
– В старину деревенские люди никаких докторов не знали, а жили до ста лет, – говорил он. – Ты вот заметь: после бани человек чувствует себя помолодевшим, легким становишься, будто с тебя сто пудов сбросили.
Вспоминая эти его слова, всякий раз Ярослав убеждался, что старик прав, и задумывался: отчего бы это? Афанасий Васильевич, до фанатизма убежденный в целебных свойствах растений, объяснял так:
– В березе огромная сила земли. Возьми сок березовый. Лекарство. Раньше многие хворобы чем лечились? Березовым соком. Опять-таки – чага. Теперь и доктора признают ее как лекарство. А она только на березе пользительная. Скажем, на осине тоже есть такие наросты Но от них никакого толку. Но самая сила – в березовом листе. От каких только хвороб он не помогает! Скажем, зубы – чем лечат? Березовым листом. Ты думаешь, почему люди парятся в бане березовым веником? Потому что лекарство в нем. Чувствуешь, как пахнет? Эти самые фитонциды. Вовнутрь идут, через распаренную кожу прямо в кровь.
Старик сам сочинил эту примитивную теорию и верил в нее. Он действительно никогда ничем не болел, и только на старости лет подкачали ноги. Настиг его ярый ревматизм, не уберегся он от него. И вот теперь, спустившись с верхней полки вниз, он сидел на лавочке и с грустью сообщил Ярославу, что ноги его серьезно беспокоят и что, если дело не пойдет на поправку, придется до октябрьских праздников поехать на всю зиму к Степке, к сыну. И опять Ярослав останется один. А может, и не один. Коль уж порешили – так и быть – пусть женятся.
– А дом я на тебя перепишу. Мне он совсем ни к чему. А ты живи и службу мою продолжай. И женись.
– За дом, Афанасий Васильевич, большое спасибо. И я постараюсь, чтоб не безвозмездно.
– На счет этого и не старайся, – решительно перебил старик. – И слушать не хочу… Капиталист какой нашелся.
– Да ведь дом-то денег стоит. Не даром он вам достался.
– А что такое деньги? Ты думаешь, деньги – это все. А в жизни есть много такого, что цены не имеет и ни за какие деньги не продается. К примеру, уважение к человеку. Может, я хочу память оставить. Может, я делаю это не для тебя, а для леса, потому что верю в тебя и знаю: коль ты тут будешь жить, и лес будет в полном порядке. А что мне твои деньги… Дверь приоткрой маненько, чистого воздуху напусти. А этот, отработанный, пусть выйдет.
Ярослав был окончательно смущен и благодарил старика за доверие и щедрость. Открыл дверь в предбанник.
Старик молча намылил себе голову, взбил пену, фырча, смыл теплой водой, сказал, будто и не было иного разговора:
– Полезем на второй заход. Закрывай дверь и плесни кружки две. Малость остудилось.
На втором заходе пар казался мягче, был не такой жгучий и даже как будто стал ароматней. И дышалось легче. Старик лег на живот, подал Ярославу свой веник, попросил:
– Ну-ка поясницу мне обработай. В пояснице вся хвороба прячется… От так, так, а ну еще, бей – не жалей. Веников много. Еще навяжем. От так, так… Хвати повыше, попарь лопатки… Вот спасибочко тебе – ублажил старика. Давай веник: ноги я сам достану.
А когда спустились вниз, Афанасий Васильевич опять возвратился к старому:
– Оно конечно, любовь – штука серьезная, только ненадежная: приходит, уходит и снова возвращается. Ты вот говоришь, любит тебя. А Валентина, выходит разлюбила. А ну как и тебя разлюбит? Или ты ее. Встретишь другую, получше да помоложе, и про Аллу совсем забудешь.
– Исключено, Афанасий Васильевич. Погорельцева она не любила. А замуж вышла в силу обстоятельств. Судьба у ней тяжелая. Мачеха… Одним словом, у нас первая любовь – самая сильная и самая верная. Она на всю жизнь остается.
– А ты почем знаешь? Ты вот доживи до старости, испробуй и первую, и вторую, и пятую любовь, а потом и толкуй. Это только так говорится – первая любовь. А на деле кто их разберет, где первая, где вторая и какая из них лучше, какая хуже.
После ужина старик лег спать, даже телевизор не стал смотреть. А Ярослав сел за стол и начал писать обращение к солдатам-пограничникам, уходящим в запас.
Осень шла своим чередом неотвратимо, со стужами, моросящими дождями, стылыми туманами над вечерним прудом, рекой и озером. Когда возвращались из бани, Афанасий Васильевич задержался у калитки, посмотрел на небо, прислушался. Ветра не было, и окрестный лес, погруженный в предвечернюю тишину, казалось, дремал. Но чутьем старого наблюдательного природоведа старик угадывал, что там, в небе, что-то происходит, готовится перемена погоды – об этом говорили ему тревожная напряженность в атмосфере и выжидательная настороженность в природе всего живого. Острее чувствовалась боль в суставах. А это – явный признак перемены погоды.
В полночь яростный ветер разбудил лес. Внезапно проснувшийся, он зарычал по-звериному свирепо и устрашающе, зашумел листвой, загудел вершинами сосен. В саду лесника ветер, словно хищник, срывал и швырял наземь антоновские яблоки, тяжелые, как камни, колошматил кудри кедра и клена, затем резко, с остервенением, хлестнул по окнам и железной крыше крупным дождем. И вдруг что-то вспыхнуло ярко, и на какой-то миг в доме стало светло, потом сразу грохнуло гулко и раскатисто. Недалеко, должно быть у Белого пруда, ударил гром.
Только что задремавший Ярослав и давно уснувший Афанасий Васильевич проснулись одновременно. "Никак, гроза? – с изумлением подумал старик, ощущая резкую боль в ногах. – Вот диво, в сентябре – гроза. Хотя что ж, помнится, давно это было: в начале октября прошла сильная гроза". "Что это, дождь? Или град? – подумал Ярослав, прислушиваясь, как звонко барабанят по стеклам капли дождя. – И гроза. Странно. Почему так вдруг испортилась погода? На завтра назначена ревизия у Хмелько. Придется весь день мокнуть в лесу".
Ярослав услышал, что Афанасий Васильевич за стенкой шебуршит, проснулся, значит. Он встал, включил свет.
– Кажись, гроза, – отозвался из передней на свет Афанасий Васильевич. – Что-то неладное творится в природе.
– Недавно в газетах писали: на солнце были сильные взрывы. Так сказать, внеочередные, – ответил Ярослав одеваясь.
Вышел во двор и через несколько минут возвратился. Сообщил:
– Погодка, скажу вам, – самая лучшая для нарушителя. Границу только в такую погоду и переходят. Да и порубщикам благодать. Лесники спят по домам а об остальных прочих и говорить нечего, – После такого предисловия надел куртку, черный дождевик и взял ружье.
– Ты что? – спросил старик. – Решил дозором пройти?
– Проехать. Хочу Байкала оседлать.
– Ну-ну. И Леля возьми. Поезжай по дороге на Словени, – посоветовал старик.
– В бор, что возле шоссе, надо заглянуть. Там могут на машине воровать. И возле поселка.
Опять сверкнула молния и ударил гром. Старик сказал:
– А ружьишко оставь. При собаке оно без надобности. Лель надежней всякого ружья.
Ярослав согласился.
Буря продолжалась два-три часа – победили массы холодного воздуха, и дождь прекратился. Утром упругий холодный ветер разметал по низкому стылому небу клочья рваных облаков: они неслись, как стая напуганных птиц, с востока на запад, то и дело заслоняя низкое, плохо греющее солнце. Термометр на крыльце рожновского дома показывал плюс четыре. В огороде огуречные плети безжизненно опустили почерневшие листья, a на огурцах появились ржавые пятнышки.
– Морозцем прихватило, – сказал Афанасий Васильевич, кивнув на огурцы, и пошел собирать сорванные ветром яблоки, а Ярослав наскоро перекусил, запряг Байкала, наложил в дрожки сена и поехал в лесничество где условились встретиться с Екатериной Михайловной и Филиппом Хмелько. На этих же дрожках все втроем ехали ревизовать лес Хмелько. Ярослав похлестывал вожжами по гладкой лоснящейся спине лошади, и Байкал бежал рысцой, встряхивая мощной гривастой головой. Хмелько сидел, свесив ноги, обутые в старые яловые сапоги, – иной обуви он не признавал, кроме сапог и валенок, – с деланной завистью приговаривал:
– Тебе, Ярослав, лафа, потому как у тебя конь. С конем в нашем деле благодать.
– Возьмите и вы себе, – сказала помощник лесничего. – И у вас будет лошадь.
– Это каким таким манером взять? – спросил Хмелько.
– Обыкновенным: существует порядок, по которому лесничество при необходимости обеспечивает лесников лошадьми.
– Что, в самом деле есть такой порядок? – переспросил Ярослав.
– В самом деле, – подтвердила Екатерина Михайловна, поняв недоумение Серегина: она слышала острый разговор Ярослава с Погорельцевым год тому назад, когда лесничий сделал вид, что в нарушение закона облагодетельствовал Серегина, выдал ему липовую справку.
– И давно существует такой порядок? – переспросил Ярослав.
– Давно. Я понимаю ваш вопрос. Валентин Георгиевич здесь не прав. Он не любит лошадей и считает, что чем меньше их будет в лесничестве, тем меньше хлопот.
Она была женщина прямая и еще год тому назад упрекнула Погорельцева: "Зачем ты неправду Серегину насчет лошади сказал?" "А пусть не хорохорится. Больно прыткий. Героя из себя корчит", – ответил тогда ей лесничий.
Для Ярослава это была неожиданность. Оказывается, никакой проблемы и нет, а лошади, по мнению Ярослава, каждому леснику нужны позарез. С этим они столкнулись в тот же день. На участке Хмелько обнаружили много бурелома и сухостоя. И когда Екатерина Михайловна сказала, что лес немыслимо захламлен, что сухостой можно было давно оклеймить и убрать вместе с буреломом, пустить на дрова, что он гниет без всякой пользы и только плодит паразитов-вредителей, Хмелько начал горячо возражать и оправдываться: