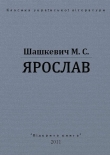Текст книги "Лесные дали"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Как его уберешь, на чем отсюда вывезешь из этих оврагов? Тут сам черт голову сломает.
– На лошади! – сказал Ярослав. Хмелько сердито проворчал:
– Тебе хорошо говорить: у тебя конь. А у меня?
– В лесничестве есть лошади, – сказала Екатерина Михайловна. – Вы когда-нибудь просили, Филипп Зосимович? Нет. Разве что для обработки огорода. А лес вас, я вижу, не очень волнует. Не любите вы его.
Ярослав поддержал Екатерину Михайловну. Сколько раз она и Погорельцев ему говорили! Не слушается. Участок Хмелько был не только захламлен. Ревизоры без особого труда нашли восемнадцать свежих еловых и березовых пней, для маскировки посыпанных илом и мохом.
– Если весь участок внимательно осмотреть, я думаю, до сотни таких пней наберется, – проговорил Ярослав.
– А ты думаешь, у тебя меньше? – вспылил Хмелько.
– Не думаю, а убежден, – ответил Ярослав. – Впрочем, ревизия покажет.
– Это какие ревизоры тебе попадутся, – буркнул Хмелько.
– Сам лесничий и Чур будут делать ревизию у Серегина, – сообщила Екатерина Михайловна.
Хмелько гадал: запишут в акт ревизии порубки или скроют, как делали в минувшие годы. И он сделал вид что удручен.
– От злодеи. Это ж не люди, а бандюги. И все ночью, Екатерина Михайловна, ночью воровали. Днем – нет, днем бы я увидел.
– Лесу от этого не легче, – сердито ответила помощник лесничего. – Вы отвечаете за него и днем и ночью.
Полногрудая крупная женщина в резиновых ботах и теплом платке, она шагала впереди двух мужчин недовольная и раздосадованная. Екатерина Михайловна ежегодно участвовала в ревизиях, но Хмелько ревизовала в первый раз, и недостатки превзошли все ее ожидания.
– Я слышала, что у Хмелько разворовывают лес, но не думала, что дошло до таких размеров. Этак мы лет за десять весь лес изведем. Нет, с либерализмом пора нам кончать, пора, товарищи, пора. Пока нас всех не прогнали.
Она обмеряла пни каждого срубленного дерева и записывала в тетрадь. Слово "прогнали" неприятно кольнуло Хмелько. "Прогонят, как пить дать прогонят, если все запишет в акт ревизии. И не подступишься к ней никак – больно строга".
Домой уже ехали, а Екатерина Михайловна все никак не могла успокоиться, роняла, как дерево листья, сухие недовольные слова:
– Не ожидала я от вас, Филипп Зосимович, такой службы…
– Как могу, так и служу, – огрызался Хмелько. – А другие лучше, что ль?
– Хуже быть не может. Хуже некуда. В таком случае надо прямо и говорить: не могу, увольняйте.
– И увольняйте, – сорвалось горячее слово у Хмелько. – Я где хоть зароблю… В том же колхозе. По двести пятьдесят люди зарабатывают у Кузьмы.
– Да, только там вы не сможете двух коров держать, – сказал Ярослав. – И бесплатное обмундирование не будете получать.
Филиппа Хмелько высадили возле его дома и поехали в лесничество. Екатерина Михайловна спросила:
– Что покажем в акте?
Вопрос ее удивил и даже обескуражил Ярослава.
– Что есть на самом деле, то и покажем.
– После такого акта Хмелько нужно увольнять.
– Это надо было сделать лет пять или десять тому назад, – сказал Ярослав.
Екатерина Михайловна ответила не сразу. Щуря от встречного ветра серые суровые глаза, проговорила, как бы рассуждая сама с собой:
– Оно конечно, какой Хмелько лесник. В лучшем случае – сторож. Плохой, нерадивый охранник. Образование у него четыре класса. У Чура – шесть. Что они знают о лесе? Ровным счетом ничего. Березу от осины отличат. А вот на какой почве лучше сажать сосну и на какой ель, это уже для них высшая математика. Или как бороться с вредителями леса, если и знают, так понаслышке. Книг не читают. Другое дело – Рожнов. Он лесник по призванию. Для него лес – это его жизнь, частица его самого. Или вот вы – всего год работаете лесником. Никаких специальных школ не кончали…
– И это плохо, – перебил ее Ярослав. – Плохо, что у нас нет ни школ, ни даже курсов по подготовке лесников.
– Согласна: плохо, конечно. Но я хочу сказать, что кроме образования требуется еще и призвание. А вообще-то, надо бы нам лучше организовать производственную учебу с лесниками. Все планируем, да времени не хватает.
Она слезла с дрожек, зябко поежилась, взглянув на стаи белых льдин в синем океане неба, сказала:
– Неужто похолодало всерьез? Бабьего лета в этом году так и не было, а уже сентябрь на исходе.
В акте ревизии по участку Хмелько они ничего не утаили, и сам Филипп Зосимович без слов поставил свою подпись под актом. Но хитрец решил не сдаваться. Через день была ревизия у Чура, которого ревизовали техник – молодой парень, работающий в лесничестве всего три месяца, и Хмелько. Тут уж Филипп Зосимович продемонстрировал свое прилежание, изо всех сил старался как можно больше выявить на участке Чура непорядков и главным образом порубок. А они были, хотя и гораздо меньше, чем в прежние годы. В этом году Тимофей Чур работал на совесть, во всяком случае – старался. И тем не менее ревизия нашла на его участке пятнадцать самовольно срубленных и не замеченных лесником деревьев. Зато лес у Чура был чище, чем у Хмелько. Тимофей разрешал местным жителям вывозить на дрова бурелом, валежник и сухостой. Из-за сухостоя между ним и Хмелько и разгорелся ожесточенный спор. Филипп требовал записать в акт пять стволов елей, срубленных в этом году.
– Так то ж сушняк, – кричал Чур. – Или ты сухого от сырого отличить не можешь? Гляди: сучья – сушняк.
– А ты на меня не ори, – рассердился Хмелько и начальнически нахмурился. – Не оскорбляй, потому как я при исполнении.
– Чихал я на твое исполнение. Любой пионер скажет, что спилен сухостой, а ты, елки-палки…
– И я говорю, что сухостой, – поучающе отвечает Хмелько. – А почему без разрешения? Где клеймо? Нет клейма. Может, ты продал – почем я знаю.
Когда техник попытался его урезонить, Хмелько и на него набросился:
– Вы его не покрывайте. Не надо нам сынков и пасынков. Мы все равны. Мне восемнадцать пней записали. Там тоже сухостой был. Я за справедливость. У меня Серегин каждое деревце засчитал. А ты его будешь ревизовать – не давай спуску. Отвечать – так всем вместе. Штрафовать будут – пусть всех, сымать – тоже всех.
Тут только Чур понял коварный ход Хмелько – всем отвечать, у всех, мол, плохо.
Погорельцев остался недоволен двумя первыми актами ревизии и высказал это Екатерине Михайловне:
– Вы представляете, как мы будем выглядеть перед лесхозом?
– Но ведь это объективные показатели, Валентин Георгиевич. Положение действительно неприглядное. Хмелько в лесу не бывает.
– Вы не то говорите, не то. Как вы не понимаете, что такие акты – скандал на весь район, на всю область? Да после этого нам с вами здесь нечего делать.
– Почему же? Как раз есть. Надо выправлять положение.
– Как выправлять? Что вы предлагаете, Екатерина Михайловна?
– Надо освобождаться от негодных лесников и заменять их молодыми толковыми ребятами, которые любят лес, желают работать в нашей системе. Таких, как Серегин.
Погорельцев поморщился, подумал: "Одного Ярослава нам хватит за глаза, сыты по горло", – но ничего не сказал. На другой день он вместе с Чуром должен был произвести ревизию на участке Ярослава, и ему не терпелось развеять миф о Серегине, созданный то ли Кузьмой Никитичем, то ли Виноградовым, то ли самим Серегиным при помощи картинок и статьи в газете.
Прохладным ветреным днем Погорельцев, Чур и Серегин ходили по суборью, дубровам и рощам бывшего рожновского участка. Участок был сложный, иссеченный проселочными дорогами, оврагами, полянами и полями, разрезанный магистральным шоссе и линией высоковольтной передачи. Уже с первых минут встречи с ревизорами Ярослав понял, что лесничий настроен недоброжелательно. Зато Чур вел себя с беспечным благодушием и открыто возражал Погорельцеву, когда тот явно придирался.
– Вот этот дубок надо убрать: он мешает сосне. Не дает ей ходу, – сказал Погорельцев, упершись рукой в двадцатилетний дубок, росший рядом с сосной. Дубки здесь были разбросаны довольно часто, их, пожалуй, было не меньше, чем сосен.
– Странное соседство, не правда ли? – проговорил Ярослав. – Дуб любит богатую почву, сосна – бедную. А вот же, уживаются.
– Тут нужно будет в будущем году, а лучше всего зимой, произвести рубку ухода, – распорядился Погорельцев.
– Дубки вырубать? – удивился Серегин.
– И дубки, – подтвердил категорично Погорельцев. – Какой от них толк? Фитонциды? К вашему сведению, хвойные леса в два раза больше выделяют фитонцидов, чем лиственные.
Теперь улыбнулся Ярослав: лесничий демонстрировал свои познания. И не только озорства ради Серегин парировал:
– А вот Петр Первый совсем по-другому к дубу относился. Он посылал своих людей, Нестерова и Кудрявцева, осмотреть дубовые леса по реке Волге и Оке и указом повелевал оные хранить. А в окрестностях Петербурга приказал высеять дубовые желуди и запретил даже помещикам на их собственных землях рубить дубовый лес без позволения смотрителя Адмиралтейской коллегии.
– Вы не прячьтесь за спину царя, – сказал Погорельцев.
Остановились у сломанных снегом гибких сосенок. Уже клейменные, они стояли без мохнатых шапок, с торчащими острыми обломками среди своих здоровых, не пострадавших сестер, жалкие и обреченные, ожидая, когда придут лесорубы и спилят их, скорей всего на дрова. Погорельцев тщательно проверил, на всех ли стоит клеймо, потом спросил начальнически-строго:
– А где от них макушки?
– Сжег. Снес в одну кучу и сжег, – ответил Ярослав.
– Но там были и такие, которые можно было пустить на дрова, – сказал Погорельцев.
– Были.
– Они где?
– На дрова пошли.
– Кому отдал? – Это уже похоже было на допрос. Ярослав криво усмехнулся. Улыбнулся и Чур.
– Афанасию Васильевичу Рожнову. – И затем язвительно прибавил: – Деньги он еще не внес. Я напомню ему.
"Что это я, в самом деле? Как глупо", – подумал Погорельцев и не покраснел, а побледнел от неловкости, но неприязнь к Ярославу не проходила. И тогда Погорельцев прибег к своему давнишнему приему, который он уже много лет подряд применял во время ежегодных осенних ревизий, – стал экзаменовать Ярослава:
– Скажите, почему здесь, в рамени, почва сухая, а в бору, где мы только что были, более влажная?
Вопрос элементарный. И Ярослав ответил спокойно и серьезно:
– Ель задерживает на кронах около сорока процентов осадков, в то время как сосна – всего двадцать процентов.
– А какой лес больше других задерживает осадков?
– Пихтовый. Свыше восьмидесяти процентов, – не задумываясь ответил Ярослав. Вопросы лесничего его забавляли, но Погорельцев невозмутимо продолжал:
– А как по-вашему, сколько единиц молодняка бывает на площади в один гектар?
– До десяти тысяч.
– А в спелом возрасте?
– До пятисот штук.
– Верно. В двадцать раз меньше, – подтвердил Погорельцев. – Вот интересно, почему так получается?
Ярославу стала надоедать эта примитивная игра.
Где-то в вышине, над вершиной леса, и в открытом поле гулял пронизывающий восточный ветер, а здесь, в темной еловой чаще, было тихо и тепло. Пахло грибами, смолой и прелой хвоей. "Вот он, микроклимат леса", – подумал Ярослав и почему-то решил, что Погорельцев сейчас обязательно спросит его о микроклимате леса, о его значении для развития деревьев. Но Погорельцев спросил о другом:
– Это что за пень? Свежий. Точно, свежий!
– Совершенно верно, свежий. Кленовый. Дерево срублено в этом месяце. Павлом Сойкиным. Материалы переданы в суд, – четко, по-военному ответил Ярослав.
– А-а, с фотографиями, – оживился Погорельцев. – судья сказал, что улики бесспорные, доказательства веские и мы выиграем дело.
– Я уже получил повестку, – коротко сообщил Ярослав.
Потом они набрели на недавнее стойбище "туристов", повредивших сильным костром старые ели. Погорельцев, засунув руки в карманы плаща, толкал ногой консервные банки и концы несгоревших поленьев, осматривал рыжие обгоревшие сучья елей, качал головой. Ярослав пояснил:
– Я вам уже докладывал: в мое отсутствие… Когда я находился в командировке.
– И при тебе могли. Сколько хочешь, – мотнул головой Чур.
– Как сказать, – возразил Ярослав. – Во всяком случае, безнаказанно не прошло б им.
После ревизии участка Серегина Погорельцев испытывал острую досаду. И оттого, что слишком явно придирался к человеку, который исправно несет свою службу. И оттого, что у Ярослава оказался образцовый порядок. И еще оттого, что в конце осмотра не похвалил лесника, а промолчал. Досадовал на Ярослава, на Чура, на Екатерину Михайловну и на себя.
Глава вторая
Холодный восточный циклон буйствовал недолго, но дело свое сделал: за какую-то неделю позолотил и обагрил леса, надел на них новый наряд. В конце сентября с юга пришло тепло: установилась тихая, солнечная, нежаркая погода. Екатерина Михайловна говорила, что природа послала людям, хоть и с большим запозданием, бабье лето. Афанасий Васильевич целыми днями сидел на скамеечке возле дома, грел обутые в валенки ревматические ноги и, глядя на сверкающий бронзой наряд леса, следил за неторопливым и грустным хороводом дум, воскрешавших в памяти картины прожитого и пережитого. И удивительно: прошлое вовсе не казалось ему мрачным и безрадостным. Роясь в памяти, в далеком и близком былом, он находил столько отрадного, завидно доброго, что казалось, жизнь его, прожитая не напрасно, состояла из одних удач. Лихо не помнилось, время стерло и вытравило его из памяти. Вся его жизнь, в сущности, была связана с лесом, которому он отдал себя безраздельно. И теперь, глядя на березы и клены, пригретые ласковым тихим солнцем, на червонную звень успокоившихся осин, на потемневшие мрачные и нелюдимые шатры елей – деревья были его ровесниками, – он вспомнил, как в детстве, в далеком розовом детстве, ходил сюда с мальчишками по ягоды. Здесь, где теперь плавились золотом березы и полыхали осины тогда была большая поляна, покрытая еловыми пнями, между которыми дружно поднималась молодая поросль берез.
Лель лежал у ног и, пригретый солнцем, чутко дремал. "А ведь небось чувствует нашу скорую разлуку", – думал старик о собаке, и та, словно в ответ на его мысли, приоткрыла и устремила на хозяина встревоженные и, кажется, печальные глаза. Высоко в небе проплыли клином журавли. На юг. "И мне пора лететь на юг, к сыну, к внучатам. Нечего откладывать. Пока тепло, надо сыматься вслед за журавлями. Журавли… А почему не курлычут?"
Он напряг слух и замер, улавливая невнятный, скорее угадываемый, чем слышимый, крик журавлей. "Опять нелады у меня со слухом, надо лечиться. Сегодня же, не откладывая. А то там, в городе, доктора разве вылечат? Пропишут аппарат – и таскай его на себе, а провод в ухе. Куда это годится? Нет, этот недуг я сам вылечу"
Лет десять тому назад у Афанасия Васильевича случилась такая же история: плохо стал слышать. Вылечили его пчелы: ужалили несколько раз, и слух восстановился. А посоветовал ему знакомый. Он считал, что пчелиный яд помогает от всех недугов.
Лель тревожно повел ушами, потом сразу подхватился, как спугнутый тетерев, с лаем метнулся к забору. От опушки шла пожилая женщина-грибник: в одной руке корзина, в другой посошок. Шла мимо рожновского дома, остановилась у калитки, крикнула через забор:
– Доброго здоровья, Васильевич. Ай не признал?
Старик вышел за калитку:
– Здравствуй, Марфа. Как не узнать тебя. Ты все молодеешь. А грибов-то сколько! Смотри-ка, нонче грибное лето выдалось. – Кивнул на скамеечку возле калитки: – Сядь, отдохни. Расскажи, как живешь.
Марфа поставила возле забора корзину, присела на скамейку рядом с Афанасием Васильевичем, оперлась на посошок. Когда-то они были. соседи, и в молодости Рожнов ухаживал за старшей Марфиной сестрой – Александрой. Ухаживать ухаживал, да женился на другой, из соседней деревни. А ежели откровенно говорить, так младшая – вот эта самая Марфа – тогда ему больше нравилась. Только больно молода была. Совсем девчонка. А теперь вот и она старуха. Так-то расправляется жизнь с человеком.
– Как живу, спрашиваешь? – сказала Марфа в пространство и выпрямилась. – По-всякому живу. Только похвалиться особенно нечем…
– Живешь-то одна или с сынами?
– То-то и оно: в своем доме живу. С младшим сыном. Растила его. Ничего, хороший хлопец был. И в армии служил справно, награды получал. Почет ему был. Ну, вернулся домой, женился. Не наша, не словенская. Из города привез. И где только такую откопал! Окрутила, охмурила хлопца. Сестрой милосердной работает в сельской больнице. А мне от ее милосердия хоть на целину убегай, житья никакого нет. Когда ухаживал, уж какой голубкой прикидывалась, а поженились – и все вверх дном опрокинулось. Коготки свои выпустила, и слова ей не скажи. Все фырчит и никакого уважения. Уж ладно бы ко мне, я свекровь. Так и к мужу без уважения, кричит на него, как на батрака. А он что, он, как телок, глаза отведет да помалкивает. Раньше, в старину, ты ж сам знаешь, жен били. И потому послушание было и порядок в дому. Разве не так?
– Не знаю. Лично мне не приходилось. Пальцем не тронул покойницу, царство ей небесное.
– Ты не бил, а другие били. Хоть моего возьми: придет домой пьяный – бьет. Трезвый – тоже бьет. А теперь попробуй тронь ее – тут и сельсовет, и милиция, и суд. Набаловали, вот они и бегают от дома. А куда бегают, известно: за чужими штанами.
– Что-то не так, Марфа, не дело ты говоришь, – возразил старик. – Как раньше жили – не вспоминай и не жалей. Плохо жили мужики. Это тебе каждый скажет.
– Оно конечно, теперь лучше, что говорить. Я только про невестку баю, – согласилась Марфа.
– А невестки – они тоже люди, и всякие среди них есть. Раньше тоже иные за чужими штанами бегали. Это жизнь, и никуда от нее не денешься. Главное, чтоб согласие было промеж всех. Тогда, само собой, придет и мир, и порядок. А без согласия что ж получается: невестка слово скажет, а свекровь – два. Да небось поучать норовишь: это не так, то не этак. А она ведь тоже человек, свой ум имеет, и, может, не твоему ровня, потому как мы с тобой необразованные…
– Ну и что, что необразованные, – бойко возразила Марфа, и лицо ее стало суровым. – Выходит, что мы, старые, без понятиев. Ты к тому баишь, что ли?
– Понятия разные: у нас свои, а у них свои. И каждый живет по своему разумению.
– А на что мне ее разумение? У меня своего хватает. Только я ж ему мать, сыну-то своему, чай, родная мать. И меня он уважать должон, а не волком глядеть. Я ж с ним и совсем не ссорилась. И про нее, про невестку, тоже ничего такого не сказала. Разве что потаскухой назвала. Ну так и что с того, – я ж не чужой ей человек.
Афанасий Васильевич заливисто расхохотался, приговаривая:
– Вот так Марфа, ну и баба: ничего обидного невестке не сказала – только этой самой… обозвала…
Марфа поняла, что поддержки ей тут не найти, обиделась. Помолчала, насупившись. Спросила приличия ради:
– Ну, а ты как живешь? Говорят, квартирант у тебя?
– Хозяин. Наследник мой.
– Это как же так? Я что-то не пойму.
– А так и понимай. Я свое отслужил. Ноги мои отказывают. Государство пенсию положило. Вот на днях собираюсь к сыну, к Степану. И наверное, уже насовсем. Тоже с невесткой придется сосуществовать. Да я человек смирный, в их дела не вмешиваюсь. И не перечу. Велит перед сном ноги мыть – мою. Хоть они и чистые. Потому как в чужой монастырь со своей молитвой не ходят.
– А дом, значит, ему?
– Значит, ему… – Он понимал ход мыслей Марфы и сердился.
– И за сколько же? – спросила она после натянутой паузы.
– Что за сколько?
– Дом-то?
Афанасий Васильевич хотел было ответить так, как есть на самом деле, мол, ни за сколько, даром оставляю. Но решил поддразнить соседку:
– За десять тысяч.
– Десять тысяч! – изумленно протянула Марфа. – Да откуда ж у него такие деньги?
– Отец дал. Он у него большой начальник. Лопатой деньгу загребает.
– Да ты шутишь небось. Дом-то и половины не стоит
– Это как на него смотреть. Другой бы его, может, и даром не взял. А наследнику моему он позарез нужен,
– И куда ж ты столько денег будешь девать? – всерьез поинтересовалась Марфа.
– Половину невестке отдам, чтоб, значит, задобрить ее, а другую половину подарю наследнику моему, чтоб, значит, лес хорошо берег.
– А-а-а, – сообразила Марфа, – выходит, за пять тысяч. И то скажу тебе – добрая цена.
Так и понесла она на село весть о том, что Рожнов-то дом свой продал за пять тысяч! Старый дом, а такие деньги получил. Вот повезло человеку. Пять тысяч! Насчет невестки он, пожалуй, пошутил. А может, и правда – отдаст. Жить-то у них будет, на всем готовом. Вот и плати. А то как же? Бесплатно ты никому не нужен.
А старик перешел на скамеечку к дому, что под сиренью, сидел и посмеивался, представляя, как Марфа рассказывает бабам новость. Пусть посудачат.
Вскоре возвратился из города и Ярослав. Судили Пашку Сойкина.
– Ну и чем кончилось? – был первый вопрос старика.
– Присудили шестьдесят восемь рублей. В общем, Пташке на сей раз не удалось ускользнуть.
Старик задумался.
– Может, присмиреет. И другим наука… Обедать будешь?
– Нет. В городе перекусил.
Ярослав пошел в сад, сорвал антоновское яблоко. Аппетитно хрустел им, сочным и ароматным.
Короткий день тихо догорал. С востока медленно поднималась огромная, во весь горизонт синяя туча. Дошла верхним краем почти до зенита и остановилась, словно дальше ей что-то преградило дорогу. Две старые лиственницы у родника, прозрачно-желтые, шелковистые, красиво рисовались на фоне угрюмой синевы тучи. Глядя на них, Ярослав представил себе, как красива сейчас березовая роща, что возле Белого пруда. Больше всех времен года он любил осень с ее яркой пестротой красок. Ему захотелось написать освещенную предвечерним солнцем багряно-золотистую рощу на фоне зловещей синей тучи, охватившей полнеба. Он взял этюдник и, сказав Афанасию Васильевичу, что идет писать к Белому пруду, направился к калитке. Лель – за ним, торопливо обогнал Ярослава и остановился у самой калитки, преградив ему путь. Лель любил гулять с Ярославом по лесу и прежде, когда Ярослав собирался уходить, вот так же, опережая его, подходил к калитке и терпеливо ждал: возьмет или не возьмет. Ярослав, когда брал с собой собаку, говорил всегда одну и ту же фразу: "Пойдем, Лель". И пес дрожал от нетерпения и радости. Когда же Ярослав говорил: "Нет, нет, ты будешь дома", – Лель с поникшей головой отходил от калитки. На этот раз Ярослав сказал:
– Нет, нет, Лель, оставайся дома.
Но пес не опустил голову и не отошел от калитки. Он продолжал сидеть на месте, преграждая путь, просяще скулил и смотрел на Ярослава с такой мольбой, что даже Афанасий Васильевич сказал:
– Ну возьми его, снизойди. Вишь, как любит тебя.
– Не могу: он будет мне мешать, – ответил Ярослав. – А потом, отменять решение – значит портить собаку. Сказал "нет", значит нельзя. Ну, пусти меня, Лель, уйди.
Лель нехотя уступил дорогу, вздохнул как-то совсем не по-собачьи, лег на крыльце и украдкой, приоткрывая один глаз, посматривал вслед Ярославу.
Когда Ярослав поднялся на косогор, перед ним открылась совершенно сказочная картина. Березовая роща контрастно сияла на фоне тучи, по которой белым дымом плыли низкие облака, отчего небо приобретало зловещий, тревожный вид. Но не это было главным и неожиданным: через весь небосвод по синему простору тучи взметнулась необыкновенно яркая, переливчатая радуга, как царственная корона, торжественно-величавый убор владычицы-природы. Четкие концы радуги упирались в огненные вершины берез и осин. Все притихло, замерло… Мир казался огромным, беспредельным. Впервые в жизни своей видел Ярослав такую гигантскую, поистине космических масштабов и такую необыкновенно красочную радугу. Ее тревожные краски, казалось, исторгали музыку органа; и золото берез тоже излучало музыку, и мелодии, мужественные, сильные и вечные, звучали в душе очарованного художника той музыкой, которая в нас самих, которую слушают не уши, а глаза, сердце, душа, каждая клеточка нашего тела. Он стоял, осененный и растерянный, смотрел на восток и старался запомнить, зарубить себе в памяти, чтоб не сейчас, не здесь, а потом воспроизвести на холсте величавое видение. Сейчас наслаждался, насыщая душу, сердце, память, глаза. Ему верилось и не верилось, что все видимое им сейчас – реальность, явь.
Серебристое облачко надвигалось на солнце, радуга медленно затухала, краски ее меркли; они блекли с обоих концов, упиравшихся в лес, дуга становилась с каждой секундой короче и наконец растаяла совсем. Как заколдованный стоял Ярослав еще несколько минут, потом оглянулся: это тучи скрыли солнце и похитили радугу; только золото берез все еще звенело.
Вдруг Ярослав увидел за Белым прудом, на противоположной его стороне, дым от костра. Перебросив этюдник через плечо, он пошел на костер.
Да, на берегу Белого пруда разбила свой бивуак группа молодых людей. Они поставили брезентовую палатку, срубили у пруда молодой красавец кедр, из душистых ароматных ветвей его настелили в палатке постель. Они уже успели поужинать. Хрипел транзистор, подвешенный на березовом суку, – его никто не слушал. На самом берегу пруда, на срубленном и общипанном стволе кедра, сидела пара. Чернобородый парень в черном свитере лениво бренчал на гитаре, ему подпевала хриплым голосом большеглазая девица. У входа в палатку валялась обувь, видно, там был кто-то еще. Тлел костер. В сторонке была заготовлена большая куча сухого хвороста: должно быть, для ночного костра.
Ярослав уже пожалел, что не взял с собой Леля. Он даже хотел, прежде чем разговаривать с ними, сходить за собакой. Он подошел к тем, что сидели на берегу. Гитара умолкла. Две пары пьяных глаз уставились на Ярослава.
– Вы срубили кедр? – с трудом сдерживая гнев, спросил Ярослав, глядя на бородатого.
Тот резко ударил по струнам гитары, презрительно оттопырив алую губу, осмотрел Ярослава снизу вверх. Прогнусавил:
– О ком вы, гражданин, толкуете?
– Не о ком, а о чем. О срубленном кедре я вас спрашиваю.
– О кедре? Ася, ты не знаешь, что такое кедр? -дурашливо кривлялся бородач, скаля крепкие ровные зубы.
– Кедр – это дерево, на котором вы сидите.
– Ася, оказывается, эта ароматная дубина называется кедром. А мы и не знали. Почему ж, в таком случае на нем не было орешков? Или были? Ника! – прокричал он в сторону палатки. – Глянь-ка! На кедровых ореха лежите.
– У вас совесть есть? – голос Ярослава дрогнул. Он понимал, что разговаривать здесь с ними не имеет смысла. И все же не мог вот так молча повернуться и уйти.
– Совесть? – Бородач лениво поднялся, кривляясь, засунул обе руки в карманы штанов, будто что-то искал там, и снова крикнул уже куда-то в пространство: – Ленька! Ты не брал мою совесть? Вот гражданин художник требует нашу совесть.
– Я лесник. И вы на моем участке совершили преступление: срубили кедр. Понимаете, кедр загубили, – проговорил Ярослав.
– Ника, Лень! Вы слышите? – снова дурашливо заорал бородатый. – Местное начальство объявляет нас преступниками, врагами природы.
Подошел вразвалку вышедший из кустов длиннорукий блондин, блеклоглазый, с редкими зубами, мутно посмотрел на Ярослава, процедил:
– Искупаться в этой луже желаешь? – кивнул на пруд, к которому стоял спиной, и уперся в лицо Ярослава тупым бычьим взглядом. Ярослав принял вызов, выдержал его взгляд. Проглотив сухой комок, подступивший к горлу, он хотел быстро повернуться и уйти, но представил себе их издевательское улюлюканье вслед, ответил:
– Не пугай. Не таких видел.
Он стоял между двумя бездельниками, у которых чесались руки. Им нужен был хотя бы маленький предлог, чтобы пустить, в ход кулаки. Леня – так звали блеклоглазого – бесцеремонно и неторопливо взялся за ремень этюдника, висящего через левое плечо, и попытался сорвать его силой. Он не ожидал сопротивления. Ярослав, не говоря ни слова, ударом в челюсть опрокинул его в пруд. Они, наверно, не ожидали такой быстрой реакции тихого на вид лесника: бородач сначала отшатнулся, но, когда его приятель уже барахтался в воде, с возгласом: "Ника! Наших бьют!" – он бросился на Ярослава, как баран, выставив вперед черную волосатую голову и рассчитывая на помощь приятеля в палатке. Но тот не спешил. Ярослав хотел таким же манером опрокинуть бородатого и бежать домой, потому что силы были неравны. Но бородатый нагнул голову, и кулак Ярослава угодил ему в нос. Тот отшатнулся, но не упал, а только схватился рукой за лицо и вдруг ужаснулся, увидев на руке свою кровь. Крови было много, густой и липкой. Она текла по усам и бороде, капала на свитер, и ему показалось, что он вообще истекает кровью. Тогда он в ужасе взревел, раненым зверем метнулся к палатке, схватил ружье и с расстояния полсотни метров выстрелил в быстро уходящего Ярослава. Ружье было заряжено мелкой дробью, и Ярослав упал между кедром и березой.
Глава третья
Цымбалов заканчивал последнюю главу романа о Сергии Радонежском. Работа шла медленно – две, а то и одна страничка в день. Он сам поражался: впервые за творческую жизнь он охладел к почти готовому своему произведению. И совсем не усталость была тому причиной, а поездка на родину, встреча и долгий разговор с Петром Терещенко. Он садился за письменный стол, и вместо скита под Радонежем, князей и бояр ему виделись двадцатые годы, огонь гражданской войны, комиссары в кожанках, партийные съезды, неутомимый Ильич. Виделись ему и враги Советской власти, люто ненавидящие трудовой народ, идеи коммунизма, и неоднократно прошедшие через литературу, театр, кино белогвардейцы, интервенты, кулаки, с их мятежами, заговорами, восстаниями, виселицами. «Конечно, Терещенков прав – тут, в этом океане страстей, в горниле битв, решавших судьбы народов, можно найти много трагедийных, драматических ситуаций, сильные и сложные характеры, яркие образы. Какая тема – и не одна – для исторического романа!»
Дочь пришла из института раньше обычного, в два часа. Надежда Антоновна обрадовалась: не придется второй раз обед разогревать. В руках Катя держала письмо, только что извлеченное из почтового ящика.
– Отцу? – спросила Надежда Антоновна. К читательским письмам здесь привыкли: они шли почти ежедневно. Катя кивнула и прокричала:
– Тебе, папа.
Почерк был Цымбалову незнаком, но обратный адрес на конверте и фамилия "Рожнов А. В." насторожили, и настороженность эта быстро превратилась в волнение, тревогу, предчувствие беды. Он взял письмо и пошел в кабинет, удивляясь своему волнению. Руки его дрожали.
Да, слепое предчувствие не обмануло.
Старый лесник сообщал о тяжелом ранении Ярослава. Цымбалов читал письмо стоя. Неровные строки расплывались, точно в тумане, и входили в сознание лишь отдельными фразами: "Стреляли, изверги… Они молодой кедр загубили…" Предполагают, что это "приезжие, те, что иконы в селе скупали".
Цымбалов сел в кресло и снова перечитал письмо. Перед глазами стояли слова: "…изверги… иконы в селе скупали…"