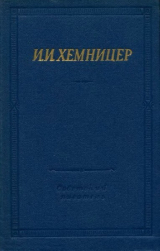
Текст книги "Полное собрание стихотворений"
Автор книги: Иван Хемницер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Баснописец начала XIX века и теоретик басенного жанра А. Е. Измайлов писал о баснях Хемницера: «Хемницер имеет самое главное и существенное достоинство баснописца-поэта: простодушие (la naivite). Если бы он при своем пленительном простодушии одарен был столь же сильным и пламенным чувством, как Дмитриев; если б владел, подобно ему, животворною кистью поэзии и с таким же тщанием и вкусом обрабатывал свои стихи, то я не усумнился бы назвать его вторым Лафонтеном. Впрочем, справедливость требует сказать, что Хемницер первый начал у нас писать в стихах настоящим простым слогом в то время, когда язык не был еще очищен и когда не имели понятия о хорошей версификации. Удивительно, как он мог без основательного учения словесности и без образцов на отечественном языке достигнуть совершенства в столь трудном роде стихотворений, каким признается басня, получившая от Лафонтена новую форму. Рассказ у Хемницера бесподобен: нигде почти у него не видно принуждения; кажется, что он писал без всякого труда и невольно забавлял читателей своей простотою; но сия-то мнимая простота (bonhmiе) или, правильнее, простодушие есть в басне и сказке верх дарования и искусства».[1] То, что нам теперь кажется в стихах Хемницера рассудочным и бледным в языковом отношении, – для его современников и даже для ближайших поколений представлялось образцом простоты и естественности, примером разговорного слога.
В словарном, лексическом отношении язык Хемницера действительно приближается к разговорному, включая нередко и народное «просторечие». Он пользуется такими словами и выражениями, как оплошать», «оправить», «шел путем-дорогой», «авось», «впрям», «эдак», «ждать-пождать», «встужиться», «взметаться», «чужого не замай», «куды несчастный я поспел», «денег сто рублев», «на стать воронью поступают», «с надсадною кричит», «талан», «бедокур», щечили», «ни кола ни двора» и т. п. Однако он избегает нарочито грубых слов крестьянского обихода, которыми так любил уснащать свои басни Сумароков.
Хемницер охотно насыщает свои басни словами с уменьшительными, ласкательными и увеличительными суффиксами, столь характерными для народной речи: «возище», «батюшка», «дитятко», «дружок», «молодчик», «сынок» и т. п. Нередко он прибегает к народному словечку «свет», которое так полюбит затем Крылов: «Ну, говорит, узнай, мой свет!», «Ты ошибаешься, мой свет!»
Народный характер придают языку басен и характерные фразеологические обороты: «На ту беду...», «Челнок вам на беду, поверьте мне, я знаю», «Я чаю, что тебя послушать...», «Жить домом, говорят, нельзя без кошки быть» и т. д. Сплошь и рядом Хемницер включает в свои басни подлинные народные пословицы: «Заставь дурака молиться, дурак и лоб разобьет», «Святое место пусто не будет», «Худой мир лучше доброй ссоры», «Многие умеют мягко стлать, да жестко спать», «И от добра добра не ищут».
В свою очередь, многие стихи Хемницера по своему складу напоминают народные пословицы и поговорки: «Кто ползать родился, тому уже не встать», «Чужого не замай, а береги свое», «Иному и в делах лужайка – океан», «Говорят, седло корове не пристало, «Уж легче нет, как дураком прожить».
Однако значительное место в языке Хемницера занимают и книжные, церковнославянские и архаические слова и выражения: «соседы», «войски», «лжа», «прорекатель», «учтивство», «вопиять», «действо», «обстать» и т. п. Встречаются и архаичные грамматические формы: «окончают» (от оканчивать), «охолодел» (вместо «охладел»), «глазя» (вместо «глазея») и др. Все это придает нередко архаический, книжный характер его словарю.
Большой заслугой Хемницера было то, что он преодолел архаическую тяжеловесность басенного слога своих предшественников, а также грубоватое «просторечие» сумароковских басен, создав «средний» стиль, общепонятный и доступный читателям. Однако прийти к разговорной живости и богатству крыловского басенного языка Хемницер еще не смог. Его язык синтаксически правилен, его фраза грамматически выверена, но они лишены разговорной, интонационной свободы и разнообразия, его словарь ограничен во многом рамками книжной речи. Самые обороты нередко имеют слишком книжный характер: «В каком-то городе два человека жили, Которы промыслом купцами оба были» («Два купца»). Или: «Бедняк, людей увидя лесть, К богатому неправу честь, К себе неправое презренье, Вступил о том с своим соседом в рассужденье» («Богач и бедняк»). Иногда встречаются весьма тяжеловесные синтаксические конструкции со сложноподчиненными предложениями: «Во Франции, никак, я право позабыл, Из воинов один, который заслужил, Чтоб он пожалован крестом воинским был, Не получив сего, однако, награжденья…» Это отяжеляло язык и стих Хемницера, придавало ему книжный характер, связывало те живые, разговорные интонации, которые прорывались сквозь эту грамматическую скованность.
В языке басен Хемницера борются и сталкиваются две различные языковые стихии – книжная и разговорно-«просторечная». Он еще не способен создать органическое сочетание этих двух речевых тенденций, закрепить их за определенными персонажами, сплошь, и рядом механически соединяя разные языковые сферы и лишая своих героев индивидуальной речевой характеристики.
Достаточно сравнить хемницеровского «Лжеца» с одноименной басней Крылова, чтобы особенно наглядно представить различие в манере рассказа обоих баснописцев.
Хемницер свою басню начинает с нравоучения:
Кто лгать привык, тот лжет в безделице и в деле,
И лжет, душа покуда в теле,
Ложь-рай его, блаженство, свет:
Без лжи лгуну и жизни нет.
Я сам лжеца такого
Знал,
Который никогда не выговорит слова,
Чтобы при том он не солгал.
Далее некий лжец рассказывает историю о том, как якобы в его присутствии сплавляли алмазы и из мелких делали один большой. Это повествование, по сравнению с крыловским, многословно, бледно, лишено живых интонаций, характер лжеца в нем совершенно не показан. Желая проучить лжеца, один из присутствующих уверяет, что он видел алмазы весом не в фунт, как утверждал лжец, а в целый пуд:
«В фунт, кажется, ты говорил?»
– «Так точно, в фунт», – лжец подтвердил.
– «О! это ничего! Теперь уж плавить стали
Алмазы весом в целый пуд;
А в фунтовых алмазах тут
И счет уж потеряли».
Для Хемницера этот диалог художественное достижение. Но в целом басня-остается растянутой, она лишена того непринужденного остроумия, лукавой иронии, богатства разговорных интонаций, которыми отличается одноименная басня Крылова.
В ряде случаев басни Хемницера монологичны, являются авторским повествованием. В своем рассказе Хемницер стремится сохранить разговорную интонацию, но, как правило, она однообразна и монотонна, язык однопланен, напоминает сухой пересказ. Такова, например, басня «Два купца», повествовательная манера которой характерна для Хемницера:
В каком-то городе два человека жили,
Которы промыслом купцами оба были
Один из них в то только жил,
Что деньги из всего копил;
Другой доход свой в хлеб оборотить старался.
Богатый деньгами товарищу смеялся,
Что он всё хлебом запасался.
Товарищ смех его спокойно принимал
И хлебный свой запас всё больше умножал.
Эту книжную скованность речи, недостаток разговорной свободы и естественности в языке басен Хемницера в свое время подметил Н. Полевой «Хемницера можно упрекнуть в одном только у него не было еще того полного русского разгула, той русской беззаботности в которых так неподражаем Крылов. Хемницер никогда не смеет разговориться, может быть, чтобы не заговориться. На нем приметны местами следы оков классических. В языке своем он как будто хочет казаться человеком comme il faut – церемония, совсем лишняя в басне, – и боится часто употреблять коренные русские речи...»[1].
Однако, для развития русской басни значение басен Хемницера прежде всего в том сближении литературы и жизни, которое в условиях господства эстетики классицизма было наиболее ощутимо в басенном жанре.
Сатирическая направленность басен Хемницера, защита в них интересов простого труженика, критика феодально-крепостнических порядков определяли эту связь с жизнью, преодолевали условность жанровой традиции и отвлеченное морализирование. В этом основная историческая заслуга Хемницера, проложившего путь к реалистическим и подлинно народным басням Крылова.
Лучшие басни Хемницера своей жизненной мудростью, своим уважением к трудящемуся человеку и высотой своих нравственных требований несомненно приобрели непреходящее значение. Их успех и популярность у читателей на протяжении всего XIX века свидетельствуют, что они выдержали испытание временем.
Так, Н. Полевой писал по поводу выхода басен Хемницера в 1837 году: «Хемницер был один из превосходнейших наших поэтов и достоин стать наряду с Крыловым. Его басни должны быть такою же народною книгою, как басни Крылова Они могут выдержать суд самый строгий, особливо если сообразим, что Хемницер принадлежал еще ко временам ломоносовским».[1]
В нашу советскую эпоху интерес к басенному жанру отнюдь не уменьшился. Творчество Хемницера – одного из первых талантливых мастеров этого жанра – по праву заслуживает внимания самых широких кругов советских читателей.
Н. Степанов
БАСНИ И СКАЗКИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МИЛОСТИВОЙ ГОСУДАРЫНЕ МАРЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ДЬЯКОВОЙ{*}
Милостивая государыня!
Лишь только я успел сказать:
«Ну, басенки мои и сказочки, прощайте,
Вас требуют, и мне вас больше не держать,
Ступайте;
Приятелям моим привык я угождать:
Они меня о том не раз уже просили,
Чтоб напечатать вас отдать», —
Все басни с сказками ко мне тут приступили,
И, каждая приняв и голос свой, и вид,
Старик мне первый говорит:
«Помилуй, что́ ты затеваешь,
Что ты без всякой нас защиты отпускаешь!
Ужли ты для того на свет нас жить пустил.
И нас, детей своих, лелеял и учил,
Чтоб мы на произвол судьбы теперь остались
И без прибежища скитались?
Не сам ли ты через меня сказал,
Что в море бы одним робятам не пускаться?
А ты теперь и сам что делать с нами стал?»
Бедняк тож к речи тут пристал:
«А я куды гожусь? Как в свет мне показаться?
Ты знаешь, батюшка, довольно, свет каков,
Какое множество развратных в нем умов;
Ты знаешь, сколько в нем на правду негодуют.
И как порочные умы об ней толкуют?
А ты ведь, батюшка, когда нас воспитал,
Ну дети, правдою живите.
И правду говорите», —
Всегда нам толковал.
Так ты нас под ее защитой отпускаешь?
Помилуй, разве ты не знаешь,
Какой по бедности моей мне был прием
В беседе перед богачом?
Чего же доброго теперь мне дожидаться,
Когда мне в свет еще и с правдой показаться?
Нет, ежели ты в свет задумал нас пустить,
Отдай Дьяковой нас в покров и защищенье.
Тогда хоть мы от злых услышим поношенье,
Что станем правду говорить,
Но в ней не гнев найдем, увидим снисхожденье;
Ее одно в том утешенье,
Один закон, одно ученье,
Чтоб правду слышать и любить.
Она нас иногда от клеветы избавит,
А именем своим тебя и нас прославит.
И наших недругов заставит, может быть,
Еще нас и любить.
Хоть в свете истина собой и не терпима,
Так из прекрасных уст всё может быть любима».
– «Как? ей представить вас? что вы, с ума сошли?
Подите ж прочь! пошли! пошли!»
Сперва-таки как лад просили, всё просили;
Но вдруг как подняли и плач, и вой такой!
«Ой! батюшка, постой! постой!
Ой! что задумал ты над нашей головой!»
Тут все они свои заслуги протвердили
Без череды и чередой.
Иная басня тут медведем заплясала,
Другая тут свиньей визжала.
Медведь сказал
«Что, разве ты забыл, как в басне я плясал?»
Свинья свое напоминала
И с прочими туда ж твердит:
«Припомни, как меня в девятой басне били,
Гоняли, мучили, тузили».
Слоны с коровой приступили.
Корова говорит:
«Что, разве даром я под седоком страдала,
За лошадь службу отправляла
И невпопад ступала?
А что я не скакала,
Так я не виновата в том,
Что не роди́лася конем».
Слоны свое тут толковали:
«Да мы чем виноваты стали,
Что, новый ты совет затеяв учредить,
С нами,
С слонами,
Скотов с предлинными ушами.
За красное сукно изволил посадить?
Иль наши все труды пропали?
Так из чего ж бы нам служить?»
И уши криком мне и воем прожужжали.
Другие было все туда ж еще пристали;
Но я, чтоб как-нибудь скоряй их с шеи сжить,
Стал гнать их от себя, кричать на них, бранить:
«Поди, уродлива станица, отступися!»
Они, сударыня, и пуще привяжися.
Я им в рассудок говорить:
«Да как уродов вас Дьяковой мне представить?
Иль вкус и красоту ее мне оскорбить
И самому себя пред нею обесславить?
Ну, кстати ли?» – Они никак не отставать;
Стоят на том, чтоб Вам в защиту их отдать:
Хотя бы, говорят, мы ей не показались,
Так мы бы именем ее покрасовались.
Я всё не смел им обещать,
Как вздорная меня станица ни просила;
Но вдруг, где ни взялась, жена тут приступила,
Котору в сказке я десятой описал;
Тут я, сударыня, что делать, уж не знал,
И, чтоб скоряй с ней разойтиться,
Я был уж принужден решиться.
«Да, да, – я ей сказал, —
Так точно, знаю, знаю...
Подите только прочь, я всё вам обещаю...»
Дав слово, должен я сдержать.
Не надобно бы так нескромно обещать;
Но, силу кротости и власть рассудка зная
И вздорную лишь тем исправить уповая,
Подумал я: «Пускай же будет и она
На путь прямой обращена;
Не первая то будет злая
Обезоружена жена…»
Пожалуйте ее, сударыня, исправьте;
А мне простите слог простой,
И счастье тем мое составьте:
Позвольте, чтоб Вам был покорнейшим слугой,
милостивая государыня,
N. N.
ПИСАТЕЛЬ{*}
Писатель что-то сочинил,
Чем сам он недоволен был.
В способности своей писатель сомневался,
А потому
Ему
И труд свой не казался;
И так он не ласкался
Уж похвалу ту получить,
Котору заслужить
Старался.
В сомненьи сем ему невежда предстает.
Писатель тут на рассужденье
Свой труд невежде подает.
«Пожалуй, – говорит, – скажи свое ты мненье
На это сочиненье».
Судьей невежда стал,
Судил, решил, определял:
Ни в чем не сомневался,
Ничем он не прельщался,
И только что кричал:
«Вот это низко здесь! там то неблагородно!
В том месте темен смысл! тут вовсе нет его!
Вот это с правдою не сходно!
Здесь остроты нет ничего!
Тут должно иначе... получше изъясниться!
А эта речь проста... и... не годится!
И всё невежда вкось и вкриво толковал
Что он невежда был, о том писатель знал,
И про себя сказал:
«Теперь надежда есть, что труд мой не пропал».
КОНЬ И ОСЕЛ{*}
Конь, всадником гордясь
И выступкой храбрясь,
Чресчур резвился
И как-то оступился.
На ту беду осел случился
И говорит коню: «Ну, если бы со мной
Грех сделался такой?
Я, ходя целый день, ни разу не споткнуся;
Да полно, я и берегуся».
– «Тебе ли говорить? —
Конь отвечал ослу. – И ты туда ж несешься!
Твоею выступкой ходить —
И во́век не споткнешься».
УМИРАЮЩИЙ ОТЕЦ{*}
Был отец,
И были у него два сына:
Один сын был умен, другой сын был глупец.
Отцова настает кончина;
И, видя свой конец,
Отец
Тревожится, скучает,
Что сына умного на свете покидает,
А будущей его судьбы не знает,
И говорит ему: «Ах! сын любезный мой,
С какой
Тоской
Я расстаюсь с тобой,
Что умным я тебя на свете покидаю!
И как ты проживешь, не знаю.
Послушай, – продолжал, – тебя я одного
Наследником всего именья оставляю,
А брата твоего
Я от наследства отрешаю:
Оно не нужно для него».
Сын усумнился и не знает,
Как речь отцову рассудить;
Но наконец отцу о брате представляет:
«А брату чем же жить,
Когда мне одному в наследство,
С его обидою, именье получить?»
– «О брате нечего, – сказал отец, – тужить:
Дурак уж верно сыщет средство
Счастливым в свете быть».
ДЕРЕВО{*}
Стояло дерево в долине,
И, на судьбу свою пеняя, говорит,
Зачем оно не на вершине
Какой-нибудь горы стоит;
И то ж да то же всё Зевесу докучает.
Зевес, который всем на свете управляет,
Неудовольствие от дерева внимает
И говорит ему:
«Добро, переменю твое я состоянье,
Ко угожденью твоему».
И дал Вулкану приказанье
Долину в гору пременить;
И так под деревом горою место стало.
Довольным дерево тогда казалось быть,
Что на горе стояло.
Вдруг на леса Зевес за что-то гневен стал,
И в гневе приказал
Всем ве́трам на леса пуститься.
Уж действует свирепых ветров власть:
Колеблются леса, листы столпом крутятся,
Деревья ломятся, валятся,
Всё чувствует свою погибель и напасть;
И дерево теперь, стоявши на вершине,
Трепещет о своей судьбине.
«Счастливы, – говорит, —
Деревья те, которые в долине!
Их буря столько не вредит».
И только это лишь сказало —
Из корня вырванно упало.
Мне кажется, легко из басни сей понять,
Что страшно иногда на высоте стоять.
ПОЖИЛОЙ ГАДАТЕЛЬ{*}
Детина молодой хотел узнать вперед,
Счастливо ль он иль нет
На свете проживет
(О чем нередкий размышляет
И любопытствует узнать),
И для того велел гадателя призвать,
И счастье от него свое узнать желает.
Гадатель был старик и строго честь любил,
Он знал людей и в свете жил,
Детине этому печально отвечает:
«Не много жизнь твоя добра предвозвещает;
Ты к счастью, кажется, на свете не рожден:
Ты честен, друг, да ты ж умен».
Печальный прорекатель!
Какой стоический урок
Но к счастию, что ты гадатель,
А не пророк!
СКВОРЕЦ И КУКУШКА{*}
Скворец из города на волю улетел,
Который в клетке там сидел.
К нему с вопросами кукушка приступила
И говорила:
«Скажи, пожалуй, мне, что́ слышал ты об нас,
И городу каков наш голос показался?
Я думаю, что ведь не раз
Об этом разговор случался?
О соловье какая речь идет?»
– «На похвалу его и слов недостает».
– «О жаворонке что ж?» – кукушка повторяет.
– «Весь город» и его немало похваляет».
– «А о дрозде?»
– «Да хвалят и его, хотя и не везде».
– «Позволишь ли ты мне, – кукушка продолжала, —
Тебя еще одним вопросом утрудить
И обо мне, что слышал ты, спросить?
Весьма б я знать о том желала:
И я таки певала».
– «А про тебя, когда всю истину сказать,
Нигде ни слова не слыхать».
– «Добро! – кукушка тут сказала.—
Так стану же я всем за это зло платить,
И о себе сама всё буду говорить».
ОБОЗ{*}
Шел некогда обоз;
А в том обозе был такой престрашный воз,
Что перед прочими казался он возами,
Какими кажутся слоны пред комарами.
Не возик и не воз, возище то валит.
Но чем сей барин-воз набит?
Пузырями.
ОТЕЦ И СЫН ЕГО{*}
Отец, имея сына,
Который был уже детина,
«Ну, сын, – он говорит ему, – уж бы пора,
Для твоего добра,
Тебе жениться.
К тому же, дитятко, у нас один ты сын,
Да и во всей семье остался ты один;
Когда не женишься, весь род наш прекратится,
Так и для этого ты должен бы жениться.
Уж я не раз о том говаривал с тобой
И напрямик, и стороной,
А ты мне всё в ответ другое да другое;
Скажи, пожалуй, что такое?
Я, право, говорить о том уже устал».
– «Ох! батюшка, давно и сам я рассуждал,
Что мне пора бы уж жениться;
Да вот я для чего всё не могу решиться:
Ищу, да всё еще примера не найду,
Чтоб жили муж с женой в ладу».
ДВА СОСЕДА{*}
Худой мир лучше доброй ссоры,
Пословица старинна говорит;
И каждый день нам тож примерами твердит,
Как можно не вплетаться в споры;
А если и дойдет нечаянно до них,
Не допуская вдаль, прервать с начала их,
И лучше до суда, хотя ни с чем, мириться,
Как дело выиграть и вовсе просудиться
Иль, споря о гроше, всем домом разориться.
На двор чужой свинья к соседу забрела,
А со двора потом и в сад его зашла
И там бед пропасть накутила:
Гряду изрыла.
Встревожился весь дом,
И в доме беганье, содом:
«Собак, собак сюда!» – домашние кричали.
Из изб все люди побежали
И сви́нью ну травить,
Швырять в нее, гонять и бить.
Со всех сторон на сви́нью напустили,
Поленьями ее, метла́ми, кочергой,
Тот шапкою швырком, другой ее ногой
(Обычай на Руси такой).
Тут лай собак, и визг свиной,
И крик людей, и стук побой
Такую кашу заварили,
Что б и хозяин сам бежал с двора долой;
И люди травлю тем решили,
Что сви́нью наконец убили
(Охотники те люди были).
Соседы в тяжбу меж собой;
Непримиримая между соседов злоба;
Огнем друг на́ друга соседы дышат оба:
Тот просит на того за сад изрытый свой,
Другой, что сви́нью затравили;
И первый говорил:
«Я жив быть не хочу, чтоб ты не заплатил,
Что у меня ты сад изрыл».
Другой же говорил:
«Я жив быть не хочу, чтоб ты не заплатил,
Что сви́нью у меня мою ты затравил».
Хоть виноваты оба были,
Но кстати ль, чтоб они друг другу уступили?
Нет, мысль их не туда;
Во что б ни стало им, хотят искать суда.
И подлинно, суда искали,
Пока все животы судьям перетаскали.
Не стало ни кола у и́стцев, ни двора.
Тогда судьи им говорили:
«Мы дело ваше уж решили:
Для пользы вашей и добра
Мириться вам пора».
ТЕНЬ МУЖНЯ И ХАРОН{*}
Красавицы! ужли вы будете сердиться
За то, что вам теперь хочу я рассказать?
Ведь слава добрых тем никак не уменьшится,
Когда однех худых я стану осуждать.
А право, мочи нет молчать:
Иным мужьям житья от жен своих не стало;
А этак поступать вам, право, не пристало.
Жил муж, жила жена,
И наконец скончались оба;
Да только в разны времена
Им отворились двери гроба.
Жена скончалась наперед,
Потом и муж, прожив не помню сколько лет,
Скончался.
Как с светом здешним он расстался,
То к той реке приходит он,
Где перевозит всех Харон
Тех, кои свет сей оставляют.
А за рекою той, пииты уверяют,
Одна дорога в рай, другая в ад ведет.
Харон тень мужнюю везет,
И как через реку́ они переезжают,
Тень говорит: «Харон, куда моя жена
Тобою перевезена?
В рай или в ад?» – «В рай». – «Можно ль статься?
Меня куда ж везешь?» – «Туда ж, где и она».
– «Ой, нет; так в ад меня! Я в аде рад остаться,
Чтоб с нею вместе лишь не жить».
– «Нет, нет, мне над тобой хотелось подшутить,
Я в ад ее отвез; ей кстати в аде быть
И с дьяволами жить и знаться:
И в свете ведь она
Была прямая сатана».
МУЖИК И КОРОВА{*}
Коня у мужика не стало,
Так он корову оседлал;
А сам о том не рассуждал,
Что, говорят, седло корове не пристало;
И, словом, на корову сел,
Затем что он пешком идти не захотел.
Корова только лишь под седоком шагает,
Скакать не знает.
Седок корову погоняет;
Корова выступкой всё тою же ступает
И только лишь под ним пыхтит.
Седок, имев в руках не хлыстик, а дубину,
Корову понуждал как вялую скотину,
Считая, что она от палки побежит.
Корова пуще лишь пыхтит,
Потеет и кряхтит.
Седок удары утрояет, —
Корова всё шагает,
А рыси, хоть убей,
Так нет у ней.
КАЩЕЙ{*}
Какой-то был кащей и денег тьму имел,
И как он сказывал, то он разбогател
Не криводушно поступая,
Не грабя и не разоряя,
Нет, он божился в том,
Что бог ему послал такой достаток в дом
И что никак он не боится
Противу ближнего в неправде обличиться.
А чтобы господу за милость угодить
И к милосердию и впредь его склонить,
Иль, может быть, и впрям, чтоб совесть успокоить,
Кащею вздумалось для бедных дом построить.
Дом строят и почти достроили его.
Кащей мой, смо́тря на него,
Себя не помнит, утешает
И сам с собою рассуждает,
Какую бедным он услугу показал,
Что им пристанище построить приказал.
Так внутренно кащей мой домом веселится,
Как некто из его знакомых проходил,
Кащей знакомому с восторгом говорил:
«Довольно, кажется, здесь бедных поместится?»
– «Конечно, можно тут числу большому жить;
Но всех, однако же, тебе не уместить,
Которых по миру заставил ты ходить».
КРЕСТЬЯНИН С НОШЕЮ{*}
Коль часто служит в пользу нам,
Что мы вредом себе считаем!
Коль часто на судьбу богам
Неправой жалобой скучаем!
Коль часто счастие несчастием зовем
И благо истинно, считая злом, клянем!
Мы вечно умствуем и вечно заблуждаем.
Крестьянин некакий путем-дорогой шел
И ношу на плечах имел,
Которая его так много тяготила,
Что на пути пристановила.
«Провал бы эту ношу взял! —
Крестьянин проворчал. —
Я эту ношу
Сброшу,
И налегке без ноши я пойду,
Добра я этого везде, куда приду,
Найду».
А ноша та была кошель, набитый сеном,
Но мужику она казалась горьким хреном.
Стал наш крестьянин в пень, не знает, что начать,
Однако вздумал отдыхать,
И мыслит: «Отдохнув немного, поплетуся;
Авось-либо дойду,
Хоть с ношею пойду;
Быть так, добро, пущуся».
Пошел крестьянин в путь и ношу взял с собой;
Но надобно здесь знать, что было то зимой,
Когда лишь только реки стали
И снеги льда ещё не покрывали.
Лежит крестьянину дорога через лед.
Крестьянин ничего не думавши идёт;
Вдруг, поскользнувшись, он свалился,
Однако же упал на ношу без вреда.
Близка была беда!
Крестьянин, верно б ты убился,
Когда бы ношу взять с собою поленился.
ДВА СЕМЕЙСТВА{*}
Уж исстари, не ныне знают,
Что от согласия все вещи возрастают,
А несогласия все вещи разрушают.
Я правду эту вновь примером докажу,
Картины Грёзовы[1] я сказкой расскажу.
Одна счастливую семью изображает,
Другая же семью несчастну представляет.
Семейством сча́стливым представлен муж с женой,
Плывущие с детьми на лодочке одной
Такой рекой,
Где камней и меле́й премножество встречают,
Которы трудности сей жизни представляют.
Согласно муж с женой
Своею лодкой управляя,
От камней, мелей удаляя,
Счастливо к берегу плывут;
Любовь сама в лице, грести им пособляя,
Их тяжкий облегчает труд;
Спокойно в лодочке их дети почивают;
Покой и счастие детей
В заботной жизни сей
Труды отцовски награждают.
Другим семейством тож представлен муж с женой,
Плывущие с детьми на лодочке одной
Такою же рекой,
Где камней и меле́й премножество встречают;
Но худо лодка их плывет;
С женой у мужа ладу нет:
Жена весло свое бросает,
Сидит, не помогает,
Ничто их труд не облегчает.
Любовь летит от них и вздорных оставляет;
А мужа одного напрасен тяжкий труд,
И вкриво с лодкою и вкось они плывут;
Покою дети не вкушают
И хлеб друг у́ друга с слезами отнимают;
Всё хуже между них час о́т часу идет;
В пучину лодку их несет.
ЗЕМЛЯ ХРОМОНОГИХ И КАРТАВЫХ{*}
Не помню, где-то я читал,
Что в старину была землица небольшая,
И мода там была такая,
Которой каждый подражал,
Что не было ни человека,
Который бы, по обыча́ю века,
Прихрамывая не ходил
И не картавя говорил;
А это всё тогда искусством называлось
И красотой считалось.
Проезжий из земли чужой,
Но не картавый, не хромой,
Приехавши туда, дивится моде той
И говорит: «Возможно ль статься,
Чтоб красоту в том находить —
Хромым ходить
И всё картавя говорить?
Нет, надобно стараться
Такую глупость выводить».
И вздумал было всех учить,
Чтоб так, как надобно, ходить
И чисто говорить.
Однако, как он ни старался,
Всяк при своем обычае остался;
И закричали все: «Тебе ли нас учить?
Что на него смотреть, робята, всё пустое!
Хоть худо ль, хорошо ль умеем мы ходить
И говорить,
Однако не ему уж нас перемудрить;
Да кстати ли теперь поверье отменить
Старинное такое?»
СТРОИТЕЛЬ{*}
Тот, кто дела свои вперед всё отлагает,
Тому строителю себя уподобляет,
Который захотел строение начать,
Стал для него припасы собирать,
И собирает их по всякий день немало.
Построить долго ли? Лишь было бы начало.
Проходит день за днем, за годом год идет,
А всё строенья нет,
Всё до другого дня строитель отлагает.
Вдруг смерть пришла; строитель умирает,
Припасы лишь одни, не зданье оставляет.
СОВЕТ СТАРИКОВ{*}
Детина старика какого-то спросил:
«Чтоб знатным сделаться, за что бы мне
приняться?»
– «По совести признаться, —
Старик детине говорил, —
Я, право, сам не знаю,
Как лучше бы тебе, дружок мой, присудить;
Но если прямо говорить,
Так я вот эдак рассуждаю,
И средства только с два могу тебе открыть,
Как до чинов больших и знатности дойтить,
А больше способов не знаю.
Будь храбр, дружок: иной
Прославился войной;
Всё отложив тогда, спокойство и забаву,
Трудами находить старался честь и славу;
И в самом деле то сыскал,
Чего сыскать желал.
Другой же знанием глубоким,
Не родом знатным и высоким,
Себя на свете отличил:
В судах и при дворе велик и славен был.
Трудами всё приобретают;
Но в том великие лишь души успевают».
– «Всё это хорошо, – детина говорил,—
Но если мне тебе по совести признаться,
Так я никак не вображал,
Что чести и чинов на свете добиваться
Ты б столько трудностей мне разных насказал.
Мне кажется, что ты уж слишком судишь строго;
Полегче бы чего нельзя ли присудить?»
«Уж легче нет того, как дураком прожить;
А и глупцов чиновных много»,
ХОЗЯИН И МЫШИ{*}
Две мыши на один какой-то двор попались,
И вместе на одном дворе они живут;
Но каждой жительства различные достались,
А потому они и разну жизнь ведут;
Одна мышь в житницу попала,
Другая мышь в анбар пустой.
Одна в довольстве обитала,
Не видя ну́жды никакой;
Другая ж в бедности живет и всё горюет
И на судьбину негодует,
С богатой видится и с нею говорит,
Но в житницу ее попасть никак не может,
И только тем одним сыта, что рухлядь гложет.
Клянет свою судьбу, хозяина бранит,
И наконец к нему мышь бедна приступила,
Сравнять ее с своей подругою просила.
Хозяин дело так решил,
И мыши говорил,
Котора с жалобой своею приходила:
«Вы обе случаем сюда на двор зашли
И тем же случаем и разну жизнь нашли.
Хозяину мышам не сделать уравненье;
И я скажу тебе:
Анбар и житницу построил я себе
На разное употребленье;
А до мышей мне ну́жды нет,
Котора где и как живет».
ЛЖЕЦ{*}
Кто лгать привык, тот лжет в безделице и в деле,
И лжет, душа покуда в теле.
Ложь – рай его, блаженство, свет:
Без лжи лгуну и жизни нет.
Я сам лжеца такого
Знал,
Который никогда не выговорит слова,
Чтобы при том он не солгал.
В то время самое, как опыты те были,
Что могут ли в огне алмазы устоять,
В беседе некакой об этом говорили,
И всяк по-своему об них стал толковать.
Кто говорит: в огне алмазы исчезают,
Что в самом деле было так;
Иные повторяют:
Из них, как из стекла, что хочешь выливают;
И так
И сяк
Об них твердят и рассуждают;
Но что последнее неправда, знает всяк,
Кто химии хотя лишь несколько учился.
Лжец тот, которого я выше описал,
Не вытерпел и тут, солгал:
«Да, – говорит, – да, так; я сам при том случился
(Лишь только что не побожился,
Да полно, он забылся),
Как способ тот нашли,
И до того алмаз искусством довели,
Что как стекло его теперь уж плавить стали.
А эдакий алмаз мне самому казали,
Который с лишком в фунт из мелких был стоплен».
Один в беседе той казался удивлен
И ложь бесстыдную с терпением внимает,
Плечами только пожимает,
Принявши на себя тот вид,
Что будто ложь его он правдою считает.
Спустя дней несколько лжецу он говорит:
«Как, бешь, велик алмаз тебе тогда казали,
Который сплавили? Я, право, позабыл.
В фунт, кажется, ты говорил?»
– «Так точно, в фунт», – лжец подтвердил.
– «О! это ничего! Теперь уж плавить стали
Алмазы весом в целый пуд;
А в фунтовых алмазах тут
И счет уж потеряли».
Лжец видит, что за ложь хотят ему платить,
Уж весу не посмел прибавить
И лжой алмаз побольше сплавить;
Сказал: «Ну, так и быть,
Фунт пуду должен уступить».
БОЯРИН АФИНСКИЙ{*}
Какой-то господин,
Боярин знатный из Афин,
Который в весь свой век ничем не отличился
И никакой другой заслуги не имел,
Окроме той одной, что сладко пил и ел
И завсегда своей породой возносился, —
При всем, однако же, хотел,
Чтоб думали, что он достоинствы имел.
Весьма нередко то бывает:
Чем меньше кто себя достойным примечает.
И, право бы, в слуги к себе негоден был,








