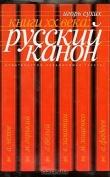Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
В запахе дерева, белеющего под острием топора, звенящего под ударами тесла или оструганного, словно выутюженного до блеска, рубанком, Христофор Михалушев ощущал дыхание самой жизни, полной надежд и ожиданий, и когда он вдыхал свежее дуновение лесов, доставленное поездами и машинами в жилье человека, к нему всегда возвращалось доброе настроение.
В тот день Муни приехал раньше обычного. Привез хлеба и халвы, простокваши для старика, несколько банок рыбных консервов (ничего другого не нашлось) и книгу, которую протянул Маккавею.
Муни, для которого в технике не существовало секретов, взял эту книгу у кого-то из приятелей – в ней были чертежи всевозможных лодок, и инструкции, как их построить; он привез ее Маккавею, чтобы вместе просмотреть и приняться за дело.
– Это киль, – показывал Муни на узкий брус, изображенный на дне лодки. – К нему крепятся шпангоуты. По бокам их лежат стрингеры. Сверху приладим бимсы. Это конструкция остова. А потом останется только пригнать вплотную обшивку, просмолить – и лодка готова…
Шпангоуты, стрингеры, бимсы… Маккавей слушал эти непонятные слова, произносимые другом так торжественно и уверенно, как будто Муни прожил жизнь не здесь, среди прибрежных холмов в долине Огосты, а долго бороздил моря и океаны и теперь завернул к Маккавею, чтобы бросить снисходительный взгляд на затею бывшего одноклассника и снова уплыть в неведомые дали… Нет, Муни оставался все той же ящерицей с оторванным хвостом, сухопутным обитателем этих жарких припеков, ездившим из села в село, чтобы преодолеть чувство собственной неполноценности, порожденное недугом, занятый поисками смысла своего существования. Он выучил по книжке эти морские термины, которые только для непосвященных звучат таинственно и романтично, а вообще-то обозначают предметы вполне прозаические: дугообразные деревянные ребра, на которые крепится обшивка; планки, которые опоясывают лодку от носа до кормы и поддерживают шпангоуты; поперечины, которые стягивают верхние концы ребер…
– У меня есть один приятель – столяр, он страшно обрадовался, когда узнал, что ты собираешься строить лодку, – продолжал Муни. – Изготовил уже кое-какие детали, я их привез. И еще он прислал тебе инструмент. «Всю жизнь, – говорит, – мастерил только двери да окна, бочки да кухонные шкафы. Охота взяться за что-то такое, за что сроду не брался, проверить, вправду ли я мастер или так, обыкновенный кустаришка… Просто руки чешутся взяться за такое дело». Мы прикрепим к килю ребра, прибьем поперечины, а он приедет и сделает все остальное. Доски надо изогнуть, как клепки у бочки. Он их нагревает и придает нужную форму. И до того здорово получается, все – одна к одной!
– А меня примете в свою компанию? – Христофор Михалушев, слушавший их разговор, подошел ближе. – Я могу вложить капитал: скромная учительская пенсия к вашим услугам. Могу и собственным трудом заработать право сесть с вами в лодку, когда Маккавей наденет капитанскую фуражку и пойдет в первый свой рейс.
– Конечно, отец! – Глаза у сына блеснули так, будто в них засветилось то призрачное озеро, на котором уже покачивалась готовая лодка. – Ты сядешь рядом со мной, только не будешь вмешиваться и говорить, как всегда: «Почему туда? Налево! Осторожно, перевернешься!» Ты будешь только любоваться видом: горы, облака, птицы – все отражается в воде, и мы проплывем надо всем этим.
– Почему только любоваться? – перебил Муни. – Учитель может делать и более полезное дело. Я дам ему транзистор, он повесит его на шею, поймает какую-нибудь модную эстрадную музыку и крикнет на берег, где, естественно, будет набережная: «Уважаемые граждане, приглашаю вас на приятную прогулку по озеру. Всего за один лев вы испытаете удовольствие, которое вам надолго запомнится…» Народу сбежится уйма, но он возьмет на борт только несколько человек, лодка ведь тесная, и когда мы отчалим от берега, примется рассказывать: «Внизу, под нами, товарищи отдыхающие, была мельница. Там я в детстве пас лошадей, и мельники угощали меня ухой и хлебом, выпеченным в очаге на углях…»
– Верно, так оно и было… – растроганно взглянул на него Христофор Михалушев.
Старый учитель и впрямь мог бы многое порассказать незнакомцам в соломенных шляпах с гитарами, что приедут отдохнуть и повеселиться у озера, на дне которого покоится его жизнь. Он мог бы долго рассказывать им о том, что видел и пережил и что уже превратилось в тающую на мелях пену, в шевеление рыб и выплывших из водных глубин корней…
Он мог бы, например, рассказать о могиле антифашистов, погибших в восстании двадцать третьего года, – она находилась прежде в песках Огосты, там, где высится плотина водохранилища. Долгие годы кости расстрелянных лежали под разъеденной водою цементной плитой. Сюда, вместе с еще двенадцатью жертвами, пригнали на расстрел одного соседа Михалушевых. Карательная команда выпустила все обоймы и повернула назад, в город, а расстрелянные остались грудой лежать на песке. Односельчанин Михалушевых, тяжело раненный, выбрался из-под трупов и в поисках спасения дополз до дороги. Показался прохожий – чиркнул спичкой, увидел окровавленное лицо ожившего человека и узнал его: они были соседями. «Передай моему сыну, что я ранен и буду ждать в кукурузе у переезда через железную дорогу, пусть придет за мной…» Запоздалый путник обещал поторопиться, но не пошел в село, а повернул в город и донес о случившемся. Прибыли каратели, карманные фонарики нащупали раненого возле железнодорожной насыпи, потребовался лишь один выстрел, и все было кончено.
Тот, кто выдал его, не получив в награду и тридцати сребреников, жил долго, но никому, даже самым близким, не доверил своей тайны. Он был хорошим хозяином – пахал и сеял, выращивал подсолнухи, по весне как каждый человек на земле радовался новорожденным ягнятам и ласточкиным птенцам под стрехой и только в предсмертный час открыл свою страшную тайну, которая, видимо, всю жизнь угнетала его, и он не хотел уносить ее с собой в беспредельность небытия…
Эту и много других историй мог бы рассказать учитель, но вряд ли его рассказ привел бы в восторг людей, приехавших сюда лишь затем, чтобы приятно провести свободный денек…
– Я человек невеселого нрава, – сказал он, – и такое занятие не для меня. Поручите его кому-нибудь помоложе, кто умеет развлекать отдыхающих. Люди любят смешное, забавное. Жизнь и без того подносит им много горечи, зачем же слушать еще и мои стариковские воспоминания…
– Я не раз тебя слушал и знаю, что ты и веселые истории чудесно рассказываешь, – возразил Муни и посмотрел на руки учителя, нервно теребившие воротничок рубахи. – Расскажи им, например, как Куздо ездил за океан, или про молотилку «Арканзас», которая что ни лето ломалась и приступала к молотьбе только осенью, когда снопы успевали скукожиться от дождей и приходилось разрубать их топорами.
– Могу, конечно, могу, хотя это не такая уж смешная история… Но мне больше подходит другое занятие: перевозить души, как Харон… Вы катайтесь на лодке с утра до вечера, запускайте вовсю транзистор, чтобы заглушить шум волн, шутите, смейтесь с отдыхающими, это будет замечательно, а мне будете оставлять лодку, когда стемнеет. Я поплыву в темноте, освещенный одними звездами, к другому берегу, которого во тьме не видно, и он выглядит недостижимым, а может быть, и в самом деле недостижим. Вам, оставшимся, будет казаться, что я плыву один, и со мной только мои думы. Вам не придет в голову, что я перевожу на другой берег тени тех, кого я любил и знал… говорю с ними, спрашиваю о том, на что всю жизнь искал и не находил ответа, а они отвечают мне голосом птицы или всплеском рыбы в воде…
Муни и Маккавей, сидя над чертежом лодки, продолжали уверенно рассуждать о том, как они прикрепят ребра к килю, выгнут борта, но Христофор Михалушев знал, что лодка появится на свет лишь когда приедет столяр, всю жизнь мастеривший двери, окна и бочки, и задумавший создать что-то новое, чем он не только докажет свою искусность, но и подвергнет испытанию собственную душу. Вот тогда лодка, напоминающая своим остовом скелет огромной рыбы, начнет облекаться плотью, повернет к солнцу свои округлые бока, зазвенит под ударами тесла, словно о ее борта бьются волны, и пустится в долгое прекрасное плавание – не только в сердцах двух друзей, что склонились над чертежом, но и в воображении старого учителя, который тоже увлекся неожиданной затеей сына.
Ведь лучше всего, размышлял он, плывут еще не достроенные лодки, как всегда привлекательней бывают еще не осуществленные замыслы. В час испытания все выглядит немного иначе. Может оказаться, что лодка недостаточно хорошо собрана и сквозь швы проникает вода, которая медленно и неумолимо заливает дно и тянет лодку в бездну. Может оказаться, что облаченье осуществленной идеи сшито гнилыми нитками и сквозь прорванные швы видна ветхая подкладка… И еще одно угрожает и лодкам и мыслям: подводные камни. Тот, кто сидит у руля или под парусами, должен хорошо знать коварные мели и умело направлять судно в глубокие, безопасные воды…
Ветер катал по земле не подвластные его философии стружки, легкие, как пушинки, пахнувшие смолой и солнцем, и этот запах дерева предвещал что-то хорошее, долгожданное, что непременно случится…
Навещая разрушенное село, Христофор Михалушев с сыном любили пройтись по соседним усадьбам, постоять у цветов, продолжавших расти среди бурьяна так радостно и пышно, словно чья-то заботливая рука взрыхляла под ними землю и ежедневно поливала их. Крапива и бархатник пытались задушить эти скромные деревенские цветы, стать здесь полновластными хозяевами, и кое-где, в тенистых местах, это им удавалось. Фиалки и первоцвет едва проглядывали там сквозь их густые заросли. Гиацинты изо всех сил старались выставить из травы стебли, облепленные благоухающими колокольчиками, но повилика оплетала их и тянула книзу.
Учитель наблюдал за этим поединком цветов с бурьяном, начавшимся в тот день, когда снесли первый дом, и по сю пору не затихающим, – за неравной битвой между тем, что создано радовать глаз и душу человека и защищено лишь красками да ароматами, и зеленой лавиной, что подобно неприятельской пехоте движется вперед и вперед, овладевая все новыми пространствами…
Поскольку учитель всю жизнь боролся против того, что душит в человеке доброе начало, – боролся искренне и, может быть, наивно, – он знал, что осилить зло совсем не просто. Однако жизнь научила его и другому: стоит примириться со злом, как ты невольно становишься его союзником. И он не примирялся. Понимал, как скромны его силы, но утешал себя мыслью, что в душах учеников взойдут те семена, которые он старался посеять, и каждый из них – в меру своего разумения и по зову сердца – будет прокладывать дальше путь человечности и добру.
Вероятно, всякий, кто не знал учителя, удивился бы и снисходительно усмехнулся, увидев, как этот пожилой человек вместе со своим молодым спутником выпалывает бурьян в опустелых дворах и разглаживает венчики уцелевших цветов с такой нежностью, с какой отец гладит волосенки сына.
Перезимовав в домике на берегу Огосты, Михалушевы весной выпололи бурьян во многих дворах села, взрыхлили землю, и цветы сразу ожили, распустились, стали еще благоуханней.
Прежде каждая хозяйка здесь сажала цветы так, чтобы возле дома с весны до поздней осени что-то цвело.
Так было и во дворе Михалушевых. Раньше пробивались сквозь осевший снег у оград листья подснежника. Первый цветок покачивался под тяжестью сонной пчелы, и Маккавей по этому покачиванию различал его на нерастаявшем снегу. Потом появлялись крокусы, словно раздуваемые ветерком желтые свечечки. Затем начинали сверкать синие ожерелья пролесок. Через неделю-другую над цветником поднимали свои алые чашечки тюльпаны, – прикасаясь друг к дружке, они звенели так, словно были отлиты из тончайшего цветного стекла.
Если бы понадобилось перечислить все цветы, какие росли во дворе его родного дома, Христофор Михалушев пришел бы в затруднение и многое, наверно, упустил бы, потому что каждый месяц – с марта по ноябрь – был богат цветами и красками, особенно поздней весной, летом и ранней осенью и при одном только воспоминании о них перед глазами учителя начинали сверкать во всем своем великолепии всевозможнейшие сочетания и оттенки красного, желтого и голубого цветов – насыщенные или еле угадываемые…
Для учителя хозяевами весны были ландыши. Едва различимый среди пышных островерхих листьев, цветок ландыша похож на цепь жемчужин, плотно нанизанных на изумрудно-зеленый стебелек. Его трудно заметить и, если бы не запах, можно было бы легко пройти мимо. Но, вдохнув ароматы свежего ветерка, молодой зелени лип, вешних ночей, когда сон бежит от глаз, ты становишься навсегда верным рабом этого скромного цветка. Быть может, для Христофора Михалушева запах ландышей был связан с первым юношеским чувством, напоминало о чем-то несбывшемся? Даже самому себе учитель не мог объяснить, чем именно пленял его запах ландышей, но каждый раз, вдохнув его, он чувствовал себя взволнованным и помолодевшим…
Властительницами лета были розы. Пышные, точно дамы в длинных бальных платьях, ожидающие начала празднества, розы ступали по двору Михалушевых подчеркнуто-грациозно, медленно и осторожно, словно опасаясь выпачкать в пыльной траве туфельки, а когда ветер усиливался, кружились в пируэтах, и их нарядные платья из жемчужно-зеленого бархата раздувались и шелестели. Христофор Михалушев посмеивался над их быстротечной суетностью, но ему доставляло удовольствие любоваться их пышными прическами с красными, оранжевыми и белоснежными завитками; глядя на эти простые деревенские розы, он вспоминал картинки из старых учебников истории, на которых изображены придворные дамы из свиты Марии-Антуанетты на дворцовом балу.
Осень в поречье Огосты была пышнее, чем остальные времена года. Глазу не вобрать все ее краски, душе не нарадоваться. Пестроцветье лета волной, искрящейся от радости и света, заливало весь сентябрь да и октябрь тоже, но, расползаясь по бугристым пашням, волна постепенно убывала, сквозь нее проглядывали бурые, оливковые и серые тона перепаханной стерни, выжженных летним зноем лугов и голых оползней, по которым стелился туман, все еще напоминавший дым пастушьего костра, но уже свалявшийся и сырой. Стихал шум листопада (Христофору Михалушеву вспоминалось, как вихри опавших листьев стучались в окна, и по уснувшим комнатам пробегало легкое зарево), начинал моросить тихий, пронизывающе-холодный дождик, за несколько дней и ночей раздевавший догола деревья и уносивший их графитно-черные осенние сны в воды Огосты… Однако недолго сиротела земля: день прояснялся, вновь светило солнышко, над поречьем летали длинные нити паутины, а с ними – точно путник, воздевший лицо к мягкому теплу неба, – опускалось на траву бабье лето.
Вот тогда-то начинался недолгий праздник хризантем.
Они росли по обе стороны устланной плитами дорожки, которая вела в школу. Утром хризантемы раздвигались, уступая учителю дорогу, и когда он касался ладонью их головок, похожих на гигантские снежинки, излучающие матовое сияние, по телу ознобом пробегало предчувствие зимнего холода. Этим холодом веяло не только от капелек росы на лепестках цветов, но и от их скипидарного запаха, в котором учитель порой различал дух лошадиного пота – словно поблизости табунами промчалась осень и исчезла за холмами.
Запах хризантем напоминал Христофору Михалушеву о днях зрелой осени. Их еле уловимое благоухание вбирало в себя и скрип груженых виноградом телег, и стук грецких орехов, выпадавших из зеленых скорлупок, и слезящиеся бочонки с кранами, облепленными винными мушками… В отличие от весенних и летних цветов, излучающих веселье и радость, хризантемы были молчаливы и задумчивы. Они словно подводили итог ушедшему, и так как в подведении итогов всегда больше грусти, чем веселья, учитель замечал, что хризантемы молча стоят рядом, погруженные в свои мысли, либо толпятся возле ограды, привстав на цыпочки, и смотрят на горизонт, откуда подойдет зима…
Этому миру цветов, который Христофор Михалушев населил своими видениями и чувствами, тоже предстояло исчезнуть вслед за селом, навсегда зарасти бурьяном. Вот тогда и наступит полное запустение, ведь цветок – это искорка, память о погасшем окне, которое в нашем воображении еще светится, напоминание о человеческих шагах, голосе, о скрипе двери и лошадином ржании… «Как только исчезнет последний цветок, – думал учитель, – навсегда исчезнет и душа нашего села…» Оттого и не мог он равнодушно смотреть на битву цветов с сорняками.
Маккавей полол сорняки и рыхлил землю, отец подрезал лозы, выпрямлял прогнившие колышки, которые подпирали их. Дворы оживали, когда Маккавей оборачивался и взглядывал на то, что оставалось у него за спиной, ему чудилось, что родное село не обречено, оно не исчезнет под водой, оно ждет новых обитателей, которые сначала полюбуются на цветы, а потом примутся искать место для жилья… Так думал он, молодой, а вот его отца, смотревшего на мир иными глазами, волновало другое. Он-то знал, что люди, переселившиеся в города, никогда уже сюда не вернутся, знал, что большая вода хлынет и зальет поречье, а затем побежит по каналам, орошая землю. Знал – и рассудок его не противился этому. Противилось сердце. И вряд ли кто-нибудь стал бы винить его за эту боль. Потому что он родился тут, и вырос, и любил все то, чему суждено оказаться на дне водохранилища, и мог ли какой-либо чужак сильнее, чем он, ощутить эту, такую человеческую, боль и тревогу?
Он так понимал одну из величайших для него истин бытия: старайся жить красиво и покинуть этот мир достойно… Оттого и хотелось ему, чтобы родное село, перенесшее много бед и напастей, но все долгие годы своего существования испытывавшее тягу к красоте в природе и человеке, ушло под воду не в зарослях бурьяна, а под радостное жужжание пчел в чашах садовых цветов.
Он мысленно рисовал себе, как прибывает вода – неспешно, с узорчатой пеной на гребнях волн, как первыми исчезают цветы (пчелы выпархивают из их чашек, стряхивают с крылышек капли и долго кружат над водой), затем начинают медленно погружаться виноградные лозы, и волны тычутся мордочками в зеленое вымя их гроздей…
Пусть конец наступит так – красиво и достойно…
Эта мысль увлекла учителя. Он решил созвать своих учеников из последнего класса сельской школы – их было двенадцать. Он проведет их по селу и каждому поручит позаботиться о цветах в одном из дворов. Он предчувствовал радость, какую испытают дети. Что может быть прекраснее, чем заботиться о цветке, любоваться его красками и благоуханием?.. И когда Муни однажды приехал с хлебом и брынзой, он попросил его побывать у переселенцев и передать ребятам, что учитель зовет их прополоть цветники в заросших бурьяном дворах.
– Скажи, что я соскучился по ним, – добавил Христофор, когда Муни уже садился за руль.
Прошла неделя… Как-то поутру опять показалась коляска Муни, затормозила у высохшего мельничного ручья и высадила мальчика. Это был ученик Михалушева Фома.
– Ты один? – спросил учитель. – А где же остальные?
– Одни помогают консервировать компоты, – ответил тот, кого звали Фомой. – Другие собрались смотреть на акробатов, в город цирк приехал. А третьи просто засмеялись, когда Муни сказал, зачем вы зовете…
Учитель присел на порог – он почувствовал, что его не держат ноги, – и, подперев подбородок ладонью, горько заплакал. Слезы струились по сухой состарившейся коже, задерживались в уголках рта и падали на листья лопуха у двери. «Притворяется расстроенным и огорченным, – подумал Фома. – Знает, что я скажу ребятам, и его слезы их тронут…»
Мальчик нагнулся к лопуху, тронул задержавшуюся на шершавом листе слезинку. Она обожгла его пальцы, будто это была капля огня. Растерянно, оробело поглядев на учителя, он понял, что слезы настоящие. И, не дожидаясь Муни, у которого никак не заводился мотор, повернулся и пошел напрямик через поле, поднялся на холм, перевалил через вершину и не вернулся.
Остальные так и не пришли…
Запестрели леса на склонах холмов.
От первой изморози, ненадолго задержавшейся на траве и на кронах деревьев, воздух сделался резким и гулким, наполнился голосами перелетных птиц. Изморозь пронизала поречье осенней зябкостью, и как ни теплело потом, как пышно ни цвели георгины и хризантемы, люди уже в шуршании листьев и горьком аромате осенних цветов чуяли морозное дыхание первых метелей и потрескивание льда в протоках реки.
Листья вьющегося винограда во дворах тоже запестрели, из-под них выглянули мелкие, выпитые осами ягоды. Пахло спелыми грушами и яблоками, разбившимися при падении о землю.
Надо всеми этими покореженными, покинутыми деревьями, над виноградными лозами с проеденной сердцевиной возвышалась старая яблоня с удивительно светившейся в осеннем небе кроной. Половина ее веток была густо, как пеной, покрыта цветами, над которыми жужжали пчелы, а другая половина желтела, и из-за листьев выглядывали крупные продолговатые яблоки.
Христофору Михалушеву и раньше случалось видеть осенью цветущие яблони, но попозже, когда листва опадала, и было в этом цветении что-то болезненное – вся крона чернела, лишь несколько веток роняли наземь розовые лепестки. В недолгом празднестве яблонь было не ликование, с которым для учителя ассоциировалось цветение, а предчувствие долгой, холодной зимы.
Та яблоня, что привлекла его взгляд, в былые годы ничем не выделялась среди других. Увидев ее сейчас наполовину в цвету, наполовину увешанную зрелыми плодами, Христофор Михалушев подумал, что это к беде: видно, почуяв приближение своего последнего часа, дерево – прежде чем засохнут корни и ветви – собрало все свои жизненные соки и в последний раз зацвело одной своей половиной, призвало к себе пчел, подобно тому как старик, почувствовав, что сердце бьется все глуше и тише, сзывает детей для последнего напутствия.
Было что-то торжественное, библейски возвышенное в позднем цветении старого дерева.
Окутанный тишиной опустевших усадеб, Христофор Михалушев подошел к яблоне послушать жужжание пчел. Сквозь цветущие ветки сеялся солнечный свет, и серебряные венчики были похожи на разноцветные витражи, где преобладают розовые, царственно-синие и опаловые тона.
Он подошел к дереву, не сводя с его кроны глаз. И, вероятно, постоял бы рядом и двинулся дальше, если бы не услыхал в траве шорох и не увидел, что ствол яблони обвит змеей. У змеи было плотное, гладкое туловище с золотистой спиной, брюхо излучало зеленоватое сияние, озарявшее потрескавшуюся кору яблони. Змея была необыкновенной длины – ее кольца охватывали старое дерево от корней до веток. Она впилась в учителя своими изумрудно-зелеными глазами (в точности такими же, как у той, что лежала на ступенях школы): в пасти змея держала яблоко.
Учитель не испугался – змея не собиралась на него нападать. Она покачивала головой, и яблоко поблескивало в свете солнечного луча, пробившегося сквозь ветки.
– Стар я уже для роли Адама, – с улыбкой сказал учитель, но змея ничем не дала понять, что услышала: по-прежнему не сводила с него глаз, держа в зубах яблоко. – Та, что долгие годы шла со мной рядом и могла соблазниться яблоком, теперь покоится на сельском кладбище… А я давно уже изгнан из рая, и, если спрошу себя, за какой именно грех, вряд ли смогу ответить…
Еще в детстве вкусил Христофор от плода познания, не ведая библейской притчи, ни от кого не слыша о том, что так называются терпкие зеленые яблоки, которые он тайком от родителей срывал, притаившись в ветвях дерева с проеденной гусеницами листвой. Он не знал, что змей должен искусить его, что надо отведать яблока, и тогда глазам откроются тайны мироздания – добро и зло, радость и боль… Он морщась ел терпкие незрелые плоды, смотрел на открывающийся вокруг озаренный солнцем мир – зеленый и радостный, и ему казалось, что он возвышается над ним как властелин, а ветки яблони – его трон.
Это чувство, которое, думал он, будет вечным, дрогнуло в тот миг, когда твердая кожура сорванного яблока выломила у мальчика зуб. Почерневший, трухлявый, он застрял в терпком яблоке, и мальчик нащупал языком щербинку, в которую свободно влезла бы целая фасолина. Через два дня зашатался еще один зуб. Мама привязала к нему нитку, резко дернула, и окровавленный кусочек кости с легким хрустом отделился от челюсти и повис на нитке. Мама зашвырнула его на крышу, проговорила вслед: «Держи, ворона, зуб костяной, дай мне железный!» – но ни одна ворона не прилетела. Зуб с привязанной ниткой так и белел на крыше, а когда мальчик вбирал в себя воздух, небо холодило и широкая щель в уцелевших зубах издавала свист. К середине сентября (Христофору предстояло в тот год пойти в школу) выпали все передние зубы. Кожа на носу облупилась от летнего солнца, и, смазывая перед зеркалом нос вазелином, Христофор старался не улыбаться, зная, что из глубины зеркала на него взглянет беззубый старичок, в точности как его дедушка, – глаза веселые, вихрастый чуб, на щеках и на лбу ни единой морщинки, но десны голые и в уголках рта горестные тени.
Вот тогда-то маленький Христофор и ощутил впервые, что в мире существует старость и что он сам, еще не переступив порога школы, тоже шагает навстречу ей. Он понял, что высокая яблоня во дворе – лишь выдуманный трон, на который его только на миг возвело мальчишеское воображение.
Эти необычные для его возраста мысли владели им вплоть до того дня, когда у него стали прорезываться новые зубы. Улыбка вновь засверкала как раньше, вернулась былая уверенность в себе, хотя в памяти по-прежнему маячил беззубый старичок, глядевший на него из потускневшего зеркала, и Христофор избегал в это зеркало смотреться: было неприятно вспоминать черную щель во рту и слышать противный присвист при каждом выдохе и вдохе…
Вправду ли именно тогда открыл для себя мальчик тайну познания? Старик, стоявший теперь перед змеей, вряд ли мог ответить на этот вопрос утвердительно. Кислые яблоки во дворе отчего дома тогда лишь ненадолго приоткрыли завесу тайны, и мальчик успел увидеть в щелочку крохотный кусочек бытия, который из-за перенесенной боли показался ему целой вселенной.
Терпкий вкус яблок своего детства Христофор Михалушев вновь ощутил однажды в начале лета, когда ему пошел девятнадцатый год.
В его сердце поселился тогда образ той женщины, которая спустя какой-то срок разделила с ним радости и тревоги жизни и стала матерью его детей. То были хмельные дни и ночи, и в старости он мысленно возвращался к ним – не ради счастья повторно ими насладиться, а в поисках ответа на многие вопросы, которые по-прежнему донимали его и в суть которых он так и не сумел проникнуть… Возможно, если бы случай свел его с другой женщиной и он так же горячо полюбил ее, жизнь Михалушева отличалась бы от той, что протекла среди холмов и отмелей затерянного у подножия гор поречья. Возможно, не ушел бы так рано, не прожив и года, его младший сынишка, а старший не родился бы таким, как Рыжеволосый, чья душа болела и страдала и за тех, кого хитрость и смекалка научили высвобождать ноги из капканов, расставляемых жизнью…
Все могло сложиться совсем иначе, да, видно, судьба предугадала позднейшие размышления Христофора и, когда безусому юноше шел только девятнадцатый год, сделала все от себя зависящее, чтобы сбылось именно то, что было ему написано на роду… Глаза юноши были словно околдованы. Среди всех людей, каких он встречал, мимо кого проходил, он искал только ЕЕ. И когда не видал ее, дни тянулись бессмысленные и пустые.
Теперь, в завершающую пору жизни, он мог трезвым взглядом оглянуться на ту хмельную пору и увидеть, что из дали былого к нему приближается ничем не примечательная девушка, невысокого роста, с затянутыми в пучок каштановыми волосами, прикрывающими мочки маленьких розовых ушей, с узким лицом и высоко поднятыми бровями, что придает ее взгляду выражение удивления и ожидания; широкие бедра, легонько покачивающиеся на ходу, собирают платье складками вокруг ног…
Тогда, почти полвека назад, все выглядело иным. Еще не вмешался рассудок, который мог судить строго и беспристрастно, принимать или отвергать. То была пора всевластного чувства, над которым человек впоследствии посмеивается, но не может отрицать, что это было взлетом души, утерянным затем на житейских дорогах.
Созревали хлеба. В жаркие июньские ночи, когда все засыпало и в мире оставался лишь шум реки да неяркое свечение звезд, Христофор Михалушев шел мимо зреющих нив вместе с женщиной, которую полюбил. Для него больше не существовали дома, где уже погасли окна и только кое-где мерцал за деревьями огонек, не существовал лай собак и кукареканье петухов – реальностью были только яблоневый сад на берегу Огосты, два запоздалых путника под его ветвями да песня ночных кузнечиков, которую оба воспринимали не слухом, а ступнями – она тонким сиянием стелилась по траве.
Они любили друг друга, упав на это сияние, которое сбивалось и комкалось от порыва их тел. Сквозь ветки проглядывали яблоки, гладкие и округлые, как грудь лежавшей рядом женщины, и губы Христофора, прикасаясь к ее губам, вдыхали аромат зреющих плодов.
Женщина – ее звали Ириной, но он называл ее Евой, потому что она предавалась любви в райском саду, – протянула руку, и он увидел на ее ладони яблоко. Змеи, которая дала ей это яблоко, он не заметил. Стволы деревьев таяли во мгле, да и глаза заволокло пережитым, и он не мог разглядеть ее. Только услышал хруст надкушенного яблока. Едва наклонилась к нему и подала темный плод, светлевший там, где прикоснулись ее зубы. Он откусил – и ощутил терпкий вкус запретного плода. И еще кое-что ощутил он: легкая хмельная дымка, туманившая его взгляд, вдруг отодвинулась – так же как утром отодвинулась легкая пелена над рекой, – и он увидел, что вокруг совсем обычная, примятая их телами трава, а по ней раскидана их одежда. И вместо голоса ТОГО, кто был хозяином САДА, услышал лай собак – совсем близкий, остервенелый лай – и устыдился своей наготы и наготы женщины рядом с собой.
Они торопливо оделись, и по тому, как заколыхались колосья, он понял, что собаки окружают их. Кольцо лая все суживалось, и пришлось швырять камни, чтобы разорвать его.
Одно за другим засветились окна домов.
Послышались голоса разбуженных людей.
Христофор и женщина, которую он в минуту нежности назвал Евой, прячась в тени деревьев, пробрались домой.
Голоса разбуженных людей по пятам следовали за ними, но были не в силах догнать и, хотя над головами по-прежнему сверкало небо, в душах обоих осталась горечь проглоченного кусочка от плода познания…