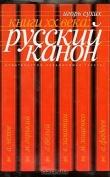Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Стручковый перец тоже зеленел длинными рядами, помидоры покачивали на грядках своими зазубренными листиками, а братья таскали доски в северный угол двора, пилили, размечали место под будущий курятник.
Выходит, бывшие жители села Чупренова слов на ветер не бросают. Вскоре Христофор Михалушев и его сын станут просыпаться от горластого петушиного пения…
Приходилось привыкать к повадкам посторонних людей, которые уже чувствовали себя в доме полновластными хозяевами. Желая сохранить мир, Христофор Михалушев терпеливо сносил все: привычку выбивать половики над самым его окном поутру, когда он еще лежал в постели и вся пыль летела к нему в комнату; звонки детских велосипедов как раз после обеда, когда он ложился отдохнуть; визг пилы под вечер, когда он садился за газеты или раскрывал книгу. Лето только-только началось, а братья готовились к зиме, кололи дрова и мыли под краном во дворе стеклянные банки, звякая металлическими крышками для консервирования.
Он уже научился различать близнецов. Хотя они были на одно лицо, наблюдательный глаз учителя подмечал особенности походки, жестов. Марин был помягче, сговорчивей брата. А вот с Мироном – у кого была стесана верхушка правого уха – трудно было найти общий язык. Говорили, что он в армии служил в одной роте с парнями, которые, вспоминая дни былых деревенских гуляний и празднеств, в казарме в свободное время мерялись силой. В схватке с самым опытным из этих борцов Мирон и пострадал – положенный им на обе лопатки парень откусил у него кончик уха. Так никогда прежде не знавший поражений силач постарался отомстить за свой первый в жизни позор.
Приколотив к курятнику последнюю доску и водворив туда цыплят, которые пищали целыми днями и все норовили улизнуть через какую-нибудь щелку, близнец с укороченным ухом взялся за Маккавея. Он смотрел, как тот рассеянно бродит по улице, как садится на детский велосипед его шестилетнего сынишки – колени торчат высоко над рулем, как ловит на поляне бабочек и, если случится поймать, долго рассматривает ее узорчатые крылышки. До Мирона не раз доходили слухи о том, что малый, как называли все Маккавея, болен, но чем болен – он не расспрашивал, и без того ясно, что у учительского сына «не все дома» (так выражался Мирон, когда в семье заходил разговор об обитателях первого этажа).
Пока стояли в цвету деревья, да и позже, когда уже созрели первые черешни и выцвели на июньском солнце колосья ячменя, Маккавея почти не было видно на их просторном дворе. Если он когда и выходил перекопать цветочные клумбы или полить их, то делал это бесшумно, боясь потревожить соседок, которые резали на кухонных балконах лук или вышивали наволочки, предназначенные для супружеских постелей. Вернувшись к себе, он брал с этажерок отца какую-нибудь книгу, предпочитая те, где описывались путешествия. Он любил читать их неторопливо, вдумчиво, живо представляя себе созданные автором картины, наблюдая за парусами, если речь шла о корабле, вдумывался в каждое слово, словно надеясь воочию увидеть, как всплывает из пучины огромная серая спина кита, а над ним взлетает фонтан океанской воды… Но вдруг на самом интересном месте Маккавей откладывал книгу и, сунув ноги в сандалии, бежал к холму, в заброшенные виноградники, где над оставшимися кое-где лозами высились черешни с уже начинающими рдеть ягодами. Он влезал на дерево и, крепко упершись ногами в ветки, набивал в соломенную шляпу самых спелых ягод, которые он срывал попарно, чтобы можно было нацепить на уши, как сережки. Вернувшись в город, он угощал черешнями всех встречных ребятишек. Одни хватали ягоды целыми пригоршнями и с жадностью проглатывали вместе с косточками, другие, выбрав несколько парных ягодок, тоже нацепляли их на уши, как этот странный дядя, и весело бежали за ним. В закатанных до колен штанах, с приплюснутой шляпой рыжей шевелюрой и мелкими веснушками на щеках, которые поблескивали на солнце, как слюдяные чешуйки, Маккавей шагал мимо новостроек окраины и позволял ребятне не только щекотать себя под мышками и забавляться тем, как он смешно подпрыгивает, но даже садиться на него верхом и подгонять, шлепая его по бокам пятками… «Седоки» сменялись – один соскочит, другой заберется ему на спину, а рыжий «конь» ступал медленно и осторожно, чтобы непоседы не хлопнулись наземь. Матери из окон и с крылец провожали глазами веселую ватагу. Одни улыбались этому карнавальному шествию, другие кричали детям, чтоб немедленно шли домой, и строго выговаривали им за неблагоразумие – можно ли водить дружбу с этим ненормальным? Особенно неистово бранилась Мирониха. Она выбегала на улицу – крупная, с железными бигуди в волосах, с дряблым телом, еле вмещавшимся в желтый цветастый халат, и, ухватив сына за воротник, принималась колотить по чем попало. Черешневые сережки падали на землю, она наступала на них, ее визгливый голос то и дело обрывался, и слова дробились на части, будто ее трясла лихорадка.
– Сколько раз тебе говорено, чтоб дома сидел, а? Кто тебе разрешил забираться на спину этому полоумному? А если он взбесится да побежит к ямам, где известь гасят – мало ли их тут, – да и скинет тебя туда? Мне потом всю жизнь так и глядеть на твою обожженную рожу, а?
Мальчик с посиневшими от трепки ушами молчал, хотя ему очень хотелось сказать: «Что кому плохого сделал этот Маккавей? Он раздал нам все свои черешни и позволяет ездить на нем верхом, ему хорошо с нами, он нас любит…»
– А ты знаешь, что полоумие – хворь прилипчивая? – продолжала вопить мать. – Того гляди и ты завтра; начнешь вот так же слоняться по улицам, тоже умом тронешься, возьмешь да еще дом подожжешь. Что мы с отцом твоим делать будем, бездомные?.. Из сил выбивались, недоедали, только бы крышу над головой заиметь, а ты вон что!
Мальчику не верилось, что он тронется умом, но в ту минуту, когда щеки горели от материнских оплеух, ему хотелось, чтобы это непременно случилось как можно скорее, чтобы хорошенько отомстить матери. «Вот возьму и вправду подпалю дом, тогда будет знать…»
Освободясь от безжалостной материнской руки, мальчик поправлял помочи штанишек и молча брел домой, затаив в сердце невысказанную угрозу.
Маккавей тоже уходил, держа в руках соломенную шляпу, похожую на опустевшее гнездо. Уходил в одиночестве, покинутый остальной ребятней, – они слышали слова Миронихи и опасливо разбегались по домам. Маккавей садился на порог, слезы подступали к глазам, но гудок дневного поезда отвлекал его, он смотрел сквозь ветки деревьев, как мелькают вагоны с опущенными окнами, видел руки людей, облокотившихся о них, развевающиеся занавески, и их веянье, легким ветерком долетавшее от железной дороги, высушивало его слезы…
Когда наступало лето и в созревшей пшенице за рекой пение перепелов звучало глуше, словно с трудом пробиваясь сквозь густые стебли, Маккавей не мог усидеть дома. Непонятное беспокойство охватывало его, сердце сжималось словно в предчувствии беды, глаза мутнели. Он в кровь разбивал ноги на каменистых окраинах города, где целыми днями бродил в одиночестве, потому что мальчишки теперь убегали от него, а взрослые проходили мимо с насмешкой или жалостью во взгляде. Раскаленная земля обжигала босые ступни, летний зной плотными жаркими волнами разливался по всему телу. Его уже не манило порханье бабочек, которых становилось все меньше. Нечто иное, редко замечаемое взрослыми, приковывало его внимание: телеграфные столбы. Выстроившись бесконечной шеренгой, будто шагающие к горизонту люди, телеграфные столбы привлекали его не только своим устремлением навстречу огромному, неведомому миру, но и звоном проводов, казавшимися ему музыкой большого, спрятанного где-то за холмами оркестра. Прильнув ухом к почернелому столбу, обжигавшему щеку разогретой солнцем древесиной, Маккавей слушал музыку неведомых просторов, которая исходила из самой сердцевины дерева. То были голоса вокзалов, где негромко, с большими промежутками, бил колокол; шум пенистых волн, которые разбивались о скалистый берег; шаги невидимых людей, как бы испепеленных летним солнцем, так что только эхо носилось в воздухе… Наслушавшись голосов одного столба, Маккавей переходил к следующему. Прижавшись к нему ухом, он чувствовал, что прикасается к совершенно иному миру. В этом столбе все звуки были нежнее и тоньше, и тише, словно где-то вдали звучала скрипка прекрасного музыканта, но смычок еле касался струн, и мелодия долетала до Маккавея как бы порывами – одни музыкальные фразы были звучны и отчетливы, другие еле слышны, будто ветер разрывал паутинку мелодии и уносил ее поблескивающие нити в бесконечность…
Так переходил он от столба к столбу, пока солнце не садилось за гору, и никогда не достигал горизонта – тот, пятясь, отступал все дальше и дальше.
Маккавей брел домой – исцарапанный колючками и камнями, со сжавшимся от дурного предчувствия сердцем, а в ушах продолжала звучать мелодия телеграфных столбов. Закатное солнце удлиняло его тень, и она шла за ним следом как единственный друг – то торопливая, когда он ускорял шаг, то медленная и задумчивая, словно ей тоже хотелось вспомнить пережитое на том холме, где в пламени заката телеграфные столбы казались совсем крохотными и черными.
Завидев Рыжеволосого, ребятишки новоиспеченных горожан высовывали из-за оград выгоревшие на солнце головенки и с насмешкой смотрели на него, а те, что посмелее, выбегали из ворот и, оставив одну створку открытой – для отступления, если придется удирать, – орали:
– Гляди, гляди, полоумный идет! Полоумный!..
– Полоумный! Полоумный! – доносилось то из-за одной, то из-за другой ограды. Выгоревшие детские хохолки с наглой издевкой торчали над оградами и мгновенно прятались, стоило помутневшему от июльского зноя взгляду Маккавея коснуться их.
Рыжеволосый босой человек молча шел по улице, будто не слыша слов, которые точно камни били его по спине. Он проходил мимо – не столько уязвленный, сколько опечаленный: всего лишь месяц назад те же самые дети дружески подбегали к нему, садились верхом, и он, как послушный конь, чувствовал на своих боках их острые пятки. Что же произошло, отчего они с такой враждебностью преследуют его?
До него долетали вопли их матерей:
– Да вы никак опять с полоумным связались? Не видите, солнцем его напекло, сейчас у него на губах пена выступит!
Одни ребятишки бежали домой, но другие, кто посильней да поуверенней, выбегали на улицу и подкрадывались к Маккавею, изображая из себя хищника, готового прыгнуть на него и вонзить ему когти в шею.
Он терпеливо сносил и это, однако наступало мгновенье, когда глаза застилал мрак. Он слышал, как с резким звоном рвутся провода на телеграфных столбах. Провода нависали над ним, сплетались в тесную петлю и сдавливали горло. Он задыхался, из груди вырывался вопль, он изо всех сил пытался ослабить стальной аркан, но безуспешно, петля только слегка сдвигалась, чтобы пропустить его стон.
И тогда женщины шумно захлопывали двери и окна. Дети удирали по тротуару, мертвенно-бледные от страха. Клочок мальчишеской рубашонки, до которой дотянулась рука Маккавея, остался в его трясущихся пальцах, а детский велосипед, на котором сынишка Мирона пытался сбить Рыжеволосого с ног, с треском ударился о стену дома напротив, и колеса с расплющенными крыльями разлетелись в разные стороны…
Однажды вечером к Христофору Михалушеву пожаловали гости. Они постучались, а когда учитель открыл дверь, накинув поверх пижамы первое, что попалось под руку, – он уже собирался лечь, – то увидел перед собой четырех своих односельчан, тоже перебравшихся в город, их дома стояли у подножия холма. Гости разулись в передней, попросили прощения, что беспокоят в такой поздний час, и подсели к столу. Было ясно, что они пришли не проведать учителя, а по делу, но из разговора, какой они повели, было трудно заключить, в чем оно состоит. Сначала потолковали о погоде: такая засуха, все небось сгорит, а в районе Златии выпал град, и от кукурузы и подсолнуха остались одни стебли. Потом зашла речь о воде – дескать, по слухам, введут лимит, колонки будут давать воду только ночью, часа два-три; затем перешли к солнцу – говорят, были большие вспышки, а это действует на нервную систему и на сердце, на днях один человек только сошел с поезда и р-раз – упал прямо на перроне и кончился, инфаркт… Учитель слушал, уже догадываясь о цели позднего визита. Едва гости завели речь о вспышках на солнце и больных нервах, он понял, к чему они клонят.
– Ты уж прости, Христофор, – сказал самый старший из них, приземистый человек с испитым лицом и темными ладонями, будто обожженными солнечными вспышками, о которых только что толковали. – Мы с тобой одногодки, а вот их, – он показал на сидевших рядом мужиков, державших на коленях свои кепки, – ты учил читать и писать. И моих сыновей тоже учил. И внуков. Ты знаешь, что все мы тебя уважаем, потому как ничего, кроме добра, от тебя не видели. Знаешь, что мы любим Маккавея, ты на него надеешься, как на опору в старости, раз других родных нету, но все мы обманываемся насчет своих детей…
«О Маккавее заговорил. Должно быть, весь город уже прослышал о его нервных припадках…» – подумал учитель.
– Мы знаем Маккавея еще вот этаким, рос с нашими детьми, – продолжал старик, – вместе в школу пошли, вместе в гимназии обучались. Нету среди наших односельчан человека, который не любил бы его как родного сына, и потому нас беспокоит то, что говорят про него…
– Болезнь его обострилась, – сказал учитель и, посмотрев старику в глаза, прочитал в них сочувствие. – Я думал, он выздоровел, но как настала жара, он начал буйствовать. Дети дразнят его, называют полоумным. Он терпит, а переполнится чаша терпения – срывается…
– Мы это понимаем и помалкиваем, из наших никто словечка против него не скажет, но другие пойдут жаловаться. Бабы – небось знаешь их – подливают масла в огонь: «Он нам детишек поубивает!» Сводил бы ты его в больницу. Авось помогут…
– Были мы с ним в больнице. Там осмотрели его и сказали: «Мы дадим ему лекарство, он успокоится, но если не устранить раздражители, все начнется сначала. Надо сменить обстановку: другая природа, другие люди, а лучше бы и вообще без людей, чтобы никто не раздражал его. Пусть займется делом, которое будет ему по душе, увлечет его, пусть побольше гуляет и ничто не травмирует его…» Все это прекрасно, думаю, но где найти такое местечко при моей учительской пенсии? Куда мне его повезти?
– Слушай, я вот подумал про тот домишко на берегу Огосты, где когда-то жил огородный сторож. Не знаю, правда, достаточно ли он крепок, не прогнила ли от дождей крыша? – старик повернул к нему освещенное лампой лицо, тонкий, обтянутый кожей хрящеватый нос сверкнул на свету.
– Дом крепкий! – подал голос один из гостей. – Я вчера ходил нарубить ивовых веток и заглянул туда. Только побелить стены да вставить стекла…
На берегу Огосты и впрямь стоял такой домик – учитель совсем забыл о нем. Он ожил в его сознании только когда гости, пришедшие поделиться с ним своим беспокойством, уже шагали по улице и уличные фонари то удлиняли тени, то укладывали их под ноги, и люди ступали по ним, как по полосам сажи. Учитель мысленно увидел затененный ветками ив домик, разъеденную дождями дымовую трубу, берег Огосты, местами заросший вьюнком и крапивой, местами подрытый водой; увидел речные омуты, подернутые прозрачной рябью, где он мальчишкой удил рыбу, и засыпая, слышал, как вода тихонько журчит в протоках, отдаваясь эхом в подводных ямах, над которыми свисают красные корни ивы…
В конце июля, когда жатва уже подходила к концу и над пустым жнивьем все еще раздавался стрекот кузнечиков, сухой и резкий, как треск стерни под ногами, Христофор Михалушев и его сын переселились в пустующий дом на берегу Огосты.
Дом состоял из двух небольших комнатушек, к нему примыкал открытый сарай, где под навесом чернели раскиданные ящики и жерди, в углу валялась изгрызенная мышами резиновая тапка. Штукатурка на стенах вся потрескалась от дождей, окна стали серыми от пыли, разбитые стекла затянуло паутиной. Кроты рыли вокруг дома землю, и, глядя на то, как шевелятся насыпанные кротами горки, одна возле другой – рыхлые, маслянисто-черные, – учителю вдруг пришло в голову, что дом стоит на осыпи и будет медленно, день за днем, погружаться в нее, пока кровля не сравняется с землей и в щели между черепичинами не пробьется трава. Но когда поляна перед домом огласилась стуком топора, которым учитель обтесывал сук, чтобы починить стреху, когда сухой пырей зашуршал под ногами сына, собиравшего щепки на растопку, кротовьи норы застыли недвижно, и острые их макушки побелели, затерялись в выцветшей от зноя траве, став одинакового с ней цвета. А спустя несколько дней кроты, спугнутые человеческими голосами, и вовсе исчезли, земля затвердела, и ноги, прикасаясь к ней, вновь ощущали надежность, которую не могли нарушить ни скрип порога, ни потрескивание черепицы, когда учитель ходил по крыше и ребра стропил слегка прогибались под ним.
Побелили комнаты, вставили стекла, запахло известью – тонко и свежо, будто дом переоделся в чистую рубаху. Затопили печь. Запахло сгоревшей травой (ею был разожжен огонь), послышалось попискивание полена, в котором стонал древоточец, затрещали кирпичи в разогретом дымоходе, дом словно задышал – медленно, щурясь на солнце, вдыхая аромат медовки, доносившийся с затененной стороны холма, и сладковатый запах рыбы и ряски, шедший от разогретых протоков Огосты.
Христофор Михалушев заметил вдалеке человека. Он шел не по дороге, а через поле. Раскаленный воздух дрожал над жнивьем и над порыжевшими от зноя нескошенными лугами. Стрекотали кузнечики – мерно, гулко, с неумолимым упорством, – и старому учителю казалось, что над поречьем мерцает не марево, что это стружки от металлической песни кузнечиков – тонкие, острые стружки, взметенные в небо внезапно налетевшим вихрем, которые теперь медленно оседают, кружа, и щекочут горло.
Человек, который шел через поле, уже приближался к излучине. Он смешно подпрыгивал, ускоряя шаг, в особенности между протоками, где сверкали, как жидкое стекло, песчаные наносы. Учитель вгляделся, пытаясь охватить взглядом расплывающийся в знойном мареве силуэт, и различил человека среднего роста, без шапки, с потемневшим от жары лицом, на которое свисают ржавые, свалявшиеся волосы, в рубахе нараспашку и закатанных до колен холщовых штанах, с черными, тонкими и жилистыми, как у лошади, ногами. Он понял, что это его сын. Тот пересек раскаленные песчаные наносы и долго умывался у переката, но это, видимо, не остудило кожу, и он, как был, в одежде прыгнул в воду. Рубаха вздулась, потом прилипла к лопаткам, под намокшими штанинами обрисовались бедра. Он выпрямился. Стройный силуэт, двигавшийся теперь более спокойно – благодаря прохладе – минуту спустя задымился на солнцепеке, как от огня. Сверкнула рыжая шевелюра, обрисовалась мокрая борода, облепившая загорелые щеки. В первое мгновенье учитель обрадовался, но затем сердце его тревожно екнуло. Отчего сын возвращается в полдень, в самое пекло? Отчего так спешит?
Рыжая шевелюра Маккавея дымилась, будто охваченная пламенем, и погасла лишь тогда, когда его укрыла тень от стрехи. Опустившись на один из ящиков, он ощутил спиной прохладную шероховатость стены, а шум реки вытеснил невыносимое скрежетанье кузнечиков и проложил дорогу еле ощутимому ветерку, принесшему запах сохнущего льна и ивовых листьев.
– Я ведь купил тебе соломенную шляпу, почему не носишь? Солнце печет немилосердно… – Отец увидел, что ступни Маккавея изодраны в кровь стерней, по которой он шел. – И сандалии у тебя есть… Посмотри, что у тебя с ногами…
Маккавей не ответил. На белках глаз проступили красные прожилки, взгляд помутнел и старик понял, что сыну плохо, болезнь опять берет свое.
– У самой плотины стоит на якоре корабль, – сказал Маккавей, почувствовав, что просохшая рубаха отлипает от плеч и ветерок слегка раздувает ее. – Матросы затягивают на палубе болты и опробывают мотор.
– Корабль? – взглянув на него, отец увидел в глазах Рыжеволосого нависшее над поречьем марево – плотное, как клочья сажи, летящие над спаленной стерней. – Придет время, будут здесь и корабли, но пока что как они могут плыть по каменистой стремнине?.. Может, это землеройная машина какая-нибудь?.. Я слышал, воду хотят отвести до самой Златии. Вероятно, затем и привезли сюда такую машину…
– Это корабль! – настойчиво повторил Маккавей, прислушиваясь к долетавшему издалека тарахтенью, которое подскакивало в воздухе, с металлическим звоном падало на камни речных отмелей и вновь взмывало над пепельно-серыми купами прибрежных ив. – Я видел винт. Он взрезает воду и выбрасывает песок. Только мачта еще не поднята. Высотой она будет, наверно, с тополь, что возле заводи…
– А может, и еще выше! – сказал учитель. – Я видел трехмачтовые океанские суда – мачты гладкие, как полированная слоновая кость. Сидишь и слушаешь, как играет в них ветер. А в пене за винтом резвятся дельфины…
Отец придумывал эти корабли, потому что не хотел перечить сыну, ему казалось, что рассказ про океанские суда развлечет Маккавея. В действительности же ему не довелось постранствовать, если не считать годы военной службы, но эти годы прошли на железнодорожных станциях и в пропахших конской упряжью армейских конюшнях. Море очень ненадолго предстало его глазам, когда однажды летом в каникулы (дело было еще до войны) он повез на экскурсию в Варну учеников последнего класса начальной школы… Он увидел море сквозь пыльное окно вагона – серое и неприветливое, так как день выдался пасмурный, – увидел его сквозь трубы закопченных зданий, и таким оно сохранилось в памяти на всю жизнь, потому что в те три дня, что он провел с учениками в Варне, он так и не успел полюбоваться морем – из-за случившейся беды. Один из мальчиков исчез – утром, когда собрались идти в приморский парк. Как сквозь землю провалился… Дети разглядывали в аквариуме рыб, толпились возле морских черепах, но этот впервые увиденный ими мир не радовал их, потому что мысли были заняты потерявшимся соучеником. Уж не убежал ли он в порт, не упал ли с волнолома? Долго ли утонуть неопытному мальчишке – помашет руками и ногами, побарахтается, наглотается воды и уйдет на дно…
– По вечерам на океанских кораблях играет оркестр. Знаешь, какая это красота, когда на мачтах загораются разноцветные лампочки, – продолжал фантазировать отец, никогда в жизни не видевший таких кораблей. – Одни пассажиры танцуют на палубе, другие прогуливаются и смотрят, как светятся на горизонте огоньки, третьи плавают в бассейне. На таких кораблях есть бассейны, мой мальчик. Поплаваешь, сядешь выпить кружечку пива и слышишь, как в пене за бортом плещутся дельфины.
Он рассказывал о кораблях, а сам вспоминал потерявшегося в Варне мальчишку.
Ночевали дети в классе, откуда парты вынесли в коридор, – они спали глубоким, спокойным сном, как спят только дети, а к нему сон не шел. Ненадолго забывшись, он видел мальчика лежащим на песке, у него голубоватое и прозрачное, как у медузы, тело, лицо облеплено водорослями… Учитель вставал, велел ученикам никуда без него не отлучаться и шел на поиски – небритый, измученный бессонной ночью, дома перед глазами раскачивались и, казалось, готовы были обрушиться и похоронить его под собой.
На третьи сутки, вечером, когда он в отчаянии возвращался из полиции, где ему сказали, что пропавшего мальчика все еще не нашли, он увидел, что тот сидит на ступеньках у входа в школу. Сидит (вероятно, не решается войти внутрь), разрезает кусок арбуза и сосредоточенно жует. Учитель так обрадовался, что у него подкосились ноги, но одновременно душу захлестнул гнев на негодника, испортившего всем эту долгожданную экскурсию. Он тихо подошел (мальчик даже не услышал) и замахнулся, чтобы влепить затрещину. Впервые в жизни ощутил он потребность кого-то ударить, накричать, ему казалось, что это подействует на него очищающе, как внезапно хлынувший ливень, смоет мутный осадок этих трех кошмарных дней и ночей. Замахнулся – и в тот же миг со стороны порта донеслась пальба. В небо взвились разноцветные ракеты, они взрывались, раскрывая чаши своих фантастических цветов. Освещенная этими огнями, его рука безвольно опустилась. Заиграл оркестр, и среди звуков множества инструментов отчетливо выделялись призывные звуки труб.
Начиналась «венецианская ночь».
– «Венецианские ночи»… я никогда не видел ничего прекраснее, – продолжал свой рассказ отец. – Вообрази себе наше поречье, все освещенное ракетами, в августе, когда начинается звездопад. Падают ракеты, падают звезды, переплетаются между собой, все это отражается в воде, и среди этих огней плывут корабли…
Рыжеволосый слушал, уставясь перед собой неподвижным взглядом, и видел белые, украшенные цветными флажками корабли. Они сверкали, осыпанные искрами, а когда ракеты гасли, исчезали из виду, в воздушном пространстве плыла только музыка, которая в отличие от корабельного винта не оставляет за собой следа, а растворяется, уходит в воду…
– Когда сюда приплывут корабли, здесь тоже устроят такую вот «венецианскую ночь». Мы поднимемся с тобой на палубу (ты наденешь белый костюм), займем самые лучшие места, возле оркестра, корабельный винт завертится, в воздух взлетят ракеты, и когда корабль пройдет далеко в глубь водохранилища, ты скажешь мне: «Папа, сейчас мы проплываем над школьным двором. Слышишь звонок?» «Слышу!» – отвечу я в шутку, но, прислушавшись, и впрямь услышу его трели – тихонькие, словно это зажужжала пчела, и ее голосок пробивается сквозь толщу воды. Потом я скажу тебе: «А сейчас мы плывем над нашим домом. Видишь шелковицу у сеновала и яблоню, на которую ты так любил забираться?» «Вижу! – ответишь ты. – Яблоня зацвела, а у нее в дупле высиживает птенцов синица…»
– Но ведь кошка сожрала синицу, папа?
– Да, мой мальчик, но когда ты вспоминаешь о ней, разве не видишь, как она по-прежнему порхает над дуплом?
– Вижу. У нее в клюве гусеница…
Блуждающий взгляд Рыжеволосого отыскивал синицу, но птица пряталась среди воспоминаний, точно в доме, где все в беспорядке раскидано. Синица пыталась упорхнуть в окно, но стекло преграждало ей дорогу, и она, трепеща, падала на ладонь Маккавею. А старик-отец не замечал синицы, его мысли были заняты иным. Он слышал, как поскрипывает под ним полка вагона, который везет детей после той злополучной экскурсии. Негодник, пропадавший трое суток, сказал, что случайно встретил на улице родного дядю и поехал с ним в Балчик, – думал побыть только до вечера, но двоюродные братья уговорили остаться переночевать, дядя попросил одного знакомого предупредить учителя, да тот вроде бы никого в школе не застал… Учитель слушал его ровный голос, прерываемый стуком колес на стыках рельсов, понимал, что мальчишка лжет, но уже не испытывал гнева. Все окончилось благополучно, тревога в душе затихла, и он смотрел в окно вагона на высокие крыши, над которыми через долгие промежутки продолжали рассыпаться искры фейерверка. Крыши на миг вспыхивали, приходили в движение, тени дымовых труб догоняли друг дружку, из их черноты стремительно, точно выпущенные из невидимого дула, взлетали в небо ослепительно белые чайки и секунду спустя таяли в ночи…
Морской праздник, на котором учитель так и не побывал, продолжался, но огни его становились все реже, он отступал все дальше и дальше, пока не исчез совсем – в беспредельности, в царстве непроглядной тьмы…
На другой день после разговора с сыном Христофор Михалушев поднялся на холм, откуда было видно плотину водохранилища. Возле еще не завершенной серой громады, перегородившей реку, среди окутанных клубами пыли самосвалов, от которых по всей долине шел гул и грохот, он увидел высокую, с трехэтажный дом, машину, действительно похожую на корабль. Машина эта была стального цвета и сверкала на солнце. Поскольку она находилась далеко и широкой своей частью была повернута к плотине, он мог рассмотреть только один ее борт. Узкие, в три ряда, оконца, над ними широкая палуба, по которой двигались люди в матросских тельняшках, что-то тянули – вероятно, закрепляли канатами мачту своего сухопутного корабля, как мысленно назвал учитель эту машину.
Корабль стоял на якоре в маленьком озерке, которое без труда переплывет самый неумелый пловец из здешней детворы, и, казалось, был захвачен в плен песками. Впрочем, это только казалось: внимательно приглядевшись, Христофор Михалушев заметил, что серый корпус машины подрагивает от гула моторов и медленно продвигается вперед, к холму, отдаленному от нее по меньшей мере на километр, что корабль шаг за шагом преодолевает это пространство, вгрызаясь в речное русло и выбрасывая плотную струю воды вперемешку с песком и камнями.
Необычным был этот корабль для поречья, где берега наполнялись глубокой, не проходимой вброд водой лишь во время больших весенних паводков, а в остальное время года, особенно летом, река мелела и можно было, даже не разуваясь, перейти по камням с одного берега на другой.
Железная махина с искрящейся на солнце мачтой, с широкой палубой, по которой по-прежнему двигались люди в тельняшках, с гудящими моторами говорила учителю о том, что близится конец пасторальному покою, все еще разлитому по котловине, несмотря на грохот самосвалов и громкие возгласы строителей. Близится конец и виноградникам на том берегу, где по весне сновали с опрыскивателями крестьяне и за каждым из них следовало по пятам синеватое облачко; близится конец железнодорожной насыпи, с которой уже сняли рельсы, но линия еще проглядывалась, сохранив светло-серый цвет щебенки там, где прежде лежали шпалы, – эти полосы исчезнувшей железной дороги чем-то напоминали полоски на тельняшках, которые мелькали сейчас на палубе.
Приближался час большой воды, нового пейзажа, к которому предстояло теперь привыкать: отраженная в водохранилище гора, зеркальное небо с короткими восходами и долгими летними закатами, безмятежно отсвечивающие в воде звезды, что лежат под веслами лодочника, и он, если вздумается, может проложить между ними свой извилистый путь. Предстояло привыкнуть к волнам, которые в ветреную погоду будут вздыматься – плотные, темные, с пенистыми краями – и с грохотом разбиваться о скаты берегов; привыкнуть к крикам чаек, неведомыми путями проведавших про новый водоем и прилетевших сюда от самого моря, – глаз будет любоваться их полетом, особенно в ненастье, когда чайки, на темном фоне неба кажутся ослепительно белыми; привыкнуть к тому, что в тихую погоду, когда вода прозрачна, там, где помельче, проглядывает дно с еще сохранившимися проселками, еще угадываются колеи от телег. Водную гладь будут бороздить лодки…