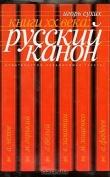Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Лесной Царь знал наперечет все хитрости и уловки браконьеров. Одни – обычно это была ребятня – толкут волчьи ягоды и травят ими рыбу. Другие запихают в бутылку из-под лимонада комки негашеной извести, зальют водой и – в реку. Бутылки лопались, и рыба – чаще всего мелочь, лишь изредка попадался клень покрупнее – судорожно шевелила жабрами, перевертывалась на спину и цепенела. Наиболее жестокие вооружались взрывчаткой, украденной на каменоломне, и бикфордовым шнуром. Заряд, который расщеплял скалы и вздымал в воздух фонтаны земли, в воде обладал меньшей силой. И отзвук был не таким резким и оглушительным, как в каменистых проломах, он тонул в воде и напоминал хриплый кашель. Однако от этого негромкого кашля речные берега оползали, словно срезанные ножом, а высоченные деревья качались так, будто какие-то невидимые духи тянули их в глубь земли.
Лесной Царь понял: кто-то бросил взрывчатку в заводе что за железнодорожной станцией. И решительно зашагал назад к реке через такую вязкую пашню, что даже лопнули шнурки на ботинках. Он шел прямиком через мокрую кукурузу, обвитую плетями тыквы, которые цеплялись за ноги, и спотыкался, волоча за собой тяжелые, как ядра, тыквы.
Выйдя на открытое пространство, к отмелям, он увидел троих людей, бежавших к станции. Видимо, браконьеры издали заметили его и, наскоро похватав оглушенных взрывом рыб, распиравших закинутые на спину мешки, скрылись за почерневшими стеблями подсолнухов, густо оплетенных сеткой дождя.
Лесной Царь постоял у заводи, посмотрел на дохлых рыб, покачивающихся над камнями брода и у корней подмытых деревьев, привычно потянулся за карабином, но нащупал лишь край намокших бриджей и, обругав себя, что не захватил оружия (не то он бы этим нарушителям показал!), снова зашагал в село, где хоронили погибшего летчика.
Вымокший, грязный и расстроенный, он пришел, когда церемония уже закончилась. Народ расходился. Маячили зонты, покачивались накинутые на голову пальто, кое-кто шел с обнаженной головой, и дождь, слепив волосы, стекал по лицам.
Такое скопление народа Лесной Царь видел только на ярмарке в Берковице, но там стоял веселый гомон, в палатках торговали пивом, кружились увешанные разноцветными лампочками карусели, там был цирк с огромнющей змеей – боа и карликом-клоуном, были лотки, где продавали всевозможную дребедень. А сейчас люди молча тянулись на станцию, откуда они разъедутся по домам, унося с собой свою боль. Медленно, как тающий дым уходящего поезда, будет она от них уходить, и в просветленной душе у каждого останется ощущение неба и возглас птицы, – а это значит, что осталась жить память о человеке, сгоревшем в бескрайних пространствах вселенной…
Ему захотелось подойти к могиле, постоять минуту-другую над раскисшим от дождя холмиком, сказать летчику последнее «Прости», но стало неудобно: все уже уходят, а он будет один бродить по кладбищу. Мол, если погибший тебе дорог, так приходил бы вовремя…
И, смешавшись с толпой, он зашагал на станцию. Зал ожидания, перрон, сухое пространство у стен соседних зданий – все было забито народом. Сможет ли поезд увезти так много людей?
Лесной Царь стоял рядом с женщиной, торговавшей воздушными шарами. Много лет назад он видел ее на ярмарке в Берковице и сейчас подивился, зачем она поставила свой лоток здесь, на вокзале, где люди вернулись с похорон летчика и ждут поезда. Низкорослая, крепко сбитая бабенка, чьи невероятно толстые бедра расстегнули платье выше колен, показывая розовую комбинацию, оглядывала толпившихся людей, в особенности тех, кто с детьми, и низким, проеденным пьянством или простудой голосом подзывала покупателей…
Лесному Царю было неприятно это. Нашла место, куда притащить свой лоток!.. Он всматривался вдаль, но сквозь мутную завесу дождя не мог различить огней идущего поезда. «Негодный я человек, – впервые в жизни подумалось ему. – Разве так мне следовало поступить с этим парнем, даже в его смертный час…»
Поезд запаздывал.
Во всех домах засветились окна. Лесной Царь смотрел на их отражения в дорожных лужах, слушал, как шипит дождь, пытаясь погасить этот свет, и перед глазами, замутненными неожиданной влагой, вновь встали вырубки на другом берегу Огосты. Он увидел костер перед шалашом, и над голубоватым дымком и пеплом лозин – тонкие, красивые мальчишеские руки – отсветы огня золотят их, а небо убаюкивает флейтами своих созвездий…
Зарядили проливные дожди. Небо плотно сомкнулось, и две недели ни одному солнечному лучу не удавалось пробиться сквозь тучи. Вода плотными косыми струями обрушивалась на землю с хмурой глухой выси. Даже ветер оказался не в силах разорвать эти водяные завесы, он лишь раскачивал их над поречьем, и они сшибались с глухим звоном. Раскисшая земля пахла гнилью. Хлеба полегли и почернели. По ночам река грозно гудела, разрывала запруды, подмывала прибрежные ивы, и покалеченные ветви глухо трещали, когда разбушевавшаяся стихия затягивала их в подводные омуты.
Дни и ночи словно бы слились воедино… Их различали только по звукам: днем даже самый сильный шум звучал глуше – быть может, его впитывала в себя серая сырость холмов; зато ночью все громыхало в полную мощь – непереносимо гудела река, подмытые деревья ломались и так трещали, будто над рекой палили из орудий, уханье сов в мокром небе напоминало голоса утопленников… Таинственность ночей еще больше усиливала эти ощущения – из-за снов, из-за чувства беспомощности перед мрачной, разъярившейся вселенной, из-за поступи дождя за стеной, похожей на крадущиеся шаги бесприютной души человеческой…
Стали поговаривать о всяческих бедах и напастях: о смытых полях и огородах, снесенных мостах, затонувших стадах.
В домик, где поселились Христофор Михалушев и его больной сын, заглядывали иногда по дороге в город жители горных селений. Заглядывали проведать учителя, которого знало все поречье, да погреться у огня (промокшая одежда через минуту начинала дымиться и пахнуть паленым), рассказывая о том, что видели и слышали в дни и ночи потопа.
Их рассказы, в которых была немалая доля вымысла, – каждый добавлял к увиденному и услышанному по щепотке соли – не особенно удивляли учителя, много видевшего на своем веку, но приковывали к себе внимание его сына; сидя у пылающего очага, отблески огня которого плясали на загрубелых ладонях заглянувших ненадолго путников (большинство из них работало на чипровских рудниках), он с затаенным дыханием слушал их рассказы, пробуждавшие странные видения в его мозгу. Одни рассказывали, что вода снесла недостроенную насыпь возле плотины – там, где эта насыпь примыкает к холму, – и город якобы затопило до самого вокзала. Другие говорили, что прорвало запруду во Врачанских горах. Там находились рудники, и свинцовые отстой, которые эта запруда удерживала (по слухам – тысячи тонн загрязненной воды), хлынули в ущелье и помчались к поречью Ботуни, сметая все на своем пути. Это случилось в праздник, в самый полдень. Ненадолго выглянуло солнце. Повсюду в селах заиграли на улицах музыканты. Народ вышел прогуляться – отцы, матери, ребятишки. Никто не подозревал, что не пройдет и десяти минут, как свинцовые потоки зальют улицы и подхватят все, что попадется на пути, – медные трубы, которые еще долго будут, хрипя, метаться в серой лаве, перевернутые детские коляски…
Все рассказы о снесенных мостах и вырванных с корнем деревьях бледнели перед тем, что Михалушевы услыхали сейчас.
Один из гостей вертел ручку своего транзистора, и сидевшие у огня старались сквозь потрескивание бакелитового ящичка расслышать голос, который расскажет им о том, что произошло. Они ожидали, что прозвучит траурная музыка («Двести человек погибло!» – говорил тот, в чьих руках чернел транзистор), но радиостанции, видимо, не подозревали о том, что волнует этих людей: один бодрый голос сменял другой, а о беде, случившейся всего в полусотне километров отсюда, никто ни словом не обмолвился…
Несколько дней светило солнце, и вновь запахло летом. Опять запели жаворонки, высохли лужи, река вернулась в свои берега – тихая и посветлевшая, прозрачнейшем раньше. Только торчавшие на отмелях облепленные тиной корни деревьев да пригнувшиеся к земле хлеба напоминали о миновавшем бедствии.
Христофор Михалушев поднялся на крышу – сменить сломанные черепицы – и сверху увидел Лесного Царя. Лесник шел в их сторону по тропинке вдоль реки, временами он останавливался и разглядывал обрушившиеся в дни наводнения берега, придерживая локтем карабин, – дуло цеплялось за ветки и мешало идти, – он неторопливо приближался к дому учителя. Подойдя поближе, он приложил ладонь козырьком ко лбу, и поднял лицо к своему давнему знакомцу – поздороваться. Сквозь толстые стекла очков учитель, стоявший на крыше, показался ему вдруг необычайно высоким.
– Я уж думал, тебя рекой унесло, – усмехнулся Лесной Царь, и кокарда на его фуражке сверкнула в лучах утреннего солнца. – А ты, точно аист, расхаживаешь по крыше.
– Да, если бы ливни не прекратились и Огоста продолжала подмывать берега, ты бы увидел мои штаны и рубаху где-нибудь на кусте или в вымоине, – ответил учитель, спускаясь по стремянке к гостю.
Они курили, глядя на излучину за бродом. Река весело поблескивала сквозь тонкий дымок сигарет, и от нее веяло покоем, какой может навевать лишь земля после миновавшей беды.
– Мы тут с Маккавеем живем как выкорчеванные ивы на отмелях. Река огибает нас и бежит дальше. Хорошо, что ты навещаешь, да иной раз заглянут жители верхних сел, хоть словечком с кем перебросишься, – сказал учитель и поднес к сигарете уголек: отсыревший табак гаснул. – Говорят, во Врачанских горах прорвало запруду и много людей погибло. Ничего такого не слышал?
– Да, говорят, было такое… – произнес Лесной Царь так невозмутимо, словно речь шла не о человеческих жертвах, а о вырванном наводнением дереве. – Слухи самые разные ходят. Один мой корешок, лесник из поречья Ботуни, сказал, будто сам видел, как вылавливали утопленников из-под мостов. Совершенно голых. Свинцовая вода, мол, разъела одежду. А где-то из трясины выудили инструменты утопшего деревенского оркестра: басы, трубы – все грязью забито. Я его спрашиваю: «Газеты читаешь?» – «Читаю», – говорит. «Там что написано?» – «Ливневые дожди прорвали в горах небольшую плотину. Наш корреспондент, побывавший на месте происшествия, сообщает, что человеческих жертв нет. Жители заняты уборкой ячменя и редиса…» – «Написано так или не написано?» – «Может, и написано, – упирается он, – а я своими глазами видел, как вытаскивали из грязи утопших людей…» – «Ну и чего же ты хочешь? – спрашиваю я у него. – Чтоб местная газета целую страницу отвела этому делу, да еще, может, фото напечатала, да? Корреспондент ихний, который на месте побывал, он, брат, поумней нас с тобой. Для чего сеять панику? Кому это на пользу?»
– Сказать правду и сеять панику – вещи разные, – перебил Христофор Михалушев, понимая, что его слова прозвучат для ушей Лесного Царя так же неубедительно, как и возражения лесника из Ботуни. – Слухи-то ходят.
– Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай… Лесник этот, ботуньский, говорит мне: «Чего ты мне газету в нос тычешь, когда я своими глазами все видел!» – «Ну, допустим, видел, но одно дело видеть, а другое – осознать, что у тебя перед глазами было. Скажем, побывал там человек – может, и видел что, а может, все это ему только помстилось… В газету не для тех пишут, кто видел, газета – она для всех. Что ж, по-твоему, нагонять страх на людей, которые спокойно занимаются своим делом?.. Лично я никаким слухам не верю. Для меня только то верно, что написано черным по белому. Те, кто пишет, получше нас с тобой разбираются…»
– И по радио ничего не сообщили, – снова перебил его учитель. – К нам заходил на днях один горец с транзистором, но мы так ничего и не услыхали про то, что стряслось…
– А что ты хотел услыхать? Траурные марши? Трехдневный траур в самую страду? Никто в поле не выходит, техника простаивает, а мы сидим, молчим и думу думаем – так, что ли?.. Ничего нет хуже похоронной музыки: она придавливает человека. Будь самый что ни на есть боевитый народ, а поиграй ему несколько недель кряду похоронную музыку, и он раскиснет, а тогда можешь преспокойно одной-двумя дивизиями захватить его территорию… Помню, служил я в Ломском кавалерийском полку, ох, как нас военная музыка распаляла… Только, значит, заиграет оркестр походный марш, кони сразу уши торчком, мы трогаем рысью, а рука уже сама тянется к сабле рубить направо и налево.
– В кавалерии дело другое, – учитель улыбнулся, увидев, как воинственно взмахивает рукой лесник, словно сейчас выхватит саблю из ножен.
– Почему другое? А ты представь, что оркестр заиграет траурный марш. У коней ноги заплетаются, они тащатся еле-еле, точно клячи дохлые. А вражеская кавалерия – вон она, скачет, к примеру, от сторожки обходчика. Пока мы цепью рассыплемся, пока очухаемся, всех нас порубят… Потому я говорю моему дружку из Ботуни: «Правильно в газете написано. Раскисшему человеку грош цена. А вместо прорванной запруды мы другую поставим. Еще лучше прежней!..»
Лесной Царь пошарил рукой в карманах вязаной фуфайки, торжественно выдернул из пачки сигарету (это означало, что разговор окончен), нагнулся к огню прикурить и зашагал вдоль реки дальше, а учитель опять поднялся по шаткой стремянке на крышу – продолжать свою работу.
Под вечер появилась лиса. Христофор Михалушев заметил ее на тропинке возле водоразборной колонки. Она была тощая, с худыми, втянутыми боками и принюхивающейся узкой мордой. Рыжий хвост волочился по земле.
Люди в районе снесенного села теперь бывали редко (лишь Лесной Царь время от времени проходил тут со своим карабином), и лиса привыкла к шелесту деревьев и травы, к голосам перепелов и филинов, она не боялась их и преспокойно разгуливала по усадьбам, полям и речным бродам, где иногда задерживалась, подстерегая рыбу или пробегавшего по песку суслика. Не спугнул ее своими запахами и дым домика, где жили Михалушевы. Она спокойно направилась туда, будто знала, что у обитателей этого дома нет оружия и они ничего ей не сделают, разве что подымут крик или швырнут вслед камнем.
Стоя у окна, Христофор Михалушев и Маккавей смотрели, как бродит лисица вокруг дома, заглядывает под навес, тычется мордой в ящики, где хранятся сухие связки репчатого лука, потом, подняв глаза к слуховому окну, долго принюхивается: почуяла, верно, что на чердаке лежит пропахшая рыбой сеть, еще не обнаруженная всевидящим оком Лесного Царя… Лиса двигалась крадучись и в спустившихся сумерках напоминала тень человека, который бродит рядом, тело его прозрачно, и сквозь него видны прибрежные ивы, лиловые от сумерек пески и еле различимые округлые очертания холмов. Таинственный человек бродил поблизости, а Христофор Михалушев не видел его – он видел лишь его тень (она продолжала кружить возле дома), и глаза этого человека пронзали его хитрым, ощупывающим лицо и душу взглядом лисьих глаз…
Сначала, когда Христофор впервые увидел лису (ему было интересно наблюдать за ней, он долго смеялся, вспомнив рассказ Лесного Царя о блохах), у него мелькнула мысль, что ее приманили в эти края фазаны. Итальянцы перебили их сколько смогли, но все же кое-что осталось и на ее долю, нет-нет да и мелькнет за кустом царственное багряное крыло, перья которого могли бы захрустеть на зубах длиннохвостой скиталицы.
Он думал, что лису привлекают фазаны, но ошибся.
Однажды, проходя по снесенному селу, учитель заметил лисицу в одном из дворов. Там не было ничего для нее соблазнительного. В траве торчали камни фундамента да желтело несколько тюльпанов. Лиса стояла посреди двора и принюхивалась, задрав морду вверх – туда, где прежде были окна дома. Что вспомнилось ей – жившие тут люди или песни петухов на крыше? Следя за ее взглядом, подмечая в нем лукавые искорки, учитель подумал, что замершая посреди двора лисица вспоминает, о чем говорили между собой эти люди, о чем размышляли, какие секреты поверяли друг другу.
Однажды он увидел, как лисица снует по кладбищу. Трава скрывала ее – выглядывал лишь огненный кончик хвоста. Лиса обнюхивала кусты, замшелые надгробные плиты, глиняные площадки, в которые уже бог весть сколько лет никто не клал уголька. Уж не задумала ли она мышковать в этом уголке запустения? Наблюдая за тем, как сосредоточенно вглядывается она в траву, учитель не мог отделаться от неотвязной мысли, что лиса ищет здесь, среди чертополоха, под корнями деревьев, невысказанные тайны давно ушедших из жизни людей, чтобы потом нашептать их тому, кому все полагается знать.
Эта мысль засела в мозгу Христофора Михалушева.
Редко видясь с людьми и научившись понимать язык деревьев и птиц, он, еще недавно мнивший себя совершенно свободным в заброшенном домике у реки, теперь понял, что ошибался. Да, равнина дарила ему свое приволье, солнце и облака тоже благоволили к нему, но он потерял ощущение свободы, в его душе оставался высокий порог, который ему пока не удалось перешагнуть. В детстве у него были дни и часы полной свободы, но тогда он не умел осознать их и оценить, и они исчезли безвозвратно. Все остальные годы жизни были полны ответственности перед кем-то или чем-то. Совесть не позволяла ему до последнего дня покинуть мать, чья больная душа бродила среди кошмаров, как деревенская скотина бродит в кустах ежевики на перелогах; он не мог стереть в памяти образы детей, которых учил на протяжении четырех десятков лет, не мог не принимать близко к сердцу заботы и боль этих теперь уже немолодых людей, что давно распростились с ним и, может быть, забыли о его существовании; у него не хватало сил на время расстаться с сыном, отправить его туда, куда помещают душевнобольных, а самому собрать свои пожитки и поселиться в доме престарелых… Не хватало сил…
В минуты подведения итогов учитель мог бы разворошить в своей душе все, о чем мы упомянули сейчас, и воскликнуть: «Сгиньте! Я хочу быть свободным!» Но тогда это был бы не он, а другой человек, от которого он сам бы отвернулся с презрением. И, отворачиваясь, увидал бы лисицу…
Да, лисица была здесь, она все еще кружила возле дома: обнюхивала стены и прислушивалась, словно хотела различить голоса тех, кто некогда жил тут.
«Раздобуду ружье и в один прекрасный день пальну в этого мерзкого зверя…» – подумал учитель и кашлянул, чтобы отогнать лису. Но она не удрала, а подошла к окну, встала на задние лапы и заглянула в комнату.
Их взгляды встретились – и на Христофора Михалушева дохнуло холодом лисьих глаз…
Однажды днем приехал на своей коляске Муни. Привез сосновые доски, и они вместе перетаскали их под навес. Назавтра Муни приехал опять со связкой планок и досками в человеческий рост высотой. Сияющий Маккавей выбежал ему навстречу, что-то шепнул на ухо, чтобы не расслышал отец, и сложил все под навес.
Как-то под вечер трехколесная коляска прикатила снова. Гость побыл недолго: оставил на траве ящичек, в котором было два рубанка, тесло, шурупы и гвозди, заглянул под навес, где на грубо сколоченных козлах лежали привезенные им доски. Учитель как бы между прочим спросил, что это они с Маккавеем задумали, но Муни только улыбнулся в ответ и, заговорщически сверкнув глазами, дружески похлопал учителя по плечу: дескать, потерпи – узнаешь, потом, посвистывая, устроился поудобнее на протертом сиденье своей коляски и укатил.
Было ясно: у Маккавея что-то на уме, и он хочет сохранить это в секрете от отца. Он весело расхаживал по двору, рыжая шевелюра сияла, словно озаренная огнем затаенных мыслей, разглядывал доски и что-то чертил на листке из школьной тетради.
Христофор заметил, как переменились у сына и походка, и речь. Теперь он ступал уверенно, спокойно. В словах сквозили легкость, прозрачность, словно Рыжеволосый смыл с души долгие годы копившуюся пыль. Он стал спокойнее спать, хотя, преследуемый сновидениями, по-прежнему вскрикивал ночью и бредил, но в невнятном бормотании был уже не страх, а угроза всему, чему он столько времени покорялся, перед чем недвижно, стиснув зубы, застывал – так в детстве, мальчишкой, он недвижно стоял перед кидавшимися на него собаками, а те, разглядев в его глазах не страх, а твердость, молча пятились и брели прочь.
Маккавей не смог долго хранить свою тайну. Однажды вечером, когда его вилка весело звякала о тарелку, он признался отцу, что собрался строить лодку.
– Мы проплывем на ней по всему поречью, – Маккавей смотрел на отца, и в глазах его мерцал огонек лампы, как еле различимый далекий парус, возникший в подтверждение его слов. – Я повезу тебя к перовским мельницам, мы проплывем над руслом Уручского ручья, куда ты много лет назад водил меня ловить раков, – помнишь, как один ущипнул меня за палец, но я не заплакал, уже был большой.
– Помню, – сказал отец. – По вечерам раки выползают, пасутся возле подводных пещер. Я, бывало, набирал их целыми мешками. Уручский ручей – это их вотчина.
– В ветреный день поставим паруса… – продолжал Маккавей. – Как это, наверно, прекрасно – держать в руках канаты и ощущать, что лодка под тобой подпрыгивает, будто хочет оторваться от воды…
– Я никогда еще не садился в лодку, – сказал отец, – но я прочел множество книг о путешествиях и по их описаниям знаю, какое волнение при этом испытываешь. Парус, точно птичье крыло, тянет вдаль и лодку, и твои мысли…
– К той поре, когда все поречье затопят и волны начнут подтачивать карстовый холм (будет, наверно, слышно, как гудят подземные пещеры), я уже стану опытным моряком, – улыбаясь, проговорил Маккавей.
– Научусь управлять и веслами и парусом. Вдруг ночью мы услышим, как рушится холм под напором воды (то-то будет гула и треска!), увидим, как бешено мчится вода к промоинам, как она долбит берег, я крикну тебе: «Отец, бери все что можешь и скорей в лодку, близится потоп…»
– Что можно взять в такую минуту? Только бы душу спасти… Когда начался всемирный потоп, библейский Ной собрал в свой ковчег всякой твари по паре, но у нас с тобой не будет на это времени, да и в лодке не хватит места, – улыбнулся учитель, и уголки рта дрогнули от тревоги; он понял, что ошибался, думая, будто мысль о лодке вселила покой в душу сына. Глаза Маккавея, вглядываясь в склоны холма, наверно, искали под гладкими плешинами ту пока невидимую трещину, в которую хлынет вода, вонзится, как гигантская кирка; он видел все ее изгибы так же явственно и безошибочно, как нейрохирург – швы черепа под самой пышной шевелюрой.
– Первым делом заберу тебя, потом поплыву в город, пока его не снесло водой, – говорил Маккавей, не отводя пристального взгляда от горизонта. Учитель понимал, что контуры облаков и летящих птиц начертали там апокалипсические картины, меж которых блуждает мысль сына. – Я крикну Муни: «Бросай свою коляску, скорей беги сюда!» Он не поймет, зачем я зову его, скажет: «Привяжи лодку, пойдем смотреть телевизор». – «Какой еще телевизор? – крикну я. – Вода прибывает!» Он оглянется и не поверит своим глазам: холм расколот, в пролом хлещет вода и так дымится, будто это не вода, а раскаленная лава. «Кидай костыли в лодку!» – крикну я и втащу его через борт. Вода будет пытаться догнать нас, но парус надует ветром, и мы умчимся далеко-далеко, а позади нас волны будут биться о стены домов, мы услышим, как зазвенит стекло: это вода разбивает окна и затопляет комнаты…
Отец слушал рассказ Маккавея и, видя, как сосредоточен его взгляд, как наползает на зрачки тень, отчего взгляд становится померкшим и блуждающим, словно у слепца, понимал, что сын смотрит сейчас глазами своей души.
Старик пытался представить себе, как отражается происходящее в душе сына, и это отражение виделось ему увеличенным и искаженным, как образы в кривых зеркалах на ярмарках… Должно быть, Маккавею мерещилось, как первыми пытаются выплыть из окон постели. Ненадолго задерживаются на волнах – точно плоты, – но тюфяки быстро набухают и тонут в водоворотах. На поверхности остаются только подушки, легкие благодаря пуху и людским сновидениям, и на этих подушках, как на спасительном островке, оробело стоят куры… Прибывающая вода сметает дощатые заборы, ставит их торчком, как лестницы, устремленные к небу, но никто не карабкается по ним, потому что они ведут в пустоту низко нависших туч. Вода сметает автомобили, под которыми обычно лежали, подкручивая болты, их владельцы; разбивает витрины ювелирного магазина и выносит оттуда золотые ожерелья, какими – учитель видел – украшают себя городские богачки. Поток мчится к вокзалу, куда только что прибыл поезд, врывается в вагоны и выносит оттуда чемоданы, узлы, зонтики – те, раскрывшись, повисают над волнами, а паровоз шипит, как исполинская головешка, потом гаснет и навсегда исчезает под разбушевавшейся водой.
И над охваченным паникой городом, над воплями людей, устремившихся в поисках спасения к соседнему холму, держа на руках перепуганных, мертвенно-бледных детей; над тополями, которые гнутся под напором взбесившейся стихии, надо всем, что может быть выкорчевано, разрушено и унесено, плывет фуражка Лесного Царя. Она не переворачивается, хотя волны швыряют ее и колотят, а мчится, мерно подскакивая над гребешками пены. Вымытая брызгами кокарда светится, начищенный касторовым маслом козырек тоже сверкает, а верх, туго обтянутый зеленым сукном, похож на направляющийся к другому берегу паром…
Христофор Михалушев, воссоздавая в своем мозгу эти видения сына, ничуть не удивился бы, увидев, что на козырьке фуражки сидит сам Лесной Царь, спустив ноги в воду, и шевелит пальцами, чтобы отмыть засохшую глину, а на коленях у него карабин – ведь на том берегу тоже есть нарушители закона и он обязан туда заглянуть…
Христофор Михалушев рисовал себе все это бледней или ярче – насколько позволяло воображение, разбуженное блуждающим взглядом Маккавея, но он был убежден, что мальчик, как он любил называть сына, видит все в мельчайших подробностях. Даже то, что ему, Христофору, представляется черно-белым, в глазах сына переливается всеми цветами радуги, и над всей этой пестротой спокойных и драматических красок господствуют два цвета: мутно-синий – цвет разбушевавшейся воды и золотисто-белый – раздуваемых ветром парусов, которые мчат лодку под грохот рушащихся домов к противоположному берегу.
Старый учитель пытался объяснить себе, откуда долетает то эхо, которое с мучительной силой мечется в душе Маккавея, как метался, он помнил, в детстве его собственный голос в отверстии пещеры возле Искыра, облепленной сонными летучими мышами… Причиной всему, конечно, было болезненное воображение Маккавея, ведь мальчик никогда не видел, как прорывает плотину, даже страшного разлива Огосты в 1942 году он тоже не помнит, ему тогда и годика не было. В какую ночь наблюдений и переживаний пустили корни эти увиденные наяву сны, подобно упругому, крепкому дереву, ветки которого с трудом умещаются в мозгу Маккавея, а листва сплющивается, теснимая мыслями?
Учителю трудно было ответить на эти вопросы.
В отличие от других людей, которые опрыскивали виноградники, окучивали картофель, а по вечерам медленно потягивали отдающую старым бочонком ракию, Маккавей не умел очищать душу от скопившихся впечатлений и чувств. Он мог подолгу страдать от жалости к убитой птице, со страхом и восторгом наблюдать за вспышками молний в ночном небе, с мальчишеской мечтательностью смотреть, как рассеивается белый след умчавшихся самолетов, он с криком вскакивал во сне, увлекаемый водоворотом на дно заводи у железнодорожного моста, – его чувства были болезненно обострены. Но как бы ни были иногда драматичны все эти переживания, вряд ли они могли объяснить мрачные видения Маккавея – холм, не выдержавший напора воды, бушующие водовороты в его пещерах, город, гибнущий в гуле и грохоте волн. Возможно, в душе сына наслоились тревоги человечества, которые вот уже столько лет витают в воздухе: тени людей, погибших при атомном взрыве над Хиросимой и Нагасаки, стронциевая пыль, осевшая на все низины и возвышенности земли, взвихренная автомобилями пыль, что оседает на листву и плоды фруктовых деревьев в исчезнувшем селе… Он помнил, как потрясенно сын рассматривал снимок, где была запечатлена Хиросима: на стене тень сгоревшего человека – плотная, будто нарисованная углем, а от самого человека не осталось и горстки пепла…
Этот серый пласт тревог и страха, успев затвердеть, лежит в душе человека, но мысли без устали, как кроты, подтачивают его, ищут семя гибели, чтобы перегрызть его ростки. Под их напором затвердевшая корка трескается. Пласт, казалось бы, тонок, но под ним зияют пропасти, чернеют отверстия пещер… Остается лишь хлынуть воде – и вот она уже здесь: это тот самый водоворот, что унес песок из-под ног тонущего мальчика. Жалкий, небольшой омут, но глаза страха делают его огромным. Вода в подводной яме гудит (это гул в пещерах рассеченного холма), и до последних городских зданий, которые будут снесены ее напором (так рабочие сносили его родной дом), осталось всего несколько шагов…
Должно быть, у больной души не пять органов чувств, а шесть, думал Христофор Михалушев. Она обладает даром предчувствовать те сигналы, к которым мы остаемся глухи. И нужно лечить ее, чтобы избавить от трагедий, сделать нормальной, то есть практичной, рассудительной и нередко бесчувственной…
Так старый учитель пытался объяснить себе некоторые странности сына: он сознавал, что лишь прикасается к истине, ибо проникнуть в душу человеческую – дело сложное, оно требует не только житейского опыта, но и умения выбраться из сложных ее лабиринтов. И хотя он сорок лет учил детей, а значит, имел дело с человеческой душой, он не считал, что обладает умением опытного психолога – ведь у детей все проще, яснее, их поступки легче понять и объяснить…
А Маккавей, не замечая озабоченности отца, сновал под навесом, негромко что-то насвистывая, – положит доску на самодельный верстак и примется строгать… Стружки сыпались к его ногам, ветерок играл ими, сплетая их спирали и колечки. Звуки рубанка напоминали свист кос на ближних склонах в июне, и Маккавей, слушая их, мысленно видел длинные, шевелящиеся валки скошенной травы, из которых зелеными облачками вылетают кузнечики.
Оструганную доску он прислонял к стене, и вот уже вторая сыпала стружки ему под ноги. Весь дом наполнялся запахом сырой древесины. Учитель улыбался, сосновый дух напоминал ему о том, как в двадцать шестом году (эта дата была выложена мастерами на дымовой трубе) он строил свой дом. Точно так же пахли стропила на крыше, свежий запах древесины заполнял комнаты, еще без окон и дверей, – этот запах был первым обитателем нового дома.