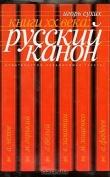Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Учитель медленно, задыхаясь, поднимался по склону, ученики чинно следовали за ним. Минут десять шли они так, но когда впереди замелькали бабочки, дети ринулись ловить их по усеянным тысячелистником полянам, позабыв об учителе, который то и дело останавливался, вытирал вспотевший лоб и опять брел вслед за мальчишескими возгласами… Учитель не сердился на детей, что они забыли о нем. Их манил простор, пьянили птичьи голоса, в них бурлила кровь неведомых предчувствий, которые у него, старика, были уже давно позади… Ученики бросили его – их было двенадцать, ровно столько, сколько учеников у Спасителя, – и глядя, как цветущая скумпия окружает розовым ореолом стриженые мальчишечьи головы, он молча улыбался мелькнувшему в голове сравнению. Среди них были Петр и Павел, Марк и Матвей. Иуды не было. Но, может, он прячется под другим именем?.. Глядя на учеников, уже подымавшихся на холм, где росли крупные, с детский кулак, пионы, слушая их возбужденные голоса и облетавшее полянки эхо, учитель пытался открыть меж ними того, кто в тяжкий час приблизится к нему с предательским поцелуем… Странно, отчего подобные мысли волновали его именно сейчас, в майское утро, когда колосья пшеницы отряхивают росу, и все небо, от края до края, кажется прозрачным синим покрывалом; а он идет с двенадцатью учениками не в Гефсиманский сад, а к полянам, поросшим пионами, которые украсят старое здание школы в день ее последнего праздника… Все те годы, что он провел в классах сельской школы, – а целых сорок лет его жизни прошло там – он старался ваять из мягкой глины, еще не сформировавшегося детского сознания добрые свойства, которые возвысили бы их души и провели незамутненными через водовороты жизни. Его пальцы мяли эту податливую глину, но в ней прощупывались твердые грани камешков, ломкие гнилые щепки и колючки, и он пытался извлечь их, не подозревая того, что они остаются в самой сердцевине и через какое-то время там появятся трещины, а в трещины заберется либо змея, либо червь… К старости он понял, что рука его была неопытна и легковерна, что ему недостало силы одолеть зло – и в тех, кого он учил, и в себе самом.
Мальчишки нарвали огромные охапки цветов. Учитель взял один букет, прижал к груди так, как прижимал своего больного сына в тот далекий день, когда нес его в город к врачу (шесть километров пешком, по занесенной снегом равнине), вдохнул горьковатый запах пионов, к которому примешивался аромат скумпии, и пошел впереди детей; оборачиваясь, он видел только их бегущие ноги, по колено мокрые от росы, все остальное вокруг было алым сиянием, которое покачивалось – облачко возле облачка – и неотступно плыло за ним вниз по склону…
Он отутюжил свой серый костюм, который надевал только по праздникам, повязал синий галстук, купленный еще в год окончания педагогического училища в Шумене, и, ощутив морщинистой кожей жесткий воротничок новой, впервые надетой рубашки, направился на школьный двор. Дети давно сплели из пионов гирлянду и повесили над главным входом. В классах пока никого не было. Слышалось только жужжание пчел, ползающих по распустившимся цветкам. Классы пахли натертыми полами и увядшими листьями. Запах заставлял учителя мысленно возвращаться в минувшие годы, когда в этот торжественный день его встречало здесь такое же благоухание майского утра и праздника, но к этому благоуханию присоединялся веселый рабочий гомон, щелканье аистов и окрики пастухов, гнавших стада на пастбища. Сейчас классы были безлюдны, и за распахнутыми дверями гулко и одиноко отдавались шаги учителя. Пыль разрушенных домов, устилавшая пол, хранила следы остроносых подошв его башмаков, она кружилась в снопе света, проникавшем в окно, серым пологом лежала на черепе и ребрах скелета в учительской (когда-то озорники мальчишки всовывали в его щербатые челюсти – вместо сигареты – кусок мела), на карте полушарий, которая уже не один десяток лет висит на одном и том же месте, сквозь ребра скелета проглядывают безбрежные просторы Атлантического океана…
Учитель приложил скрипку к лацкану пиджака, ощутил холодок подбородника, провел смычком по струнам. Струны ослабли, в их звуках старый учитель ощутил тот же запах пыльных стен и прогнивших балок, какой уже несколько месяцев заполнял гибнущее село…
Сейчас, когда я пишу эти строки, мысль невольно возвращает меня к берегам Бретани, и я вижу вдали Атлантический океан. В пустынные пространства этой земли, где сквозь серый туман проступают огоньки цветущих вдоль дороги кустов, меня привела надежда отыскать след лейтенанта-француза, спасшего от гибели болгарских военнопленных, заточенных на один из греческих островов в конце первой мировой войны. Я тогда писал свой роман «Билет в Бретань»… Волны прилива разбивались о скалы возле Сен-Мало. Старенькая гостиница, прилепившаяся к крепостной стене, дрожала от их ударов, стоя у залитого океанской пеной окна, я пытался различить огонек маяка или запоздалого парохода, но видел лишь прорезавшие тьму белые гребешки волн, а эхо океана раскалывалось у подножия крепостной стены так громко и раскатисто, как, помню, у нас дома, на чердаке, гремели сыпавшиеся из мешков грецкие орехи…
Отчего мне приходят сейчас на память равнины Бретани, когда перед глазами – здание старой деревенской школы, когда я вдыхаю запах увядших пионов и слышу, как учитель сосредоточенно настраивает скрипку? Отчего встают передо мной атлантические волны, и я смотрю сквозь них вдаль, туда, где синеют горы моего родного края, а у входа в школу стоит деревенский учитель, который когда-то водил и мою руку, выписывавшую первые буквы?.. Все это вспоминается мне потому, что много лет назад, в дождливый день, когда неуютная гостиница в Сен-Мало нагоняла на меня уныние скрипом деревянной лестницы и грохотом океанских волн, я мысленно возвратился в далекую страну детства (должно быть, искал, чем согреться в долгую бретанскую ночь) и увидел, как мой учитель стоит под гирляндой из пионов, которой украшена школа по случаю праздника Кирилла и Мефодия, увидел стайку школьников и себя между ними…
Двор нашей школы – в прошлом деревенское кладбище – лежал передо мною пустой и разрытый. Я видел его сквозь волны океана так отчетливо, будто смотрел из окна классной комнаты. Проливные дожди размыли его, и в ямах виднелись берцовые кости, ребра и позвонки людей, погребенных тут невесть в какие времена…
Эти останки тревожили мои думы много десятилетий назад, когда я был совсем мал и ходил в поскрипывающих сандалиях, купленных к первому школьному дню. Вместе с остальными ребятами я плясал на школьном празднике – подпрыгивал в такт скрипке и кружился до дурноты. И в те мгновения, когда все вокруг вертелось, словно земля вот-вот улетит в бескрайние пространства, я чувствовал, как шевелятся у меня под ногами ребра и позвонки неведомых покойников, которые некогда тоже были детьми, как я и мои соученики, и тоже отплясывали на школьном празднике, и сандалии у них поскрипывали так же, как и мои.
На школьном дворе ни души. Солнце давно уже встало, летают ласточки, по дороге едут машины, груженные досками, их свивающие концы скребут дорогу, а учеников Христофора Михалушева все нет. Неужто так и не придут? Неужто в последний школьный праздник учитель будет один стоять на каменных ступенях крыльца, один среди гула гибнущего села? Смешной в своем поношенном сером костюме, молча попрощается с уходящим праздником своей жизни, со старой школой, а потом побредет к своему пока еще уцелевшему дому, запрется на ключ и зарыдает, как ребенок?
Нет! Последний школьный праздник не пройдет так глухо и серо, как представилось мне…
Ученики – числом двенадцать – показались на дороге. Пена океанских волн стекает по стеклу окон гостиницы в Сен-Мало, и мне не видно их лиц, но я вижу, что на них старые рубашки и короткие штаны, выпачканные кирпичной пылью и сажей поваленных дымовых труб. Учитель поднимает скрипку, кладет сложенный носовой платок на подбородник и принимается водить смычком. Под действием музыки дети подбочениваются и начинают вяло танцевать. Они сходятся, приседают, кружатся, неуклюже повторяя годами заученные движения. Двор пуст. Никто не пришел взглянуть на них. Переселенцы заняты погрузкой машин и подвод, и никому нет дела до школьного праздника. Двенадцать учеников ждут не дождутся, когда умолкнут нудные звуки скрипки и можно будет побежать домой, а учитель покачивается в такт музыке и плачет. Слезы обжигают его щеки, но он не вытирает их… Дети подпрыгивают, точно марионетки, которых дергают за невидимые нити, кланяются, приседают, и под ногами у них шевелятся кости на заброшенном деревенском погосте, на месте которого стоит школьное здание…
Огни маяка к северу от крепостной стены Сен-Мало тревожно мерцают. Их заливает волной, но они воскресают вновь. И далекие образы, всплывшие в моем мозгу, тоже заливает волной, они тоже воскресают, и я вижу, как учитель, перевернув скрипку, вытряхивает из нее капли океанской воды. Дети удивленно переглядываются, улыбаясь: волны облепили им волосы и лица темно-зелеными водорослями, и каждый из двенадцати учеников плачущего на ступенях школы учителя похож на старичка в коротких штанишках, который ощущает непослушными пальцами свою зеленоватую бороду и смотрит в небо, надеясь увидеть там аиста или бабочку, а видит гребни волн, которые катятся от горизонта, чтобы залить все…
Змея появилась однажды, когда персиковые деревья уже отцвели, устелив землю тонким слоем оброненных лепестков. Никто не видел, откуда она выползла – из груды камней, остатков снесенных оград или из-под стропил разрушенной мельницы. Ничто не тревожило ее, и змея спокойно проползла под гиацинтами, которые как ни в чем не бывало цвели в покинутых дворах, и теперь нежилась на цементовых ступенях домов или же перебиралась через груды разбитого стекла, в которых отражалось каждое ее движение, – так отражаются всплески молний. Ничто не смущало покоя змеи, не побуждало ее искать спасения в корнях деревьев или среди замшелых балок. Кое-какие звуки и шум заставляли ее иногда вздрагивать, но она уже с ними свыклась: это было жужжание пчел, становившееся громче, когда змея раскачивала какой нибудь стебелек, крик перепела или приглушенное кваканье лягушки, пытающейся разорвать зеленую корочку ряски. Змея ползла меж этих звуков, ощущая их своим телом так же, как она ощущала прикосновение трав или топорщившихся над землей корней. Они вселяли в нее спокойствие и, застыв где-нибудь на камне, она долго блаженно наслаждалась лаской утреннего солнца, пока ее не вспугивал крик дрозда или сойки, и тогда, приподняв свою сплюснутую головку, она лениво сползла на траву.
Учитель заметил змею на каменных ступенях школы. Был полдень. Земля дышала зноем – он ощущал ее жар сквозь сандалии, можно было себе представить, как жгли каменные ступени, на которых улеглась змея.
Всего два шага отделяло учителя от змеи. Он отпрянул, испуганный неожиданной встречей. Нагнулся, чтобы подобрать камень или прут, но ничего не подвернулось под руку. Змея спала мертвым сном, растянувшись во всю длину ступени. Слегка успокоенный, он принялся рассматривать ее. У нее была золотистая спина с коричневыми изгибающимися полосами по бокам и оранжевыми проблесками, напоминавшими драгоценные камни. Сплюснутая голова была покрыта золотисто-янтарными чешуйками, среди которых, будто припаянные золотом, сверкали два изумрудно-зеленых глаза. Их цвет разливался по брюху спящей змеи до самого хвоста, учитель видел его отблеск даже на ступенях – зеленое сияние, излучаемое изумрудами.
Всю свою жизнь учитель провел в этом поречье и каких только тварей земных не видел здесь, но подобной змеи не встречал ни разу. Его детство было заполнено историями про ужей. Старики, много повидавшие на своем веку, рассказывали на полднищах об ужах-хлестунах, которые гонялись за ними в горах и, точно кнуты, хлестали по спинам; об ужах-межевиках, стороживших виноградники; о козах, у которых кровоточило вымя – ужи сосали молоко; об оставленных в поле младенцах, на груди у которых матери находили свернувшихся клубком ужей, привлеченных молочным запахом детских ротиков. Каких только историй не рассказывали старые пастухи! Может, выдумывали или же прибавляли к виденному и слышанному то, что было рождено воображением и страхом. Эти рассказы придавали таинственность лесным вырубкам, перелогам и проселкам, и хотя обычные ужи, не подозревая о приписываемых им подвигах, предпочитали спасаться бегством, дети верили, что чудеса существуют и не сегодня так завтра они своими глазами увидят пастуха, удирающего от ужа-хлестуна, или встретят козу с оттянутым до земли выменем, к которому присосался толстый, как канат, уж, опутавший ноги лесной кочевницы.
Змея устроилась на ступеньке школьного крыльца, не зная, что всего в двух шагах от нее стоит человек. Возлежала в царственном спокойствии. «Если змеи видят сны. – размышлял учитель, – то сейчас ей, должно быть, снится самое прекрасное из ее сновидений…» Он чувствовал, что им овладевает желание взять палку или камень и убить пресмыкающееся, но он воспротивился инстинкту, заложенному в его душу с первым глотком материнского молока. Он вспомнил, как когда-то насадил на булавку первую пойманную им бабочку, – ему тогда было три годика, – чтобы получше разглядеть этот яркий цветок, наделенный способностью летать. Пальцы мальчика, ощупывая ее крылышки, сняли с них золотую пыльцу, они сразу стали похожи на проеденные гусеницами листья с рыхлыми прожилками, – и он отшвырнул ее прочь. Он вспомнил, как летом ловил зеленоголовых оводов, присосавшихся к коровьим бокам, насаживал на стебельки травы и с сатанинской радостью смотрел, как оводы летят над лугом – с подрагивающей позади кисточкой, – летят до тех пор, пока не упадут мертвыми наземь.
«Это желание убивать неосознанно живет в ребенке с первых его шагов по земле, – размышлял Христофор Михалушев. – Вероятно, в ранние годы жизни оно вызывается стремлением к самозащите, но прежде всего – любопытством, жаждой познать окружающий мир. Едва научившись ходить, малыш наступает на пчелу (не ведая, что она может ужалить) и, наступив, берет ее в руки, чтобы прикоснуться к тайне прозрачных крылышек, которые звенят над ним и исчезают в небе. Уже подросши и поумнев, ребенок убивает залетевшую в комнату, жужжащую на окне пчелу – убивает, чтобы защитить себя от пчелиного жала. А в более поздние годы, когда человеческая душа походит на затвердевшую гипсовую отливку, которая едва ли может принять иную форму, не разбившись, человек убивает пчелу, чтобы отомстить и доказать, что он сильнее ее и хитрей. Намазывая ножом мед на ломтик хлеба, человек в то же время разжигает костер перед ульем лесника на опушке акациевой рощицы и смотрит, как пчелы взлетают над огнем и мертвыми падают к его ногам. У него нет намерения уничтожить улей (лесник давал и будет давать ему мед), он просто-напросто хочет покарать пчел за то, что одна из них ужалила его сынишку. При виде сгоревших пчел гнев человека стихает. Он выплескивает в костер ведро воды, дым тает, и над акациями вновь раздается жужжание. Человек удовлетворенно возвращается домой, шагает по комнате из угла в угол, и в его глазах долго не угасает мстительный огонек…»
Всю свою жизнь Христофор Михалушев боролся с этим инстинктом. Пытался изгнать его из душ других людей и из своей собственной, но инстинкт, точно хищный зверек, пятился под его возмущенным взглядом и шипел, словно загнанная в угол кошка. Учитель думал, что изгнал зверька из своей души, сколько ни вглядывался, не обнаруживал его следов даже в самых потайных ее уголках. Но когда он, спокойной рукой заведя будильник, ложился в постель, то чувствовал, как на подушке кто-то шевелится – легонько перемещает брюшко и когтями, точно простыню, комкает его сон. Учитель, затаив дыхание, прислушивался. Зверек понимал, что человек не спит, и на время затаивался…
А следующей ночью все повторялось сначала.
И сейчас, глядя на змею, Христофор Михалушев ощутил его когти. Зверек у него в душе вскинул передние лапы, ощетинился, готовый прыгнуть, но взгляд старика пронзил его и, как уже не раз случалось, он попятился, удалился, все уменьшаясь в размерах, затерялся среди воспоминаний и снов, а потом наконец исчез.
Учитель мог бы размозжить змее голову камнем, как делал это раньше, и понаблюдать за тем, как невидимая пружина агонии выгибает ее скользкое туловище, но не подымалась рука на эту божью тварь, неожиданно вынырнувшую из гробового молчания уничтоженного села – царственную, будто она здесь всему властелин. Учитель смотрел на рубиновые искры, рассыпаемые туловищем змеи, и изумрудное сверкание ее гладкого брюха, и ему казалось, что внезапно появившаяся на школьном дворе гостья рождена не здешними холмами и полянами, а кистью богомаза, что перед ним сошедший с иконы змей, который долгие века держал в пасти яблоко и ждал среди райских кущ блистающую наготой Еву.
Богомаз создал ее в минуты вдохновенья, смешав краски земли и неба. Он придал ее движениям то изящество и легкость, с какими гнутся, переливаясь, в поле хлеба. Змея спала, а учителю виделось, как она ползет в траве, как обвивает стволы деревьев, как, почуяв угрозу, проворно шмыгает в кустарник… Теперь же она лежала, блаженно раскинувшись, излучая покой и мудрость, за которые люди испокон веков любят ее и почитают хранительницей очага…
Взгляд человека касался змеи, и она вздрагивала во сне, словно отгоняя мух или пытаясь стряхнуть заползшего на спину муравья. Эти прикосновения разбудили ее. Она подняла голову, в глазах блеснули изумрудные искорки, но в них не было угрозы – то отражалась листва деревьев. Змея обвела взглядом ступени над собой, человека, стоявшего всего в двух шагах от нее, но не испугалась, не бросилась искать убежища в траве. Соскользнула по ступеням, отполированным ногами детворы, когда-то учившейся здесь в классных комнатах, медленно пересекла двор, отыскала в каменной ограде щель, вонзилась в нее, как крестьянки вдевают в ушко иглы яркую шерстяную нитку, и исчезла в бурьяне на церковном дворе.
«Возвращается на икону, с которой сползла, – подумал учитель с улыбкой. – Обовьется вокруг ствола и снова потянется к яблоку».
Он не раз видел эту икону, смотрел, как оживают краски под огоньками свечей, как листья деревьев, густо написанных кистью богомаза, трепещут, словно под порывами библейского ветра. У старого учителя всегда замирал дух перед змеей – и в детстве и во все последующие годы жизни она все так же пристально смотрела на него, будто хотела поделиться с ним чем-то очень важным, таящимся в ее душе с первых дней сотворенья…
Отчего бродил он среди развалин села? Что приводило его сюда – воспоминания о прожитых годах или что-то иное побуждало его раскачивать шагами траву в покинутых усадьбах? Искал ли он что-то, упавшее на камни в тот час, когда он шел за нагруженной машиной, глядя, как покачивается в кузове выцветшая мебель из его снесенного дома, или же просто приходил сюда любоваться цветами, которые пробились сквозь груды раскиданных кирпичей и цвели так весело и пышно, будто ровно ничего не стряслось?
Старого учителя и вправду влекли сюда воспоминания и цветы, и еще кое-что удерживало его в родных местах: болезнь сына.
Когда односельчане принялись строить новые дома на окраине города, возле которого возводилась плотина будущего водохранилища, Христофор Михалушев тоже решил нанять мастеров: он уже приобрел обширный участок возле главной улицы нового квартала. Каменщики поставят в восточном углу одноэтажный домик в несколько комнат, а остальную площадь учитель и его сын Маккавей (других родных уже не осталось на свете) засадят виноградной лозой и цветами. Однако потом его взяло сомнение: не слишком ли он стар, чтобы заниматься таким хлопотным делом, как строительство. Придется бегать, добывать цемент, кирпич, столярку, объясняться с мастерами, чей недельный заработок намного превышал его месячную пенсию. Будь Маккавей здоров, он взял бы все хлопоты на себя, но Маккавей был болен, и хотя ему шел уже тридцать третий год, у мальчика, как называл его отец, не было ни сил, ни сноровки для такого трудного, надсадного дела. Сын учителя – давно уже взрослый мужчина – в душе оставался ребенком, со всей присущей детям наивностью и доверчивостью, с неожиданными, не подвластными рассудку порывами и поступками.
Двое братьев, переселенцев из дальнего горного села, подыскивали себе в городе участок, но найти подходящий непросто, да если и найдется, то стоит дорого, и, прослышав, что старик пока не решил, затевать ли ему строительство, они явились к нему. На участке не было ничего, кроме травы, да еще в одном углу цвел высокий куст бузины. Братья метр за метром все осмотрели, тяжело переступая большими ногами, обутыми в резиновые сандалии, потом обернулись на юг, и перед ними в низине поплыли красные городские крыши, выросла труба старой маслобойни, засверкали рельсы железной дороги, а вдали обозначились контуры горной гряды.
– Мы из Чупренова, слыхал когда про такое село? – обратился к учителю один из братьев, одетый в синюю рубаху с якорем на кармашке.
– Слыхал, – отвечал учитель. – Я в войну ездил в Митровцы дубить собачьи шкуры для обуви. Побывал тогда и в вашем селе.
– Братья мы, близнецы, – гость кивком показал на брата, тоже в синей рубахе, от которого пахло сорванным цветком бузины. – Меня зовут Марин, его – Мирон. Раньше мы до того были схожи, что родная мать с трудом различала. Потом попривыкла: Мирон в детстве часто делал в штаны, они у него всегда были в желтых подтеках, а я вечно ходил с ободранными коленками. Только по этому нас и узнавала, – улыбнулся он.
Христофор Михалушев внимательно оглядел его, задержал взгляд и на брате, который ходил по двору, вертя перед носом осыпающийся зонтичек – цветок бузины. Сходство и впрямь поражало.
В годы войны учитель знавал многих жителей Чупренова, и у него создалось впечатление, что люди там приземистые и зобастые. Ему встречались дети с непомерно большими головами, он даже удивлялся, как держатся такие головы на худых, восково-желтых шейках, а вот эти уроженцы далекого горного села, что стояли сейчас перед ним, были рослые и сухощавые – ни дать ни взять потомки древнего англосаксонского рода. Короткие, бобриком, волосы пепельного цвета, словно припорошенные пыльцой цветущей груши. Лица с мягко очерченными скулами, тоже припорошенные этой пыльцой, длинные, с массивной нижней челюстью. Сквозь ресницы виднеются зеленоватые глаза, излучающие при улыбке веселый блеск… Близнецы были выше Христофора пяди на две… Оба широкие в плечах, узкие в поясе, живот, несмотря на возраст (на вид им было за сорок), подтянут – ни единой жировой складки. Под рукавами рубахи перекатывались шары мускулатуры. Ноги у обоих длинные, жилистые, с крепкими коленями, оттопыривавшими штанины холщовых брюк. Оба носили огромные резиновые сандалии – такие размеры в местных магазинах найти не просто.
«Если эти обитатели глухого горного села, – думал учитель, – пойдут к модному портному и закажут себе элегантные костюмы с хлястиком на спине из той материи, которую портной называет «Принц Галльский», повяжут шею галстуками в тон и наденут остроносые ботинки, то швейцар лучшего в городе ресторана, предназначенного в основном для иностранных туристов, куда местные жители ходят редко, с низким поклоном распахнет перед ними дверь, укажет лучший столик, ожидая, что ухо будет обласкано англосаксонской речью. А вместо этого элегантные посетители станут обсуждать на местном простецком наречии вопрос о том, что заказать на ужин: шницель «Сарра Бернар» или же привычный перец, фаршированный брынзой…»
– Но ближе к делу, – продолжал Марин. – Мы пришли потолковать насчет участка. Если уступишь его нам, мы построим дом в три этажа: верхние для нас с братом, нижний – тебе…
Христофору Михалушеву это было выгодно (многие его односельчане тоже договорились с переселенцами из горных деревень и уже въехали в предоставленные им квартиры), но, зная свою непрактичность в житейских делах, он решил прежде чем дать ответ подумать и посоветоваться с более сведущими людьми.
Несколькими днями позже близнецы уже тянули рулетку поверх травы, вбивали колышки, размечали киркой место для будущего фундамента и так радостно и возбужденно топтались на квадратном зеленом пространстве между колышками, будто уже подымались по лестнице построенного дома, чтобы взглянуть на приближающийся поезд или полюбоваться на гору, где на самой высокой вершине лежит глубокий, сверкающий на солнце снег…
Именно этим пейзажем любовался следующей весной Христофор Михалушев, стоя у окна на первом этаже нового дома, еще пахнувшего известью и масляной краской. Вокруг валялись доски, комья земли, ржавые железные бочки. Весь двор был перекопан, но трава пробивалась повсюду, затягивала раны земли, зелеными огненными язычками охватывала сваленные у ограды доски. Весенний ветер раздувал это изумрудное пламя, и учителю казалось, что к следующему утру от этих досок останется лишь горстка золы.
Жизнь начиналась заново – на чужом месте, среди чужих людей. Сверху отчетливо доносились их шаги, и учителя, привыкшего жить в одноэтажном домике и слышать над головой только потрескивание орехов, не оставляло ощущение (особенно по ночам), что на небе собираются тучи и вдалеке грохочет гром.
Он перевез из села свои пожитки, заполнил ими обе комнаты, прихожую и просторную кухню (вещи показались ему здесь еще более обветшалыми), повесил над умывальником новое зеркало – старое разбилось дорогой – и, оглядев свое новое жилище, понял, что всем завладела старая рухлядь. На фоне гладкой, сверкающей белизной стены еще темнее и старее выглядел орехового дерева шкаф, много лет украшавший прежний его дом; половики, которыми он застелил пол, показались ему выцветшими, будто они долго пролежали на солнце. Набитые книгами этажерки заняли пустое пространство у стен. Они тоже не внесли более свежих красок в приглушенную тональность старых вещей, но если что-то здесь и радовало учителя, так это томики в облезлых переплетах, собираемые им на протяжении всей жизни. С юных лет он никогда не расставался с ними.
Он обводил взглядом старые стулья, столы, буфет с потрескавшейся белой краской, где за стеклом виднелись пыльные рюмки, к которым уже бог весть сколько лет никто не притрагивался, и думал о том, что самым разумным было бы расстаться со всем этим старьем. Мебель отслужила свое, ее источил древоточец, она обветшала, как ветшает одежда. Попробуй надень теперь короткий, неприталенный пиджак с узкими лацканами! Будь он даже из самой лучшей материи, ты вызовешь лишь сострадательные улыбки… Точно так же и с мебелью. Продать бы ее по дешевке или просто подарить кому-нибудь, лишь бы убрать эту рухлядь с глаз долой. Подыскать что-нибудь поновее, не хватит денег – взять в долг. Одно дело, когда в доме пахнет свежей политурой, и ты, точно в зеркало, смотришься в отполированную поверхность, скажем, только-только доставленного из магазина шкафа, и совсем другое – видеть, как от твоих шагов шатается и трещит древняя громадина из орехового дерева и в ее щелях серебрится паутина…
Так рассуждал учитель и был прав – ведь новая вещь пробуждает в человеке бодрые мысли, а бодрые мысли означают надежду, и душа, отдав себя им во власть, старится не так быстро.
Несмотря на это, Христофор Михалушев любил глядеть на свой старый шкаф, к которому привык как к человеку, любил открывать его створки, слушать их скрип, вот уже много лет одинаковый, и разглядывать пустые плечики, на которых в былые годы висели платья жены – вот тут розовое, тут бежевое в коричневый цветочек, а тут матросский костюмчик Маккавея, в котором мальчик в первый раз пошел в школу. А наверх, на запыленные теперь доски шкафа, под пасху ставили куличи. Не было для Христофора Михалушева ничего сладостнее запаха ванилина, лимона и миндаля, который разносился тогда по всему дому и на всю жизнь остался для него ощущением праздника, ликования церковных колоколов и цветущих деревьев.
Привычный запах былых праздников уже повыветрился из ореховых досок, но учитель знал, что он не исчезнет вовсе: если дерево и не сумело сохранить его, то нечто другое – память человеческая – пронесет его сквозь годы.
«Надо будет заглянуть в мебельный магазин. Наша рухлядь нагоняет тоску…» – подумал он и тут же почувствовал, как душа противится такой мысли.
Поэтому, верно, всегда и находился повод повременить с покупкой.
Но эту проблему решить было не так уж сложно. Возникли другие трудности, которых он никак не предвидел. Он с самого начала условился с братьями, что они займут половину участка, а вторую оставят ему, там он посадит вьющийся виноград и цветы, но в один прекрасный день «англосаксы», как он в шутку их называл, принялись перекапывать весь двор. Они срезали траву лопатами, вгрызавшимися глубоко в землю под напором их тяжелых ступней, переворачивали комья и, поплевав на ладони, подступили уже к ограде. Учителю осталось только крохотное, в несколько шагов, пространство у самой лестницы.
– Что вы делаете? – обратился к близнецам Христофор Михалушев, выйдя на крыльцо. – Мы ведь по-другому договаривались!
– Договаривались по-другому, но так будет лучше, – ответил один из братьев, то ли Марин, то ли Мирон. – К чему оставлять полдвора под травой, когда можно весь его засадить перцем и помидорами? Хочешь – пользуйся, никто тебе слова не скажет.
– Но ведь мы живем в городе. Для городского дома больше подходят цветы и виноград, – попытался было возразить учитель.
– Пускай в городе, но мы-то все равно крестьяне, охота была выстаивать в очереди за овощами, когда сами можем вырастить свежую зелень – без минеральных удобрений, без всяких там гербицидов, так, что ль, они называются?
– Тогда уж сколотите и курятник!
– А что, и сколотим! В два счета поставим вон в том углу сараюшку… Вчера жена пошла в лавку, глядит – на прилавке одни только шейки цыплячьи. Продавец говорит: «Замечательный из них суп получается». «Сам жри этот суп! – огрызнулась моя. – Мне подавай ножки!» «Я бы и сам от них не отказался, – отвечает, – да их лиса унесла…» Хитер, черт! Но больше я в магазины ни ногой… Разведем, стало быть, петухов, да таких голосистых, что во всем городе будет слыхать…
Христофор Михалушев понял, что ему с этими людьми не совладать. Он смирился (братья уступили ему еще клочок земли), посадил цветы, а один приятель из Горно-Церовене – Йордан Стефанов, знаменитый на все поречье виноградарь, – привез ему саженцы гамбургского муската и шаслы. Учитель посадил их у крыльца и, когда проклюнулись зеленые листочки, ощутил такую радость, какой давно уже не испытывал.