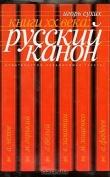Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Пейзаж менялся – медленней на глазах, быстрее в воображении, – и огромная машина среди песков, глухо урча, пенившая позади воду, со своими мачтами, со снующими по палубе людьми, говорила учителю, что час большой воды медленно, но неуклонно приближается.
Вернувшись домой, он сказал Маккавею:
– Я видел машину, о которой ты говорил. Это не корабль, а драга, – ее, наверно, доставили сюда, чтобы углубить дно водохранилища, где будет выситься башня. Нос ее не похож на носы теплоходов, и корма у нее другая, но, глядя, как держится на воде ее огромный корпус, как она метр за метром подступает к холму, я подумал о том, что скоро наступит время, когда и мы с тобой наденем тельняшки, как те люди, что сейчас расхаживают по ее палубе. Ты молодой, можешь выучиться на капитана или будешь плавать по озеру на лодке, а меня, как знать, может, возьмут сторожем на один из причалов, где курортники летом будут оставлять свои лодки… Представь себе: сижу я на берегу, покуриваю, а на другом краю водохранилища, где когда-то проходил поезд, несутся наперегонки яхты… В ту злосчастную мою поездку в Варну с учениками я видел состязание парусных лодок в заливе возле порта. Ветер так надувал паруса, что лодки кренились, и я думал: еще мгновение – и они перевернутся. Но думал я так потому, что понятия не имел, как управляют яхтой. А сидевшие под парусами были опытными моряками, и ветер покорялся их рукам. Яхты описывали широкие дуги и долго-долго летали, накренившись, потом выпрямлялись и прыгали на волнах, точно девочки, – ты, наверно, видел, как они прыгают через веревочку…
Все, что рассказывал отец, было интересно, но Маккавею не хотелось расставаться с мыслью, что возле плотины стоит настоящий корабль, а не драга, как сказал отец.
Еще в полдень, в самый солнцепек, он направился туда по раскаленному песку, слепившему глаза слюдяным блеском, – приходилось зажмуриваться, чтобы уберечься от режущего света. Сквозь узкие щелки век дрожавший над поречьем воздух казался дымящейся магмой: холмы растаяли и медленно стекали, затопляя поречье прежде чем пришла большая вода. Песок немилосердно обжигал ноги, и Маккавей свернул с самого короткого пути через отмели, который быстрее привел бы его к возвышавшейся возле плотины громадине, и пошел вдоль берега, то и дело ступая в воду, чтобы остудить ноги. Вода была теплая, но после невыносимого жара камней и песка казалась безмерно ласковой и прохладной.
В конце концов он добрался до стальной махины, которая отражалась в воде образовавшегося вокруг нее озерка. Очертания ее окон размывались легкой дрожью волн, корпус, повторяясь в воде, покачивался и прогибался словно вырезанный из станиоля. Машина не работала. Маккавей не увидал ни единого человека ни на палубе, ни на железном мостике, который упирался в песок и вел внутрь драги. Матросы полдничали в тенечке, под ивой, у южного края плотины, где начинались виноградники. Они заметили рыжеволосого человека, ходившего около их машины, и кто-то из них окликнул его, пригласил подойти. Маккавей подумал, что его схватят: дескать, кто такой, чего надо, разве не знаешь, что посторонним вход воспрещен? – и первой его мыслью было обратиться в бегство. Пока те подымутся, обуются, – не побегут же они босиком по раскаленным камням, – он уже будет далеко. Однако, услышав повторное приглашение и не уловив в голосе угрозы, он спокойно направился к распластавшейся на зеленой траве тени от дерева, совсем черной там, где сидели полдничавшие люди. Их было трое за скромной трапезой – на разостланной газете лежал нарезанный большими ломтями хлеб, помидоры, с которых стекали капельки воды, брынза – по ее порам сновали муравьи, а рядом, на траве, валялся нож с роговым черенком, к лезвию которого прилипла алая помидорная кожура.
Двое сидели к нему спиной – широкоплечие, с такими загорелыми шеями, что пятнышки нетронутой солнцем кожи за ушами казались особенно белыми. Тот, что сидел напротив них, тоже сильно загорел. Маккавей шел прямо на него и успел рассмотреть его лицо раньше, чем поздоровался и ощутил прохладу тенистой ивы. Черты лица у моряка были крупные, будто вытесанные из темного, коричневого камня, брови почти сливались цветом с кожей, и если бы не зеленоватые глаза и шотландская с проседью борода, тянувшаяся от ушей и повторявшая очертания массивной нижней челюсти, лицо казалось бы очень строгим, суровым. Озорные искорки в глазах выдавали склонность к шутке, и разморенный жарой моряк выглядел вполне добродушно.
– Ты что, уж не вздумал ли у нас хлеб отбивать? – спросил он, оглядев Рыжеволосого с головы до пят. – Вчера тебя тут видели, сегодня опять заявился…
– Мне хотелось рассмотреть вашу машину вблизи, – сказал Маккавей. – Я думал, это корабль, но отец говорит – драга. Она, мол, долбит дно водохранилища…
– Хорошо бы, кабы корабль, – сказал человек с шотландской бородкой, должно быть, капитан этого сухопутного корабля. – Не жариться бы нам тогда, как ящерицам, среди этих песков. – Он усмехнулся, и Маккавей заметил, что зубы у него крепкие, ровные, блестящие, значит, он гораздо моложе, чем кажется, если судить по проседи в бороде. – Пока перепашем все поречье да перекидаем весь этот песок да камни, у меня борода и вовсе белая станет… Твой отец верно говорит: это драга, но мы не долбим дно, мы золото ищем… Ты здешний? Чем занимаешься?
– Здешний, – ответил Маккавей. – Живем с отцом в домике возле реки. Чуть ближе снесенного села. Доктор велел нам пожить тут, чтобы я поскорее выздоровел.
– А что с тобой? С легкими не в порядке? – Моряк остановил взгляд на его лице и заметил, что, несмотря на загар, лицо у незнакомца испитое и болезненное. Те двое, что сидели к Маккавею спиной, теперь обернулись, и он заметил, что их глаза – у одного карие, у другого желтые, как раскаленный песок, – с любопытством осмотрели его.
– Я мальчишкой чуть не утонул в реке, и с тех пор мне бывает нехорошо, в особенности летом. Кричу во сне, мерещится, будто земля уходит из-под ног и я куда-то проваливаюсь. Доктор говорит, это нервное…
Моряки некоторое время изучающе смотрели на него, потом отвернулись и принялись нарезать помидоры острым как бритва ножом, из-под которого выкатывались прозрачные оранжевые кружочки, а человек с бородой шотландца протянул «да-а» и, взяв с газеты ломоть хлеба и кусок брынзы, подал гостю:
– Закуси с нами за компанию, – сказал он, подвигаясь, чтобы дать ему место в тени. – А потом осмотришь нашу машину, если тебе так интересно…
Он ушел от них только вечером и, дойдя до излучины, оглянулся, чтобы еще раз увидеть драгу, пока холм не заслонил ее. Ее силуэт растаял в сумерках, и три ряда окошек, светившихся вдалеке, казалось, висели в небе. Моторы продолжали стучать, сита подбрасывали песок и речную гальку, отделяя крупинки золота, огромные, нанизанные длинной цепью ковши продолжали, поскрипывая, выгребать то, что река копила тысячелетиями, вгрызались в земную твердь, словно желая добраться до самой сердцевины, до самых сокровенных ее тайн…
Маккавей успел за день тщательно рассмотреть огромную машину, которую он сначала принял за корабль, – он полазил по трапам, постоял на палубе, послушал, как свистят в ситах водяные струи, заглянул к капитану, поглядел, как тот одним движением рукоятки наматывает на огромный барабан закрепленный на берегу трос, и драга послушно передвигает свое стальное туловище туда, куда хотел капитан. Все видел Маккавей и уже не испытывал разочарования, что среди песков стоит не корабль, а обыкновенная землечерпалка.
Для него эта окруженная песками величественная машина, которая медленно и мучительно, шаг за шагом, продвигалась через заносы и корневища давным-давно поваленных деревьев, через могилы погребенных в песке безымянных людей, через кремни, посверкивающие под ковшами, навстречу бескрайним далям, туда, где расстилается морская ширь, была кораблем… Другим кораблям просто – якорь поднят, попутный ветер треплет на мачте флажки, пенится вода за бортом, на палубе гремит оркестр и гуляют нарядно одетые женщины. А к этому их собрату, затерянному в песках Огосты, судьба не так благосклонна и щедра. Ему суждено пройти тяжелейшие испытания, прежде чем он достигнет тихой гавани, откуда начинают свой путь другие корабли. Эта гавань находится по ту сторону гор, что высятся на западе, там, где лежат истоки Огосты. Туда должен, шаг за шагом, добираться сухопутный корабль, прорыть гору, пробить другие хребты, если они преградят ему путь. Подобно тому как узники, о которых Маккавей упоенно читал в книгах, рыли туннели под стенами своих темниц с помощью ложек и кружек, окровавленными ногтями, чтобы однажды ночью выбраться ползком за пределы каменных стен и обессиленно рухнуть на траву, любуясь на необычно яркие звезды, – ведь под мрачными тюремными сводами люди забывают о том, как сияют звезды…
Драга рыла песок в поисках золота, и этому золоту будут радоваться те, для кого оно важнее всего на свете, а для Маккавея за усердной работой машины таилось нечто куда более важное, судьбоносное – мечта освободиться из плена песков и достичь гавани, там, за горами, где начинается необъятное, вожделенное море. И еще думал он: не пророет ли драга самые основы холма, не коснется ли ломких известняков, под которым находится царство подземных пещер? Уже давно люди поговаривают о том, что холм, в который врыт край плотины, стоит на карстовых породах. Долго ли стальным челюстям драги разгрызть мягкий, податливый известняк?.. Рабочие, заливавшие бетон, чтобы укрепить холм, снисходительно усмехались в ответ на эти наивные слова: да будь у воды хоть стальные зубы, нипочем не перегрызть ей эту преграду. Но, как всегда, пересиливал тот слух, в котором отражалось предчувствие беды. Капитан с бородой шотландца, стоя на своем мостике, где со скрежетом наматывался металлический трос, вероятно, слышал, как гудит земля под челюстями драги, слышал, но не допускал, что это дают о себе знать пещеры карстового холма, он думал, что это стон утомленного металла…
Маккавей двинулся дальше по излучине. Тропка терялась в ивняке, а оставшийся за спиной холм заслонил огни драги. Остался лишь глухой шум моторов, провожавший его до самого дома, и Маккавею казалось, что он различает в их еле уловимом ритме шаги капитана на палубе: вот он нагибается, чтобы раскурить трубку, огонек спички освещает сначала бороду, потом нахмуренные брови, а мгновением позже все поглощает тьма…
В детстве Маккавей больше всего на свете любил пасхальные праздники, наполненные колокольным звоном, от которого воздух словно становится светлее и все вокруг кажется мягким и невесомым.
Пасха начиналась для мальчика задолго до той минуты, когда принимались звонить воскресные колокола и все домашние, надев свои лучшие наряды, шли завтракать к разукрашенному цветами столу, и он первый тянулся за пасхальным яичком.
Праздник начинался еще в четверг утром, когда мама бралась за уборку: подметала комнаты, вытряхивала одеяла, мыла окна. Потом расставляла по местам стулья, застилала стол крахмальной скатертью, вытирала стекло, за которым висел в раме коврик с вышитым павлином, и присаживалась отдохнуть. Отдых длился всего минутку. Встав со стула, она первые несколько шагов плотно стискивала зубы, пересиливая боль в ступнях. Мальчику было видно в зеркале ее лицо – гладкое, без единой морщинки, с длинными, как ласточкины крылья, бровями вразлет, под которыми синели глаза, – он смотрел на матовую шею, на которую падала тень густых черных волос, мягкими волнами лежавших на плечах, и как бы видел отраженную в зеркале душу родного дома…
Мальчик знал, что мама поставит на печку большую кастрюлю с подпрыгивающими в кипящей воде яйцами, как делала каждый год, улыбнется сыну и скажет:
– А теперь твой черед! Бери миски, разводи краски и приступай…
Она давала мальчику воск, чтобы он рисовал на обжигающих ладони яйцах цветы и птицы, давала листья пеларгонии, которые Маккавей прикладывал к гладкой скорлупе, и те, не тронутые краской, отпечатывали на ней свои тонкие кружевные узоры. Постояв немного возле сынишки, поглядев, как он радуется порученному делу, мать шла к соседям во двор, где ее ожидали другие хозяйки, чтобы уговориться о приготовлении теста для куличей.
Ритуал замешивания, повторявшийся ежегодно и неизменно вызывавший во всем селе тревогу и ожидание, начинался в субботу. Так как у них в доме имелась самая просторная комната и самые удобные квашни, пять-шесть соседок приходили к ним и вместе с хозяйкой принимались за дело. Первым долгом растапливали печь, набивали ее дровами, и через час в комнате становилось невыносимо жарко. Затем сдобили тесто молоком и взбитыми яйцами, добавляли растертые лимонные корочки. Лица у всех пылали от жара. Женщины скидывали с себя лишнее, закатывали рукава, стягивали в пучок мокрые от пота волосы и, захватив горстью большие, липкие комки теста, принимались что было силы шлепать их о стенки квашней. От этих ударов пол ходил ходуном, а груди у женщин раскачивались так, что на кофтах отлетали пуговицы.
Для Маккавея это были самые веселые часы в предпраздничной суматохе. Он наблюдал за хозяйками, которые, сменяя друг дружку, разминали тесто, а потом, ослабев, присаживались на кровать; если же он собирался выйти во двор, мать останавливала его: «Не открывай, тесто остудишь, не подойдет!.. » Когда мальчику, наконец, удавалось выскользнуть за дверь, он слышал, что по всему селу громыхают квашни, над которыми священнодействуют усталые хозяйки, а стенки квашней трещат под шлепками. Мальчик возвращался, заглядывал в комнату («А-а, чтоб тебя, закрывай скорей!») и видел, что тесто золотится, слегка вспученное, как живот лежащего на спине человека. Соседки укутывали тесто так, как родители зимой укутывали Маккавея, когда он простуживался и его била лихорадка; сначала квашню накрывали салфеткой, поверх салфетки одеялом, потом отцовским кожухом, а под конец еще и старой, траченной молью полосатой накидкой. Все на цыпочках, словно тесто уснуло, потные, раздетые выходили во двор, под резкий ветер, и принимались растапливать печь в общей пекарне.
В ночь под пасху мама заболела. Ее трясло, бросало в жар, она начала бредить. Когда в полночь торжественно забили колокола и на улице раздались оживленные голоса односельчан, а по окнам забегали отражения горящих свечей, Маккавей проснулся и увидел, что отец укрывает больную еще одним одеялом, а поверх еще и своим полушубком. И все равно зубы у нее стучали в ознобе, она со стоном твердила: «Холодно, холодно…» – и отец, вынув из сундука пуховое одеяло, плотно укутал ее.
Стоявшие на шкафу куличи благоухали, и дымка их ароматов проникала в неспокойные сны мальчика. Он долго не засыпал – не потому, что боялся пропустить полночные колокола, иное не давало покоя: когда куличи принесли из пекарни, Маккавей исподтишка отломил один краешек; он думал, что никто не заметил, но тут с балкона долетел бабушкин голос:
– Как ты насмелился! – говорила она. – Это большой грех, у тебя за это вырастут ночью рога, так и знай…
В проеме двери обрисовывалось ее костлявое тело в темном платье, порыжевшем на плечах от солнца, на шее – толстые жилы, между которыми двигался кадык. Она мерно качала головой в такт словам – наверно, бормотала проклятья или молилась, выпрашивая для внука прощенье. Голова у нее была не человечья, а черепашья – маленькая, пепельно-серая, морщинистая, с точечками глубоко запавших глаз, а губы прямые, без изгибов, только узкая щель между ними, будто трещина на пересохшей земле…
– Кукушка куковала? – спросила бабушка.
– Нет, – ответил Маккавей, думавший не столько о кукушке, сколько о том, что должно с ним произойти этой ночью.
– Твоя мама причесала меня, дала денежку и сказала: «Как услышишь кукушку, разбуди меня».
– Не куковала она, бабушка…
Он лег и задремал, не снимая рук с темени. Осторожно ощупывал свою стриженую голову с острой макушкой, чувствуя все неровности черепа, которые набухали под его обмякшими от сна пальцами – вот-вот высунутся кончики рогов. А под потолком кружила кукушка, и черепашья бабушкина голова с редкими ржавыми волосами, сквозь которые просвечивал череп, будто вылепленный из воска, поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Близорукие старческие глаза пытались разглядеть кукушку и не могли…
Утром отец Маккавея пошел в город за лекарствами. Он был уверен, что аптека по случаю праздника закрыта, но знал адрес аптекаря и решил отправиться прямо к нему домой, в выкрашенное желтой краской здание возле почты, где ему случалось бывать и раньше. Позвонит, попросит прощения за то, что беспокоит его и домашних в такой день, и попросит дойти до аптеки. «Болезнь не считается – праздник или не праздник. Она может оторвать человека и от стола, и от самого сладкого сна», – рассуждал учитель и помахивал соломенной шляпой, которую он захватил, чтобы на обратном пути не напекло солнцем голову.
Маккавей смотрел в окно на отцовскую спину. Узкий, старомодный, вытянутый на лопатках пиджак ерзал от взмахов рук… Мальчик с самого раннего детства помнил отца сутуловатым, задумчивым, взгляд всегда устремлен в землю, но в этот день отец среди высоких зазеленевших деревьев выглядел еще более сутулым и худым. Вероятно, угнетала мысль о заболевшей жене. А может быть, глаза обманывали Маккавея, потому что ярко сияло солнце, во всех дворах стояли в цвету деревья, сверкали стены свежепобеленных домов, и от этой белизны, делавшей все просторней и выше, черная фигурка вдали выглядела придавленной, неуклюжей и чуждой весенней природе.
Отец исчез за тополями у родника, мелькнул еще раз на берегу Огосты, ненадолго задержался на макушке невысокого холма (быть может, закуривал сигарету), потом стал медленно спускаться по другому склону, и Маккавей провожал его глазами до тех пор, пока можно было различить только овальную лысину на затылке…
– Я видела крысу: из перьев и тряпья она устроила себе гнездо на куличе, – сказала бабушка и стала накрывать на стол. – Все перепачкала. Я видела мокрый след от ее хвоста на куличах, которые твоя мама украсила ядрышками миндаля. Кричу ей: «Пошла прочь, негодяйка!» – замахнулась кочергой, а она только шевелит усами да смотрит на меня…
Бабушка влезла на стул, сняла со шкафа один из куличей и стала срезать его янтарную, потрескавшуюся корочку. Она орудовала ножом так уверенно, как будто точно знала, докуда проник мерзкий крысиный запах. Кусочки кулича падали на пол, она наступала на них, словно не замечая. Потом разложила на клеенке то, что осталось от кулича.
Если бы мама не расхворалась, она застелила бы стол самой красивой скатертью и возле каждого крашеного яичка и каждого ломтика кулича положила бы стебелек дикой герани. У них в доме соблюдали обычай: прежде чем сесть за праздничный стол разжевывали листок дикой герани, причащались глотком вина и, чокнувшись красными пасхальными яйцами (для Маккавея раскрашивали специально большое, утиное, которое раскалывало все остальные и дома, и на улице), приступали наконец к куличу. Он таял во рту и как-то по-особому пах – не столько ванилином и лимонной кожурой, сколько яблоневым цветом и гиацинтами.
Иными были куски кулича, которые бабушка отламывала своими трясущимися пальцами (кожа у нее на руках была вся в складках, будто она надела большие, не по размеру, перчатки из грязной замши). Расковырянный ножом кулич казался непропеченным, какого-то неприятного цвета, похожий на тухлое яйцо, а всего ужаснее, что когда мальчик поднес ко рту горбушку, о которой так мечтал накануне, то и впрямь ощутил отвратительный запах крысиного хвоста. Он нагнулся под стол, выплюнул откушенное в ладонь и мигом выбежал за дверь, чувствуя, что его сейчас вырвет.
Потом они чокнулись с бабушкой. Утиное яйцо разбило скорлупу ее красного пасхального яичка, но это не развеселило мальчика. Впервые на пасху в доме было тихо и скучно. Не было за столом отца – тщательно выбритого, в белой крахмальной рубашке, пахнущего одеколоном; обычно он отпускал какую-нибудь шутку, потом лез в карман жилета, растерянно шевелил пальцами (якобы ничего не нащупывал), и, достав небольшую купюру, клал сыну на ладошку, – чтобы купил себе в бакалейной лавке какое-нибудь лакомство на память о празднике. Не было за столом и мамы – в этот день она всегда надевала свое выходное сиреневое платье с такими широкими рукавами, что казалось, будто их раздувает весенним ветерком, на правой руке – золотой браслет (какая тонкая, совсем девичья у нее рука!) и колечко с камешком, над которым взлетает лиловая искорка, когда мама протягивает руку, поправляя сдвинутые мальчиком приборы на столе. Мама больна. Она лежит в соседней комнате с мокрым полотенцем на лбу, бледная, как корочка злосчастных куличей, из-за которых все и произошло. Лежит и бредит…
– Разрезала я утром один кулич, – говорит бабушка, очищая расколотое яичко, и приставшая к ее пальцам красная краска оставляет след на белке. – Смотрю: он полый внутри, только корочкой и держится. Я думала, что его так в печке раздуло, ан нет, червь выгрыз. Я эту мерзость углядела в дырочку: лежит в куличе, длиной с ящерку будет. Я его щипцами как подхвачу и – на горящие угли…
Мальчик слушал ее и дивился: какие угли, если сегодня печку вовсе и не топили? Неужели же еще не остыли угли в пекарне, где вчера пекли куличи?
Он проглотил кусочек сваренного вкрутую яйца, которое ему протянула бабушка. Морщинистое ее лицо качалось на шее, как у игрушечных деревянных клоунов, у которых головы прикреплены к туловищу пружинками. Маккавей долго пил воду из кувшина, потому что желток приклеился к небу и никак не проглатывался. Потом он пошел погулять на улицу к мальчишкам, которые хвастались своими крашеными яичками и подаренными к празднику красными шапками, заигрался с ними и только к вечеру спохватился, что пора домой.
Христофор Михалушев принес из города лекарства для жены. Весь дом пропах камфорой. Из комнаты, где лежала больная, вышла с засученными рукавами соседка, вымыла над тазом руки (он слил ей) и, заметив его тревогу, сказала:
– Стоило так простужаться из-за этого теста, будь оно неладно… Я ее растерла хорошенько, сейчас она успокоится и заснет. А потом растворите в горячей воде морской соли, пусть ноги попарит…
Она ушла, Христофор Михалушев посмотрел на стол.
– Мама, дай-ка чего поужинать, – сказал он и ослабил галстук. – Принеси сколько там осталось яиц, налей стаканчик вина, кулича нарежь… Весь день маковой росинки во рту не было…
Мать положила яйцо прямо на выцветшую клеенку, сын поморщился – он не привык, чтобы в такой праздник в доме было неприбрано и неуютно. Вино запенилось на донышке стакана, и рубиновый его цвет, преломив свет лампы, образовал на клеенке маленький розовый островок. Больше мать ничего на стол не поставила.
– А кулич? – удивленно спросил усталый Христофор. Ботинки у него после долгой дороги были белыми от пыли.
– Я их все отдала цыганам, – спокойно ответила мать, и Христофор, растерянно повернувшись к ней, увидел на фоне стены тень ее головы с редкими волосами, заметил лихорадочный блеск в запавших глазах и понял, что на нее снова «нашло». – Я увидела на куличах крысу. Устроила себе гнездо из перьев и тряпья, – продолжала старуха спокойно и неторопливо, словно читала по бумажке все то, что утром рассказала Маккавею. – Все замарала. Я ее гоню: «Пошла прочь, негодяйка», а она глядит и вот-вот кинется на меня…
«Ненормальная», – мысленно произнес сын, никогда прежде не позволявший себе не то что говорить, но даже думать такое. Усталость и бессонница выбили его из колеи.
– Так, значит, отдала цыганам?.. А им ты о крысе сказала?
– Нет. И о червяке тоже…
Она продолжала рассказывать. В ее больном рассудке одно видение рождало другое. Крыса шевелила шершавым, словно посыпанным перхотью хвостом, гнездо шевелилось, точно оттуда вот-вот высунутся омерзительные мордочки крысят.
Учитель не слушал мать. Он распахнул дверь и окна (может быть, надеялся, что сквозняк развеет весь этот бред), чиркнул спичкой, затопил печь и пошел за котелком, чтобы нагреть для больной воды.
Маккавей лег у бабушки в комнате. Спать было рано, но что еще делать, если в доме все пошло кувырком. Отец поставил греть воду, и дно медного котелка шипело на печке; за стеной поскрипывала мамина кровать, потом все стихло – наверно, мама уснула; бабушка сидела у двери, смотрела на темную улицу и что-то бормотала под нос – может, сердилась на кукушку за то, что не прилетает, а может, осыпала проклятьями крысу, чей хвост снова примерещился ей в уголке шкафа…
Жесткий край одеяла касался щеки, голова тонула в подушке с шуршащими куриными перьями, мальчик ощущал в этом шуршании запахи сарая, где спали куры и все было белым от птичьего помета. Он поворачивался на спину, чтобы не чувствовать неприятного запаха подушки, но теперь куриным духом тянуло из-под сбитого ногами одеяла… Странно: ему казалось, что, если вслушаешься, – различишь под кроватью писк цыплят, а если нагнешься – увидишь приютившуюся у ножки кровати наседку, она распустила крылья и время от времени издает тихий, предостерегающий звук, а цыплята, высунув головки из-под крыльев, настораживаются.
Сон сморил его, и вместо наседки с цыплятами он увидел маму. Как она вошла? Ведь двери нет. И стены, у которой стоял шкаф, тоже не видно. Крыша дома висит в воздухе, а окна будто нарисованы на небе – ничего не соединяет их с домом, хотя они находятся там, где всегда… В этой огромной, без стен, комнате стоит один-единственный стул, и мама опускается на него. Выздоровевшая и такая красивая… Мама отдыхает, уронив руки на колени. Шелковое платье с узором из разных-разных цветочков – больше всего там оранжевых – чуть шевелится от дуновения ветерка. Но что у мамы в руках? Что-то округлое, похожее на те куличи, которые вчера стояли на шкафу. Может, мама спрятала их прежде чем они достались цыганам? Она сидит и улыбается. Ее лицо – под глазами и на лбу – усеяно коричневыми пятнышками. В точности такие же были у нее перед тем как у Маккавея родился младший братик. И сама она располневшая, как тогда. В ее молчании, в ее позе угадывается робкая ласка.
«Прячет кулич от бабушки и не знает, что в нем червяк…» – подумалось Маккавею. Его мысли блуждали по пустому дому и разбудили паука, закачавшегося на длинной, от неба до земли, паутине. Потом раздался скрип – словно кто-то царапал ногтем по стеклу. Мальчик оглянулся, но ничего вокруг не заметил. Тогда он снова повернулся к маме. Складки платья на ее коленях шевелились. Шелк сморщился, как будто его прожигали горячим угольком, и в черную дырочку просунулась голова червяка с белесыми подслеповатыми глазками. Это был, наверно, тот самый червяк, что испоганил куличи на шкафу. Глазки его зыркнули туда-сюда, обвели взглядом странный дом с подвешенной к небу крышей, и когда Маккавей шевельнул губами, чтобы окликнуть маму, которая спокойно сидела, ни о чем не подозревая, он заметил, что белесые глазки стали вдруг золотистыми и обрисовалась детская головка с локонами вдоль ушей. Он ожидал, что мама возьмет на руки диковинного ребеночка, но тут сверху послышался шум и он увидел кукушку. Она стремительно подлетела к окну, пронеслась сквозь стекло, не разбив его, как будто это было не стекло, а тонкая лента тумана, описала круг и устремилась к маме. «Сейчас вонзится коготками и унесет…» – испугался мальчик, но случилось другое. Кукушка, со свистом хлопая крыльями, пролетела низко над мамиными коленями и спустя мгновение унесла в клюве существо с белесыми глазками.
Маккавей открыл глаза, испуганный, с колотящимся сердцем. Вокруг царила непроглядная тьма. Лишь несколько звездочек мерцали за мокрыми стеклами окна. От страха хотелось закричать, но он удержался, боясь разбудить в соседней комнате больную мать. На стоящей рядом кровати мерно, с присвистом, дышала бабушка. Он подошел на цыпочках и шепнул ей на ухо: «Бабушка, ты ведь спрашивала меня о кукушке. Она летает по нашему дому, я видел, как она впорхнула в окно…»
Бабушка спала крепко, голос мальчика был бессилен вырвать ее из омутов сна. Уже привыкшим к темноте глазам Маккавея ее сухонькое, изборожденное морщинами лицо казалось твердым комом земли, потрескавшимся от немилосердных лучей летнего солнца…
Весна ушла. Бурные ливни сорвали цветы плодовых деревьев, а потом засияло солнышко, стало припекать по-летнему, и над всем поречьем поплыла серебристая дымка, которую в этих краях редко увидишь, разве что поздней осенью, когда с утра выпадает обильная роса и дымится до полудня под лучами солнца. Мама выздоровела, но после болезни возненавидела запах ванилина и поджаренного миндаля и в оставшиеся ей немногие годы жизни (кто мог предполагать, что все произойдет так внезапно: прободение аппендикса – и… конец) она ни разу не замесила теста для куличей. Прислушивалась к тому, как громыхают перед пасхой квашни за запотевшими от несусветной жары окнами соседних домов, смотрела, как дымят во дворах печи, и с усмешкой думала о человеческой ненасытности: этими приплюснутыми, пригоревшими в духовке куличами можно было накормить целую армию… Мама готовила для праздничного стола другие лакомства, и если кто из соседок приносил кусок кулича, она не подавала его на стол, а после обеда выкидывала кошкам.
Мальчик тоже выздоравливал. Кошмары, навещавшие его каждую ночь, пока хворала мама, да и позже, стали рассеиваться. Сны приходили радостные, светлые. Маккавей либо купался в реке с такой прозрачной водой, что было видно, как на дне заводей шевелятся тени ивы, либо гулял по омытой росою траве, и в каждой росинке отражались его рыжие волосы – куда бы он ни взглянул, перед ним вспыхивали робкие огоньки. С назойливым постоянством его сны посещала кукушка. Неожиданно вылетала откуда-то, ее пронзительное «ку-ку» эхом прокатывалось по котловине и долго не могло стихнуть. Маккавей забыл о крысе, не думал больше о червяке, который испоганил кулич. И лишь воспоминание о том, как кукушка промчалась над мамиными коленями, оставив в складках платья черный, точно прожженный сигаретой след, приводило его в трепет, нагоняло смутное предчувствие беды, которое закрадывалось в сердце, едва сон касался его век. Образ этой беспокойной, преследовавшей его птицы, чьи крики заполняли небо, связывался у Маккавея с мыслью о бабушке: стоило ему заслышать над головой шорох кукушкиных крыльев, как перед ним возникали устремленные вдаль старушечьи глаза, в которых светились ожидание и ненависть…
Уже давно выветрились из памяти бурные ливни, когда прибывшая вода подмывала берега Огосты. Погода установилась. На ранних черешнях уже появились первые розовые сережки, мальчишки, обдирая колени, карабкались на гладкие стволы, и губы их пряно пахли летом и черешневой смолой. Песни лягушек, ночи напролет оглашавшие озерки за рекой, стихли, оборвались. Подступало лето – с иными запахами и звуками более густыми и прочными, с иными птичьими голосами, – но среди заколосившихся нив под высоким небом по-прежнему царила песнь жаворонков. От заводей тянуло рыбьим запахом. По вечерам, когда закатное небо смотрелось в реку и тишина ощущалась не только в неподвижности водной глади, но и в пурпуре отражавшегося в воде неба, начинала резвиться плотва. Это значило, что лето уже близко.