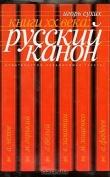Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Я приехал в Канаду и начал все сначала, – продолжал гость, привалившись к стене, и к его голосу примешивался скрип древоточца, трудившегося в стропилах над печкой. – Пришлось строить на пепелище, как говорится. Тогда там прокладывали линию железной дороги и я нанялся чернорабочим. Двенадцать часов под немилосердным солнцем размахивал киркой и лопатой. Мозги размякают, глаза не видят – кажется, еще секунда, и грохнусь наземь, но я твержу себе: «Не сдаваться! Малодушие – это гибель! Придет срок – распрощаешься с этим миром. Но зачем торопиться?» Вечером без сил валился в бараке на топчан, рядом с такими же, как я, бедолагами, а на другое утро, чуть свет, опять перекатывалась под ногами щебенка.
Вам это покажется странным, но мне по душе разрушение – дома, доверия, иллюзий – потому что человек при этом подвергается испытанию, и если выдержит его, победит малодушие, значит, достоин шагать по земле, и жизнь подарена ему не зря…
За годы, когда железнодорожная насыпь жгла и пекла меня раскаленной щебенкой, я приобрел небольшой участок возле новой линии. Лунными ночами, пока все прочие в бараке спали, я копал землю и сажал овощи – те, что росли на венгерской равнине. Урожай выдался такой, какой могли вырастить только мои руки, и я каждое воскресенье пешком, взгромоздив несколько ящиков с овощами на плечи, отправлялся в соседний городок на базар…
– И все началось заново? – учитель взглянул на него и встал подкрутить фитиль, потому что комнату заволокли сумерки, в которые пробился лунный свет, разреженный и призрачный, как развеянный по ветру пепел.
– Да, именно. И на сердце у меня была радость – не потому, что огород приносил отличный урожай и грядок все прибавлялось, а оттого, что я снова был при деньгах и пользовался на рынке уважением. Я был счастлив от мысли, что не сдался, что могу без угрызений совести смотреть себе в лицо, стоя утром перед зеркалом с бритвой в руке.
Именно тогда произошел случай, который заставил меня глубоко задуматься – ведь даже в самую счастливую минуту нельзя забывать, что все может вдруг оборваться, как оборвалась однажды жизнь крота, порубленного моей мотыгой… Я поливал помидоры и наступил босой ногой на что-то твердое. Внимания не обратил – решил, что это полегший стебелек. И нагнулся посмотреть, что там такое, только тогда, когда больно ужалило в лодыжку. Я отдернул ногу и понял, что наступил на гадюку. Истошно заорал – я с детства до смерти боюсь змей. Подбежали работники, которые полдничали под деревом неподалеку, убили гадюку, один из них присел возле меня на корточки (я упал навзничь), высосал из раны яд, я видел, как он выплевывает черную, точно деготь, кровь… Потом они на руках отнесли меня под дерево, и я лежал, ничего не чувствуя – змеиный яд начал действовать…
– Врача поблизости не было?
– Был. В городе. Но до города было не близко… Запрягли телегу, повезли меня туда. Это мне уж потом работники рассказали. А что видел я? Такое, во что и сейчас с трудом верится. Мой взгляд витал высоко в небе – так высоко, что земля виднелась, как из окна самолета. Я видел огород – грядки протянулись узкими зелеными полосами, будто нарисованные детской рукой. Видел телегу, на которой меня везли, возчика с кнутом, в соломенной шляпе, пегую спину лошаденки… И самое странное: я видел себя самого – штанины закатаны, руки скрещены на груди, голова откинута и мотается от тряски из стороны в сторону… «Господи, неужто это и есть смерть?» – думал я, а взгляд продолжал следить с небесной выси за дорогой, тополями по обочинам, тенями облаков на пашне. И тут услыхал я колокольный звон. Увидел купол храма, сложенного из серого камня, витражи, сверкавшие разноцветными огоньками, увидел реку, в которую смотрелся этот храм…
– Должно быть, сон… Странный сон… – произнес учитель, пытаясь в полумраке рассмотреть своего собеседника, но не смог различить ни глаз его, ни рук – лунный свет размыл силуэт на стене.
– Я тоже думал, что это галлюцинация, однако ошибся…. Потом, когда уже выздоровел, отправился искать тот городок и храм. И – хотите верьте, хотите нет – нашел! Та же площадь, которую я видел сверху, тот же купол с каменными фигурами святых, та же река, и детишки на берегу, а на полу храма отражения тех самых витражей. Все мне было знакомо – словно я давно жил в этих местах… Человек я неверующий, но обнажил голову и долго стоял в храме перед зажженной свечой.
Змея научила меня не упускать счастливые мгновения жизни – ведь ее ниточка может внезапно оборваться. Был я уже к тому времени в годах и не искал услады в том, что доставляло радость в юности. Я отправился странствовать по свету. Где я только ни побывал! Видел Голландию, когда цветут тюльпаны. Это что-то немыслимое – целые поля, точно костры, горят! Видел Венецию в канун Рождества. Гондола везла меня по темному каналу – сама тоже черная, как гроб, а за освещенными окнами дворцов виднеются празднично накрытые столы и сидящие за ними люди. Итальянцы очень пышно празднуют сочельник. У всех на столе фазаны. Когда я увидел это впервые, мне стало смешно – фазан лежал на роскошном фарфоровом блюде, как живой, – разноцветное оперенье на шее, крылья опушены, красные сережки у клюва. Потом украшения сняли и все принялись орудовать ножами и вилками…
– Вот так, приятель, – закончил гость свой рассказ. – Осталась у меня на старости лет одна радость – ездить по белу свету. Разыскиваю давнишних друзей, чтоб повидаться, но при каждой встрече понимаю, что езжу не для того, чтобы узнать, что в молодости упущено, чтобы навсегда проститься…
Давно перевалило за полночь. Если бы в селе оставались петухи, они бы уже возвестили приближение утра.
Тени деревьев укрыли большую часть поляны перед домом, но оставалось освещенное луной пятно, где поблескивала мокрая трава. Светился и невод, натянутый под навесом для просушки. Он висел распяленный, напоминая гигантскую паутину, и каждая ее нить была золотой.
А за неводом виднелась недостроенная лодка.
Пора было ложиться. Христофор Михалушев постелил гостю на кровати Маккавея, в другой комнате, а сам лег у себя – возле стола, где стояли неубранные тарелки и нетронутые стаканы с темно-красным, как для причастия, вином.
Через стену было слышно, как гость из Ванкувера раздевается (пряжка ремня билась о стул), потом кровать под тяжестью усталого человека скрипнула. Учитель, который привык к бессоннице и знал, что после всего услышанного и перечувствованного до утра не сомкнет глаз, думал, что гость тоже будет долго ворочаться в постели, однако минут через десять услышал его сонное, мерное дыхание.
Много месяцев подряд Христофор Михалушев слышал за этой стеной дыхание сына. Оно напоминало ржание коня, с чьих губ капает пена. Должно быть, неведомая сила ночью гнала душу Маккавея вверх по склонам и заставляла заглядывать в бог весть какие бездны – к громкому дыханию нередко примешивался зов о помощи…
Эта мысль вернула учителя к сыну, и он стал прислушиваться: хотелось уверить себя, что он слышит шаги Маккавея по траве. Повеяло немотой ветра, и ему стало грустно, что в эту долгую диковинную ночь мальчика нет здесь, что он не мог послушать рассказ человека, который странствует по свету, чтобы проститься со старыми друзьями… Как бы, наверно, радовался Маккавей, как ликовала бы его душа! Путешествия с детских лет были заветной его мечтой.
Болезнь все отняла у него…
Какие видения побудил бы в его воображении рассказ канадца о вечернем плавании на гондоле в канун Рождества?
Маккавей, вероятно, ясно представил бы себе трепетанье отраженных в канале огней, по которым проплывала гондола – неторопливая и черная, как гроб, который несут длинные руки этих огней. Перед его глазами проплыли бы богатые праздничные столы, широкие и светлые, как залитая луной поляна на берегу Огосты; он жмурился бы от сверкания люстр, а потом бы увидел, что на праздничных столах лежат фазаны – те самые, которых итальянцы убивали в зарослях его родного села: с золотистыми перьями, с синими кольцами на шее и рубиновыми сережками. Те самые – только не могут взлететь, хотя их пугает звяканье ножей и вилок, а недвижно, словно высиживая яйца, возвышаются на богатых фарфоровых блюдах, а над ними витают долетевший с канала легкий запах плесени и гниющей воды.
Христофор Михалушев знал, что, доведись мальчику собственными глазами увидеть все это, он бы не плыл безмятежно под мостами Венеции, плененный волшебными картинами ночи, а выскочил бы у первого же причала и кинулся спасать фазанов… Стучался бы в массивные деревянные двери, и дома наполнились бы гулом; бил бы в ладоши, чтобы вспугнуть фазанов, указать на распахнутую дверь, через которую можно улететь, взмыть над улицей и спастись…
Празднично одетые люди цепенеют, увидав у себя в доме рыжеволосого незнакомца в сандалиях, в выгоревших на коленях холщовых штанах, с лихорадочно сверкающими глазами. Пока Маккавей растолковывает им на своем, непонятном для них языке, что эти фазаны выросли в его родном селе, на его родном дворе, что он любовался ими по вечерам, когда они взлетали в небо, точно золотой дым из труб умерших домов, пока он все это растолковывает, в дверях появляются двое – должно быть, вызванные по телефону. Вежливо кланяются хозяевам и своими сильными руками хватают незнакомца, ворвавшегося в чужой дом. Маккавей вскидывает голову, смотрит на них и видит, что это те итальянцы, которые шагали по дворам его родного села и палили из ружей, опьяненные удачной охотой… Он хочет вырваться, но стальные пальцы вызванных по телефону людей все крепче впиваются в его запястья.
И вот его ведут по праздничному городу, под ликующий гул колоколов – ведут туда, куда отводят всех, чья душа не умеет защититься ничем, кроме порыва искренних чувств и правды…
Христофор Михалушев мысленно рисовал себе эту картину и не сомневался, что все произошло бы именно так…
Как мерно и покойно дышал спавший за стеной человек! На незнакомом месте, в чужой кровати, – а будто у себя дома. Учитель думал о том, что случись ему оказаться в тех далеких краях, откуда приехал его гость, он не только чувствовал бы себя неловко под чужой крышей, но долго ощущал бы ночью все складки постели, все шорохи на полу. И часы на стене тикали бы невыносимо громко.
Всю жизнь он старался не причинять никому неудобств, хотя это и создавало неудобства для него самого. Он замечал мелочи, которые мог бы оставить без внимания, размышлял над ними, воображение увеличивало их, а они камнем наваливались на его душу.
Эта болезненная чувствительность, которая могла бы быть плодотворной для человека, посвятившего себя кисти или перу, для скромного сельского учителя была тяжким бременем, потому что она рождала не творения духа, воплощенные на бумаге или холсте, а лишь мгновения обычной человеческой жизни, которые или не замечались окружающими или же быстро исчезали из памяти. Но учитель нес эту ношу с мучительной радостью матери, несущей на руках свое дитя – из-за неблагосклонности судьбы некрасивое и все же дорогое сердцу…
Эту свою драму Христофор Михалушев передал – вместе со своей кровью – душе сына…
Те, кто мало знал душу Михалушева, относились к нему с опаской. В их глазах душевная болезнь означала буйство, неосознанные поступки, внезапные порывы, тогда как душа Маккавея походила на лес, взбудораженный ветром. Для уха, не умеющего сосредоточенно слушать, от леса исходил ровный, глухой и пугающий шум. Но тот, кто умел вслушаться в музыку осеннего леса, подобную музыке большого оркестра, – тут и флейты, и фаготы, английские рожки и медь, литавры и барабаны, – тот распознавал голос каждого дерева, а у деревьев не только разные голоса, они придают музыке глубину… Такой человек может уловить даже легкий стук дождя по листьям и шорох возвращающегося в свою нору ежа.
Душа Маккавея была похожа на хмельной от солнца лес, полный необычных звуков, с притаившимися в корнях змеями, лес, доверчивый к птицам и беззащитный перед топором…
Луна скрылась. На минуту-другую наступила полная тьма, а потом небо над ивами стало бледнеть.
Близился рассвет.
Путешественник из Ванкувера все так же тихо и размеренно дышал за стеной. Ни разу не перевернулся на другой бок, словно был прикован к кровати.
Вспоминая его рассказ, Христофор Михалушев размышлял над нелегкой судьбой этого человека. Душа старого огородника тоже была больна, но он не давал лишаю, губившему Маккавея, вцепиться в нее своими щупальцами. Вырывал его загрубелыми от мотыги пальцами – так безжалостно, что даже слеп от боли – и вместе с лишайником выбрасывал кусочки своей души, подобно тому как выбрасывают за ограду выполотые сорняки.
Ему удалось спасти себя потому, что он был сильным человеком, хотя шупальцы лишайника оставались в нем и ждали часа, чтобы снова оплести его душу.
День неудержимо приближался. Небо сверкало так, будто его подожгли.
«Хорошая будет погода», – подумал учитель и ощутил какое-то незнакомое прежде спокойствие. Быть может, оно было навеяно мыслью о человеке, случайно навестившем его дом, – человеке, который к вечеру уедет – навсегда! – и Христофор Михалушев увидит, как поблескивает сквозь заднее стекло машины его бритая голова, а глаза, под которыми подрагивают лиловатые мешки, дружески улыбаются, и в них светится искорка печали, которую даже самый сильный человек не может скрыть в минуту прощанья…
Гость уехал и дом совсем опустел.
Христофор Михалушев привык к одиночеству, научился переносить его. В часы, казавшиеся особенно нескончаемыми, он принимался за какие-нибудь дела или же обращался к воспоминаниям, которые давали ему опору и возвращали душевное равновесие.
Он был потрясен тем, что Маккавея поместили в лечебницу, ему ведь казалось, что Маккавей уже выздоравливает. С каким старанием, с каким душевным спокойствием мальчик с самого раннего утра трудился над лодкой, помогал столяру, несколько раз приезжавшему вместе с Муни! Они вместе собрали шпангоуты и киль (учитель тоже помогал при этом), прикрепили поперечины, и силуэт лодки уже начал явственно очерчиваться, похожий на большую, распластанную рыбину.
Если бы не злосчастная стычка с трактористами, если бы Маккавей не бросился спасать от их плугов цветы и виноградные лозы, жизнь текла бы все так же мирно и покойно, и через некоторое время отец и выздоровевший сын вернулись бы в город и зажили как все люди, занятые своими радостями и заботами. Маккавей нашел бы себе занятие (Муни взял бы его себе в помощники), позабыл обо всем пережитом, и домик на берегу Огосты лишь изредка являлся бы ему во сне…
Все могло бы окончиться так, но, увы, надежды не всегда сбываются…
Сын уехал и не давал о себе знать.
Вот уже лето позади, осень и та незаметно подходит к концу, на деревьях не осталось ни листика, а от Маккавея по-прежнему ни строчки…
Иногда учитель подумывал, не запереть ли дом, не поехать ли к нему. Не бог весть как далеко это Карлуково, о котором чего только не рассказывают: что окна там зарешеченные, что буйных ремнями прикручивают к койкам, а есть среди больных и такие, которые целыми днями стоят, раскинув руки – они воображают себя распятыми и твердят, что снять их с креста некому.
«Маккавей не такой, – думал отец, – он тихий и добрый. Врачи полюбят его, ведь он и сам всем сердцем привязывается к людям, они будут жалеть его и сделают все возможное, чтобы поскорее вылечить…»
Он подумывал о поездке, но все откладывал ее, потому что надеялся получить от сына письмо. Вдруг мальчика повезли куда-то в другое место? Говорят, такая же лечебница есть и в Ломе. Со дня на день ожидал он, что приедет Муни и привезет письмо. Всходило солнце, но день не приносил никаких вестей. Наступал следующий день – и тоже не приносил ожидаемой весточки…
Учитель осознавал, какие голые, безлюдные пространства времени остались позади, когда обращался к первому дню своего ожидания и различал его далеко-далеко на горизонте, похожий на деревце в цвету. А рядом с собой видел лишь голые ветки – яблоки попадали наземь, и пожелтевшие листья прикрыли их… Значит, пока он ждал вести от сына, перед его глазами незаметно прошел весь путь плода: казалось бы, только-только раскрылись почки, а вот уже вороний клюв долбит на земле яблоко…
В комнатушке Маккавея валялись на стульях его вещи, но отец не убирал их, потому что эти рубахи и вытянутые на локтях свитеры, все еще сохранявшие форму его тела, не давали померкнуть надежде на скорое возвращение сына. Старый учитель по собственному опыту знал, что одежда, как и люди, умеет ждать и радоваться сверканием пуговиц и веселым потрескиванием швов, когда к ней прикоснется тот, чье тепло она берегла в своих складках.
В первые дни после отъезда сына учитель чувствовал такую боль, что ему хотелось выйти в поле и кричать, кричать… Вокруг – ни души, никто бы не услыхал и не стал бы разносить по поречью весть, что учитель не в себе… Только жаворонков напугал бы он своим воплем, да и то ненадолго – они снова взмыли бы в небо, отряхнув с крыльев пепел его горя… Потом он решил вернуться в город – что ему тут делать одному? И уже взялся собирать свои пожитки, но тут взгляд упал на недостроенную лодку с потемневшими ребрами. Он подошел к ней, и под ногами заговорили стружки, настроганные рубанком сына.
Лодка стояла перед ним, как живое существо. Она помнила руки Маккавея, ласково и заботливо прикасавшиеся к ней; помнила беседы двух друзей, склонившихся над чертежом, и тонкие, нервные пальцы столяра, который скреплял доски, зажав гвозди в зубах, прятавшихся за негустыми светлыми усами.
Мысли учителя о сыне постепенно соединялись с мыслью о лодке.
Если ночью начинался дождь, он вставал проверить, не заливает ли ее под навесом. Заметив на досках освещенную его фонариком струйку дождя, он чем-нибудь накрывал их… Он понял, что если вернется в город, оставив лодку без присмотра – на милость дождей и цыган, которые, конечно, разрубят ее на дрова, – то предаст не только сына, видевшего в этой лодке спасение для своей души, предаст собственную совесть.
И он остался здесь – с сознанием, что совершает нечто важное и достойное…
Через два дня после того, как увезли Маккавея, в окно постучали. Дело было в полдень, но учитель еще не вставал – ему нездоровилось. Приподнявшись, он увидел в углу окна сверкающую кокарду Лесного Царя. Ему стало неприятно, что эта лиса опять притащилась сюда, но он не выдал своей досады. Сунул ноги в сандалии, поздоровался за руку, предложил сесть. Лесной Царь прислонил карабин к двери, взглянул на бледное, небритое и потому еще более старое лицо учителя и сказал:
– Прослышал о том, что стряслось с Маккавеем, и пришел проведать тебя. Как же это, учитель? Кто мог сотворить такую подлость? Тяжко тебе, я смотрю. Еще бы, родная кровь…
Он нагнулся и поцеловал старика в щеку.
Христофор Михалушев не ожидал такого от Лесного Царя и отпрянул только тогда, когда почувствовал на щеке сухое прикосновение его обветренных губ. Ему почудилось, что если он оглянется, то увидит темнеющие деревья Гефсиманского сада и услышит шаги стражи по траве. Но он не оглянулся, и в его глазах расплылись желтоватые зрачки лесника, над которыми сверкала во всем своем великолепии фуражка зеленого сукна, точно корона, водруженная на крупную мужицкую голову.
– Разве ты ни при чем? – впился в него взглядом учитель. – Ведь ты был там? Ведь это ты привел трактористов и велел им перепахивать все подряд – цветы и виноградные лозы?
– Я только выполнял чужой приказ…
– «Выполнял чужой приказ», а сам пошел в город и сказал там, что у Маккавея помутился разум и он проламывает трактористам головы… Может, еще и добавил, что он бросается на них с ножом?
– Да я ничего не видел! Я был на другом краю села, там тоже будут все рубить и перепахивать.
– Знаешь, отчего Маккавей заплакал и кинулся наперерез тракторам? Вы топтали цветы, которые он любил, за которыми ухаживал… Вы же могли перепахать село позже, когда они отцветут. Тогда ему не было бы так больно. Даже если надо что-то посеять, то все равно это будет не раньше осени…
– Я, дорогой, отвечаю только за лес, охоту и рыбную ловлю. Кто когда что сеет – забота не моя.
– Не нашел доброго слова, не успокоил мальчика, а сразу помчался в город, чтобы предать его… Скажи ты ему что-нибудь по-человечески, он бы опомнился и повернул домой.
– Сроду я никого не предавал! Я только не даю спуску тем, кто нарушает букву закона! – Лесной Царь сердито посмотрел на него и потянулся за своим карабином – видно, собрался уходить. – А ежели твой сын запустил в кого камнем, то не моя забота притягивать его к ответу. Найдутся другие…
– Ты предал его! И приходишь, как Иуда, целовать меня, чтобы замести следы…
– Да, может, оно и к лучшему, что кто-то пошел и сказал про него! Подлечат парня – не в тюрьме, небось! – и вернется здоровехонек.
– Вернется. Обязательно вернется… Но только в тебе никогда не будет ничего человеческого… Живучая же у тебя душа, лесник, если после всего зла, какое ты причинил людям, ты все еще жив-здоров и совесть не заела тебя, как ржавчина разъела вот эту печку…
Лесной Царь вышел, хлопнув дверью. Приклад карабина стукнулся об нее с такой силой, что чуть не сорвал замок.
И опять потянулись дни.
Жаворонки допели все свои песни, небо вдруг онемело и выцвело от летнего зноя. Появились светлячки. Сначала это были всего два огонечка – прилетели с реки и закружили над домом. Христофор Михалушев решил было, что это искры из дымовой трубы, но потом увидел, что от берега Огосты приближаются все новые светящиеся точки и кружат в темноте, вычерчивая легкие золотые спирали, будто кто-то разрисовывает ночное небо, вспыхивают и гаснут через равные промежутки, словно кому-то посылают сигналы. Светлячки безмятежно порхали над домом, оплетали золотыми нитями сидевшего на пороге человека, домик, ивы, речные броды, и Христофору Михалушеву было любо прикосновение этих светлых крупинок, которые через неделю исчезнут в ивняке и появятся лишь на другое лето – если он доживет, то доведется снова полюбоваться ими…
Однажды вечером в танец светлячков вплелись огоньки фар – приехал Муни, привез долгожданное письмо. Учитель разволновался, дрожащие руки долго не могли распечатать конверт. Он надел очки, поставил на подоконник лампу, склонился над листком, и глаза с тревогой заскользили по строчкам.
Маккавей писал, что чувствует себя хорошо. Окно его комнаты выходит на железную дорогу. За нею видна река. Поезда всю ночь гудят и не дают уснуть, но он рад им: когда поправится, они отвезут его домой. Он рассказал врачам о том, что начал строить лодку, и те обещали поскорее вылечить его, а то чего доброго цыгане растащат доски под навесом…
Передав привет Муни и спросив, не приезжал ли столяр закончить обшивку, Маккавей на целой странице расспрашивал про лодку – мочит ли ее дождем, прибраны ли доски в сухое место, там ли еще рубанки или столяр забрал их…
«Мне однажды приснилось, что ночью, пока ты, отец, спал, кто-то порубил лодку топором и разбросал доски по поляне, – писал под конец Маккавей. – Я, наверно, плакал во сне и кричал, потому что увидал над собой доктора, который спросил, что со мной. Я ответил: мне приснилось, что кто-то порубил мою лодку. – Никто ее не тронет, – сказал он, – раз там твой отец. Я знаю, как привязаны старики к тому, что им дорого. Успокойся. Лодка будет стоять целехонькая и ждать твоего возвращения. А может, ты и меня с собой захватишь – покатаешь по озеру…
Пиши мне. Ты знаешь, как я люблю длинные письма. С нетерпением жду часа, когда вернусь домой.
Твой Маккавей».
Учитель сложил мелко исписанные листки и долго сидел молча.
Сын почти ничего не рассказывал о себе: какие люди окружают его, вправду ли есть среди них такие, кого пристегивают ремнями к кровати, как его лечат – делают уколы или принимает таблетки, выпускают на прогулки или держат взаперти… Ни слова не написал о том, что тревожило отца, а только расспрашивал о лодке.
Учитель угадывал между строк, да и по рассказу о ночном кошмаре было ясно, что единственной мечтой Маккавея и единственной надеждой на спасение была недостроенная лодка. Получая от отца добрые вести – что столяр по-прежнему приезжает, что Муни купил смолу, которой пропитают весь корпус, Маккавей окрепнет духом и, шаг за шагом, выберется из трясины болезни. А если отец переберется в город, кинув все на произвол судьбы, рухнет надежда в душе Маккавея, как в весеннее половодье обрушивается подмытый берег Огосты. Тогда может случиться непоправимое, ведь отчаявшийся человек способен прийти к самому ужасному решению…
И Христофор Михалушев остался стеречь лодку и ждать возвращения сына.
Дни текли. Суслики уже перетаскали в норы последние колоски, и не видно стало на жнивье этих коричневых зверьков, похожих на колышки, какие вбивают в поле, чтобы привязывать скотину… Жнивье вспахали. Зарядили дожди. Почва сначала набухла, потом пропиталась влагой и засверкала жирными комьями, отполированными лемехом плуга. Смолкло птичье пенье. Случалось, в обнажившихся кустах чирикнет крапивник или синичка, а после битый час не слышно ни звука, разве что ворона всплеснет крылом или плюхнется в воду скатившийся с берега камешек. Поредели и ночные звуки. Даже филины, ухавшие весной и летом чуть не до самой зари, теперь примолкли, где-то в чаще леса. Под печкой в комнате Христофора Михалушева поселился сверчок, но он тоже примолк. Перестали возиться под стрехой воробьи. Они шумно и непримиримо дрались, когда выбирали себе подругу и вили гнезда, а теперь упорхнули и больше не возвращались…
Остался – все так же неотделимый от окружающей природы – только шум реки. Он был по-прежнему ровный, как примитивная мелодия, которая сперва раздражает слух, но постепенно ухо привыкает к ней, и она начинает нравиться. Сейчас, в часы поздней осени, эта мелодия звучала особенно мягко и нежно, потому что пробивалась сквозь палую листву, покрывшую заводи и камни на речных бродах.
Осталось также поскрипывание потолочных балок. Прежде учитель почти не замечал его, а если и прислушивался к скрипу дерева, то думал, что это шевелятся черепичины на крыше, по которой гуляет ветер. Теперь, когда сон приходил лишь поздно ночью и учитель мог, не отвлекаясь, вслушиваться и распознавать все звуки, он понял, что в балках орудуют черви-древоточцы. Скрип был негромкий, постоянный, упорный, будто кто-то на чердаке перепиливает решетку, за которую он посажен, пилит безостановочно, а железо сопротивляется его руке. Сколько их, этих древоточцев – один или много? Неужели это скрипят все балки разом?
Ему почудилось, что звук перемещается, что скрип доносится со стороны навеса. Неужели древоточцы принялись и за доски, предназначенные для лодки? Слух не обманул его – скрип и впрямь доносился оттуда.
Он встал, зажег фонарь и вышел.. Осенняя ночь обдала его влажным ветерком. Свет фонаря скользнул по траве, и на стене под навесом обрисовался остов лодки. Едва раздались шаги человека, как звук оборвался, и пока учитель стоял возле лодки, ничего не было слышно. Он осмотрел ее всю – ребра, поперечины, киль – и нигде не обнаружил следов древоточца. Вернулся в дом, лег и снова услыхал протяжный звук – оттуда, из-под навеса!..
«Обязательно найду его, налью в дыру керосина и покончу с ним!» – пригрозил сморенный дремотой учитель, задул фонарь и ощутил щекой влажное прикосновение одеяла…
День наступил поздно, словно добирался на рейсовом автобусе через дождливый перевал и на одном из петроханских виражей меняли лопнувшую покрышку. Было пасмурно, туманно, мелко моросил дождик, ощущавшийся больше обонянием, чем зрением. Учитель при дневном свете не обнаружил древоточца. Он понял, что ночью слух обманул его – скрип доносился с чердака. Покрутился возле лодки (ее не замочило водой), сложил доски вдоль стены, чтобы не погнулись, и сел за письмо Маккавею.
Он расскажет сыну, что лодка в полной сохранности и ждет его, что он каждый день заглядывает к ней и, как только погода установится, Муни привезет мастера и работа возобновится. Напишет про разные забавные случаи, например, про лису, которая опять набралась блох из рубахи Лесного Царя, валявшейся на берегу, пока тот купался в реке.
Осенняя мгла все больше сгущалась – это значило, что близится вечер. Сильнее застучал дождь по крыше. Подул холодный ветер, дали запахли снегом. Христофор Михалушев посмотрел в окно, и перед глазами закружились снежинки. Они прилетели с реки – откуда в июле прилетали первые светлячки, плясавшие так же грациозно и плавно.
«Неужели так быстро подошла зима?» – подумал учитель и зажег лампу.
И увидал целый рой освещенных огнем снежинок, они внезапно закружились за окном и облепили его мелкими прозрачными капельками…
Вроде бы падал снег, а небо неожиданно прояснилось. С крыши закапало, возле навеса звякнула какая-то железяка: «дзинь, дзинь, дзинь» – как-будто где-то далеко косарь отбивал косу, и Христофор Михалушев проснулся. Посмотрел на окно. Туман был негустой и влажный. Сквозь пепельно-серую завесу отчетливо проступали очертания холмов, покрытых снегом, наверно, совсем тонким, потому что сквозь него просвечивала вязь обнаженных деревьев. Мгла казалась гуще внизу, над поречьем. Подняв взгляд к небу, учитель увидел, что оно ясное, тихое, как в самые дивные августовские ночи. Глаза искали знакомые с детства созвездия, и он находил по обе стороны Млечного Пути Орион, Большую Медведицу, Волопаса, Большого и Малого Пса… Небо было гладким, примолкшим… Наверно, такой же будет вода, которая зальет наше поречье…» – думал учитель, и далее звезды казались ему рифами, прорвавшими безбрежные пространства воздушного океана…
Глаза старого учителя затуманились – то ли от света звезд, то ли от навалившейся снова дремоты, и сквозь узенькую щелку сомкнутых век он увидел лисицу. Она пересекла двор, подошла, озираясь, к навесу, обнюхала доски, потом повернула к дому, встала на задние лапы и заглянула в окно. Христофор Михалушев смотрел на ее острую морду, вырисовывавшуюся на фоне неба, смотрел в ее глаза, желтоватые и цепкие, как у Лесного Царя, и покашлял, чтобы прогнать ее, но лиса не тронулась с места.
Звон водосточной трубы усилился, и учитель увидел, что снег начинает оседать, исчезает с веток деревьев, с полянки перед домом, с берега Огосты. Поречье потемнело – брал верх цвет мокрой земли, но небо оставалось таким же глубоким и ясным.
Впервые за свою жизнь Христофор Михалушев видел, чтобы снег таял не от солнца, а от света звезд.
Он услыхал шаги, посмотрел в сторону навеса и увидел сына. Когда же он вернулся, почему не дал о себе знать?.. Сын был без шапки, в больничном халате, на босых ногах те же сандалии, в каких его увезли в лечебницу. Неужели сбежал оттуда, или уже выздоровел и его отпустили? Но почему не предупредил о приезде, чтобы отец встретил его на вокзале? Как добирался один, в темноте, по снегу, в сандалиях на босу ногу?