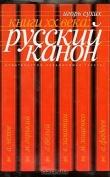Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
У сельских ребят были любимые заводи, где они обычно купались. Одна из них находилась на западном краю села – неглубокая, с дном, устланным мелкой галькой. В том месте, где она подступала к карстовым склонам холма, вода всегда была холоднее – там бил ключ. В этой заводи купались ребятишки поменьше. Вода была им по грудь, и неумелые пловцы могли без всякой опаски не только окунаться с головой и елозить по дну с открытыми глазами, наблюдая, как мимо проносятся золотистые рыбки, но и прыгать со скалы туда, где поглубже, зачастую обдирая о песчаное дно носы и лбы.
Другая заводь лежала у железнодорожного моста. Вклинившись в глинистый берег, она переходила в большую подводную пещеру. Высокая осина, которая еще удерживалась на берегу, хотя река долгие годы подмывала ее корни, затеняла заводь – и то ли из-за глубины, то ли из-за зеленоватых сумерек, струившихся сквозь ветки старого дерева, заводь всегда казалась темной.
Каждый год в половодье глубина заводей менялась. Там, где прежде было мелко, вдруг обнаруживались ямы, возникали водовороты. А где год назад темная толща воды отпугивала детвору, дно заволакивало тиной, и нанесенные вешними потоками камни заполняли подводные пещеры. На месте прежних пугающих глубин лениво шевелились пескари, и было так мелко, что с берега можно было разглядеть крохотные пузырьки воздуха над их жабрами.
Своими повадками заводи напоминали людей. Они могли быть дружелюбными, тихими и внимательными или же приманивали улыбкой, пряча в ней подлость и коварство. Взрослые знали переменчивый нрав реки и доверялись ей с оглядкой. Дети же поступали иначе: чувство у них побеждало рассудок. Они были порывисты в своих желаниях и поступках, и жизнь подносила им горькие уроки, открывала глаза, учила видеть обманчивость улыбки, обещания, душевного слова. Наступал час, когда они переставали доверяться, в их сердцах поселялось сомнение – признак того, что детство уже позади.
Заводь у железнодорожного моста всегда манила к себе Маккавея. Он с самых ранних лет купался в ней – там, где помельче, и любил смотреть, как старшие мальчики ныряют в подводные пещеры, а потом, сопя и отфыркиваясь, выбрасывают на песок усача или кленя. В этой заводи цыгане купали лошадей, и мальчик догадывался, какая там глубина, по тому, что лошадь, вступив в воду, сразу исчезала с головой, и только кончики ушей шевелились на поверхности. Голые тощие цыгане, чьи темные тела, казалось, прокоптились у таборных костров, верхом въезжали в заводь и сползали со скользких лошадиных спин в воду, увертываясь от сопящих морд с грозно сверкающими плоскими зубами.
Поговаривали, что на этот раз после весеннего половодья заводь совсем обмелела. Те, кто успел искупаться там, рассказывали, что вода едва доходит до подмышек. «Противно барахтаться в такой луже!» – с презрением говорили дети постарше.
Однажды в начале июля, когда солнце нещадно пекло и в воздухе стоял запах разогретой воды, ряски и рыбы (для жителей поречья этот запах всегда связывался с ребячьим гомоном на реке, с вздувающимися на ветру детскими рубашонками, что валялись тут и там на песке). Маккавей направился к заводи у железнодорожного моста. Там река делала поворот. Вода пенилась вокруг камней пологого брода и билась о глиняный берег, даже теперь, в летний зной, не отказывалась от намерения подмыть корни старой осины. Вода словно долбила их серебряным долотом, из-под которого вылетали искры.
Когда Рыжеволосый подошел к заводи, там никого не было. Должно быть, мальчишки подались туда, где поглубже. Возле нижнего брода он заметил двух рыболовов. Закрепив удочки на берегу, они ходили по воде, ощупывая камни, время от времени у них в руках мелькала рыбешка. «Попадись они сейчас на глаза леснику, сразу пришлось бы уносить ноги», – подумал Маккавей, и рыбаки, наверное, думали о том же, потому что украдкой поглядывали в сторону ивняка. Однако строгий блюститель закона не появлялся. Заводь сверкала отражавшимся в ее глубине солнцем – сверкала так, что сама, как в зеркале, отражалась в листьях нижних веток осины. Маккавей, зачарованно слушая плеск воды, стал раздеваться. Придавив камнем снятую одежду, чтобы не унесло ветром, он вошел в воду и через несколько шагов ощутил границу между освещенной частью заводи и той, куда падала тень осины. Темная гладь воды обдала его холодом – он нырнул, чтобы поскорее привыкнуть к этому ощущению, которое миг спустя превратится в ласковое прикосновение волн к щекам и в слепящих глаза солнечных зайчиков.
Он продвигался в воде спокойно, уверенный в том, что заводь после паводка обмелела. Песок шевелился под ногами, затягивая в глубину. Зубы стучали от холода, прозрачная вода со всех сторон обволакивала мальчика своими струями, похожими на стайки мелких, скользких рыбешек.
Рыболовы заметили мальчика – его волосы пламенели над гладью воды, – но спокойно продолжали обшаривать камни. И, наверно, еще долго выискивали бы шевелящихся усачей, если бы не услышали испуганный вопль и не увидели, как две руки тщетно пытаются ухватиться за свисающие корни осины – водоворот затягивал их в темную пасть омута…
Торопливо скинув с себя одежду, они бросились в воду. Их мигом подхватило водоворотом и потащило под корни – туда, где исчез мальчик…
Уже смеркалось, когда спасенный Маккавей побрел домой. Ноги подкашивались, он впервые почувствовал, как неустойчива под ним земля: она качалась, прогибалась и уходила из-под ног, точно песок на дне заводи, казалось, вот-вот разверзнется пропасть и он бесследно исчезнет в ее пасти…
Озаренные закатом деревья отбрасывали тени – более темные на дороге и высветленные на зреющих хлебах у подножия холма. Маккавей слушал крики сов, провожал глазами низкий полет ласточек над рекой и пытался не думать о происшедшем, но оно упорно вытесняло из головы все остальное. Мальчик ощущал струю воды, ножом воткнувшуюся в горло, и шевеление песчаного дна, неожиданно выскользнувшего из-под ног, чтобы швырнуть его в мрак подводной ямы.
Маккавею случалось пугаться змеи или собаки, он знал, что такое страх, и умел преодолевать его – прибегая к хитрости или пускаясь наутек, но теперь страх был совсем другой: уставясь на него немигающими зеленоватыми глазами (быть может, то были глаза какой-нибудь огромной рыбины?), страх следил, как он беспомощно барахтается, подхваченный водоворотом, как его опутывают корни, и этот холодный взгляд леденил кровь… Маккавею было тогда десять лет, он еще не знал страданий, если не считать простуженного горла или кашля, из-за которых в зимние морозы его неделю-другую не выпускали из дому. Теперь же он впервые узнал, что бывают страшные мгновения, когда жизнь висит на волоске, слово с м е р т ь впервые вселило в него ужас…
Смерть навалилась на мальчика режущей болью от хлынувшей в горло воды, ощущением бездны под ногами, оглушительным свистом в ушах; красные корни осины, точно щупальца осьминога, закачались перед его остановившимся взглядом… Миг – и все эти ощущения исчезли, осталось лишь зрение, но он видел все в искаженном виде: и корни, и шныряющих вокруг рыб, и блики солнца в толще воды. Подлинные их очертания надламывались, напоминая разноцветные стекла в окне церкви; их острые края кололи его.
И такой же острой болью пронзило его прикосновение рук, вытаскивавших его на берег…
Он не помнил, как долго пролежал на песке. Очнувшись, увидел склонившихся над ним рыбаков и замер от страха. У обоих лица были белее мела, руки тряслись. И это больше чем пережитое под водой (все произошло так мгновенно) подсказало ему, что с ним случилось и чем бы все могло кончиться, не окажись поблизости этих людей.
Он побрел домой. Темное пятно на берегу, где он только что лежал, долго не исчезало, несмотря на жаркое солнце. – так глубоко вода пропитала песок. Маккавей шел медленно, то прикрываемый тенью деревьев, то ослепляемый пробивавшимся между стволами закатным светом. Он чувствовал странную пустоту внутри: как будто водоворот, швырнувший его о глинистый берег, что-то сдвинул у него в душе, смыл слой почвы и оттуда, точно пористая известковая скала, выступил страх. Земля продолжала качаться под ногами, казалось, она вот-вот расступится и поглотит его.
Тени деревьев на дороге пугали его, напоминая огромные трещины. Мальчик перешагивал через них, ему казалось, что стоит ему сделать неверный шаг, как он свалится в пропасть.
Прошло время. Маккавей думал, что этот случай померкнет в его памяти, исчезнет в груде других впечатлений, как в засушливый год почти вовсе исчезают выпитые сухими песками воды Огосты. Он ошибся. При виде ребячьей одежонки на берегу какой-нибудь заводи и голых мальчишек, при всплесках подернутой ряской воды под животами ныряющих с берега детей Маккавея бросало в дрожь. Словно он не стоял в этот жаркий полдень на берегу, глядя, как плещется в воде намучившаяся в школьных классах детвора, а раздевался, оставлял на песке одежду и шел к реке. Но заводь, которой касались его ноги, была иной: вода темнела, застланная тенью старой осины, подводная яма глухо и грозно гудела, и кожа покрывалась мурашками от прикосновения набегавших волн…
Мальчики, гомоня и вскидывая руки, исчезали в воде (наверно, ложились на спину, чтобы обмануть других, – дескать, вот как здесь глубоко), а он слышал не их гомон, а свой испуганный вопль. Вода захлестывала горло, вспарывая его, как нож.
Пережитый ужас не забывался, в памяти сами собой воскресали увиденные тогда картины, тут же вытесненные страхом, который тогда сделал воду черной, как деготь, чтобы заслонить ему глаза этой вязкой чернотой. Теперь же Маккавей явственно видел корни осины – красноватые, густо переплетающиеся, чуть побелевшие на концах, чувствовал, как убегает из-под ног песок, как разверзается бездна, в которую он падает. Горло горит от проглоченной воды, а на самом толстом корне осины шевелится та самая крыса, которая много лет назад свила гнездо на пасхальных куличах. Маккавей видит ее посеребренное речной пеной брюхо и острый кончик хвоста, слегка подрагивающего от речного течения. Крыса тоже смотрит на него и не собирается ни нападать, ни спасаться бегством. Молча следит за схваткой между мальчиком и смертью, и только сверкание глаз выдает сатанинскую радость, какую испытывает эта вцепившаяся в корень, ненавистная Маккавею тварь…
Шли годы, а рана в душе Рыжеволосого не затягивалась. Возможно, требовался лишь один нечаянный толчок, чтобы корочка на ней затвердела и отпала, но случай не подворачивался. А им мог бы стать шум прибывающей реки, от которого дребезжат окна, пробуждая в сознании Маккавея музыку мельничного желоба. Или моросящий дождь, что чуть слышно стучит по крыше, и черепичины отзываются, каждая по-своему, потому что одни – поновее, их обожженная до сиреневого цвета глина позванивает, а другие лежат на крыше с незапамятных времен, поросли мхом, и стук дождевых капель по ним мягче и глуше…
Еле различимый стук и сейчас разносился в ночном небе. Маккавей лежал с открытыми глазами. В комнате было так темно, что потолок, в иные ночи выглядевший опаловым, как Млечный Путь в августе, теперь казался сотканным из непроглядной тьмы, тугой и мохнатой, как тюк козьей шерсти. Устремив глаза в темноту, Маккавей подумал сперва, что слышит шум дождевых капель, но потом понял, что это шуршит под чьими-то ногами песок. Защекотало ступни – песчинки выскальзывали, шевелились, как живые, и ему стало ясно, что не кто-то, а он сам приближается к той заводи. Земля качается, словно под ней трясина, песок бессчетными изгибающимися змейками разбегается по ее поверхности, твердый слой почвы становится все тоньше, вот он раскалывается, и мальчик падает в разверзающуюся бездну…
Где-то прокуковала кукушка – та самая, которая влетела к ним в дом, когда бабушка спала так крепко, что и не заметила ее. Он пошарил в кармане, проверяя, есть ли там монетка – есть! – и стал считать глухое и гулкое «ку-ку, ку-ку!». Сколько же лет он проживет на свете? Ответить он не успел, потому что глаза засыпало песком. Хотел закричать, позвать на помощь, но стон комом засел в горле, и он проснулся.
Маккавей выглянул в окно. Пелена, затянувшая небо, прорвалась, и в тонкую трещину он увидел мокрую, вздрагивающую от холода звездочку.
…В полночь над домиком на берегу Огосты снова заморосил дождь. Учителя разбудил не столько мерный стук дождевых капель, сколько ароматы влажной земли и расцветшей дикой сливы. Благо запахи весенней ночи становились все ощутимее и прогнали сон. На юге, над горой, сверкнули молнии. Ни единый звук не сопровождал их – они вспыхивали за окном, точно спичка в горсти заблудившегося путника, и мгновенно гасли. Вспышки все учащались, населяя комнату тенями деревьев, соскальзывавшими по стене на пол. Когда прогремели первые раскаты грома – глухие и долгие – старик понял, что сон больше к нему не придет. Ощупью оделся и тихонько, чтобы не разбудить спавшего в соседней комнате сына, вышел во двор и встал под стрехой.
Благоухание дождливой ночи здесь ощущалось еще сильнее. Темные холмы вокруг, пригибавшиеся под стрелами молний, цветущие деревца на берегу, где при каждой вспышке молнии фосфорически светился туман, – все источало дурманящие ароматы, и учитель не мог отделить шум реки (он тоже был пропитан благоуханием) от запахов дикой сливы, клейкого сока верб, нежного аромата ландышей, расцветших в заброшенных дворах села, и сырого духа собственной одежды, холодившей ему плечи…
Дождь моросил тихо, еле слышно, но молнии сверкали все чаще и продолжительней. Гром долетал через секунду после того как на небе угасало сияние, и учителю казалось, что в темноте обрушиваются огромные скалы, а новые вспышки молнии мгновенно стирают их след.
Фосфорические вспышки вырывали из мрака старую церковь, и ее смоченный дождем купол со сводчатыми окошками загорался фосфорическим светом.
Церковь стояла на краю разрушенного села. Она да школа единственные уцелели в котловине. Их не тронули оттого, что каждый хозяин старался первым делом снести свое и прибрать то, что позже может пригодиться – балки, камни, кирпич. Школьное здание было ветхое – что с него возьмешь, кроме выгоревших на солнце оконных рам да рассохшихся балок, из которых сыплется ржавая пыль червоточины?.. Впрочем, возможно, и еще кое-что останавливало людей – умиление перед этим ветхим строением с покосившимися дощатыми полами и серым квадратным пятном на стене в коридоре (где прежде висел портрет Кирилла и Мефодия), с вбитыми над главным входом ржавыми кузнечными гвоздями, на которые в мае, во время школьного праздника, вешали венок из пионов. Как поднять на все это руку? Здесь учились их отцы и деды, здесь сами они впервые раскрывали букварь, через этот двор по утрам бежали на звук школьного звонка их дети.
Учитель знал, что с возрастом люди черствеют, и не один и не двое – стоит только им заплатить – без особого волнения возьмут в руки кирки и засыплют коридор и классы ободранной штукатуркой, однако ему хотелось верить, что он ошибается, что у каждого в глубинах души есть заветный уголок, святость которого он старается сберечь, не осквернить…
Церковь не тронули. Только сняли колокол. Два года назад поставили леса, обвязали колокол тросами и стянули его вниз, в кузов самосвала. Машина с тяжелой этой ношей двинулась по неровной дороге, и колокол заговорил – глухо, поскольку его края упирались в пыльный настил кузова. Его голос, будто слова прощания, звучал до тех пор, пока самосвал не выехал далеко за село.
Церкви умирают последними. С них снимают колокол, выносят иконы, сосуды для причастия и просфор, заколачивают двери, чтоб не забредала скотина или цыгане, от которых всего можно ждать, и под пустыми сводами остаются только глушь да тени…
Церкви исчезают последними. Их сносят, когда подступает не знающая милости вода и им грозит опасность навсегда остаться на дне. Тогда привозят заключенных либо жителей других краев страны (местные не посягнут на замшелые камни и потускневшие фрески – их останавливает не страх перед провидением, а иной, душевный, трепет) и эти жестокосердные люди принимаются за дело. Ангелы, выписанные на высоких сводах, тревожно трубят в серебряные трубы, но остриженные наголо мужики не слышат этого. На обнаженные спины сыплются перья крыл небесных созданий, пытающихся улететь в разбитое окошко купола, но люди, вооруженные кирками, не чувствуют этих легких прикосновений, дымят цигарками и выламывают камень за камнем…
Старый учитель смотрел на церковь, которая то вырастала над холмом, выхватываемая из темноты молниями, то пригибалась, цепляясь за ветки деревьев в надежде удержаться на земле.
На церковной кровле возник белый силуэт, похожий на человеческий. Он ощупью ступал по скользкой черепице, и за плечами этого странного существа молнии, казалось, высвечивали крылья. Ему навстречу двинулся другой человек, весь в черном. Он был высок и строен, тонкие, ловкие ноги плотно обтянуты узкими брюками. Он напоминал танцовщика, готового начать свои пируэты. За спиной развевался широкий плащ. Учитель, всмотревшись, заметил, что и у него тоже есть крылья – блестящие, перепончатые, как у летучей мыши.
То ли навалилась дремота, и все это учителю привиделось во сне, пока он стоял, прислонившись к холодной стене дома, то ли резкие смены света и тьмы пробудили в его душе суеверный страх? Кто мог дать ему точный ответ? Маккавей спал глубоким сном, деревья стояли безучастно, и учитель остался во власти этого видения, которое то возникало перед глазами, то исчезало в ночи…
Христофор Михалушев наблюдал за единоборством ангела и дьявола.
Они сходились, осторожно ступая, крылья мгновенно вздымались над кровлей, а черные и белые руки сплетались так, что лишь молния могла их разделить своим сверкающим острием. Кровля уходила у них из-под ног, учителю казалось, что оба они вот-вот сорвутся с карниза и исчезнут в преисподней ночи, но тут крылья стремительно возносили их к небу. Схватка возобновлялась над церковным куполом; сцепившись и кружась, точно шаровые молнии, они вновь опускались на мокрую черепицу. Ощутив под ногами опору, странные порождения дождливой ночи расходились и вновь начинали осторожно подступать друг к другу, пригнувшись, чтоб не рухнуть вниз… Учителю чудилось, что он слышит их учащенное дыхание. В ту минуту, когда Христофор уже было подумал, что они молча разойдутся, как, бывало, после лютых утренних боев мирно расходились деревенские петухи, он увидел, что дьявол, изловчившись, вцепился ангелу в крылья и пытается сломать их, но они режут ему пальцы, словно каждое перышко отлито из тонкой стали. Изнемогая от боли, ангел в сотканном из света облачении взмахнул крылами, и его стон слился с раскатами грома. Острия крыл прорезали тьму, вырвались из жестоких рук и столкнули в бездну того, чьи крылья напоминали крылья летучей мыши…
Что произошло потом – учитель не понял. Туча сдвинулась ближе к горе, молнии потускнели и скрылись, на небо высыпали мелкие звезды – они подрагивали, словно им было зябко на голом небе.
Он вернулся в дом, а на рассвете увидел в окно крышу церкви и купол. По одну сторону высился безлистый тополь, а по другую красовалось дерево в цвету.
Старый учитель вспомнил, что ему привиделось ночью, в бурю, при свете молний, и усмехнулся.
Итальянцы прикатили однажды утром в начале ноября.
Погода стояла солнечная, мягкая, в небе плыла паутина, дул легкий ветерок. Со стороны насыпи, где раньше была железная дорога, показались две легковые машины и двинулись дальше вдоль реки. Они ехали медленно, еле слышно урча, и – белые, с вытянутыми капотами и горбатыми кузовами – напоминали охотничьих собак, обнюхивающих дорогу и поворачивающих морды то к зеленым грушевым деревьям на обочине, то к пожелтелому кустарнику на берегу.
Машины затормозили у источника. Оттуда вышли двое – нагнулись, стали пить воду. Оба невысокие, в зеленых куртках, перепоясанных патронташами. Пока они пили и над струей воды, льющейся из железной трубы, покачивались широкие поля их мягких светлых шляп, подошла еще одна машина – серая с красно-коричневой заплатой грунтовки на переднем крыле. Машина ткнулась ржавой мордой в сверкающие бока незнакомок, из нее вышел рослый широкоплечий человек в коричневом свитере и холщовых штанах, заправленных в резиновые сапоги.
Маккавей, стоявший перед домом и разглядывавший машины, узнал его – это был охотник из города, он и в прошлом году приезжал охотиться на фазанов на этой же самой, видавшей виды машине.
Пока охотник застегивал патронташ и натягивал на лысину кепку с провисшим козырьком, что плотно, как купальная шапочка, обтянула голову, итальянцы вернулись к автомобилям, и стали что-то искать на задних сиденьях.
Маккавей заколебался – подойти или не подходить к колонке, однако любопытство взяло верх. Очень уж хотелось посмотреть на итальянские машины вблизи. Человек в коричневом свитере кивком подозвал его, и Маккавей зашуршал сандалиями по щебенке.
– Здорово! – сказал охотник и снизу доверху послюнявил цигарку прежде чем зажать ее мясистыми, темно-лиловыми губами. – Спичек не найдется? Зажигалку забыл…
– Нет у меня, – сказал Рыжеволосый.
– Чего ты тут околачиваешься? Сторожишь что или пришел порыбачить?
– Мы с отцом живем тут…
Цигарка дрогнула во рту охотника, сверкнули капсулы на патронташе.
– А кто вы будете? Уж не цыгане ли? – продолжал он расспрашивать. – Все давно уже убрались отсюда, только ваша труба еще дымит…
– Мы не цыгане. Я нездоров. Доктор сказал моему отцу, что, если мы тут поживем, я поправлюсь.
– А что с тобой?
– В детстве чуть не утонул и испугался…
– Где тонул-то? В Огосте? В этих пересохших бочажках?
– Огоста тогда была глубокая. Меня подхватило водоворотом, я наглотался воды. Пытался достать дно ногами, но течением затягивало в яму…
Он, наверно, рассказал бы и про то, как боролся со смертью и про ужас, помрачивший его рассудок, но один из итальянцев погудел, сказал: «Пронто!» – и включил зажигание. Второй последовал его примеру и вывел вихляющую машину на дорогу. Охотник произнес: «Аванти!» – показал на холм, за которым лежали остатки села, и, вдавшись своим массивным туловищем в сиденье, двинул свой драндулет следом за итальянцами.
Ослепительно белые машины удалялись. На стеклах поблескивали отражения желтеющих груш и лип.
Вскоре раздались тонкие, гулкие выстрелы – итальянцы начали охоту на фазанов во дворах разрушенного села.
Фазаны появились здесь несколько лет тому назад. Их развел односельчанин Михалушевых, человек по прозвищу Лесной Царь. В одно весеннее утро он привез из города сотню еле оперившихся птенцов. Те разбрелись по траве, запищали, завертели головками. Хотя вылупились они в инкубаторе, но в них проснулась исконная тяга к матери, они искали в траве ее разноцветное оперенье и тонкие, будто отлитые из серебра лапки. Они разыскивали мать, но кругом были одни камни, оставшиеся от снесенных домов, а над камнями – высокая трава да деревья.
Лесной Царь повернул назад, в город, время от времени оборачиваясь, чтобы взглянуть назад на птенцов, которых он оставлял на произвол судьбы. Он опасался, что в развалинах прячется чья-нибудь одичавшая кошка, и тогда от фазанчиков останутся одни перья. Но опасался он зря. Брошенные хозяевами кошки разбрелись по селам на другом берегу Огосты, они полеживали теперь на ступеньках чужих домов, где нашли приют, и даже в сновидениях не возвращались в родные дворы. Птенцы фазанов спокойно зажили, подросли. К ним прилетели и те фазаны, которые вылупились на вырубках у Калиманишских пастбищ. Проходя по улицам разрушенного села, можно было услышать то тут, то там короткие громкие крики, похожие на кукареканье молодых петушков. Это фазаны о чем-то сообщали друг другу, либо резкими трелями, будто сыгранными неумелым флейтистом, выражали свое восхищение погожим летним деньком.
Благодаря фазанам брошенное село ожило. Птицы сновали по дворам в поисках зерен, червяков и гусениц, низко пролетали над заросшей чертополохом запрудой, где прежде была мельница, и в прозрачной воде отражалось огненное оперенье их крыльев. Полет их был то плавным, словно фазаны скользили по невидимому воздушному катку, то порывистым, с резкими вспархиваниями, разливавшими по небу пурпурное сияние. Случайный прохожий, увидев его под вечер, подумал бы, что за кустом разложен огромный костер, и чья-то невидимая рука подбрасывает в небо горящие головешки. Повеселело село, наполнилось звуками и красками. Дворы воскресли, озаряемые крыльями этих царственных птиц, ожили, взглянули в небо – пусть не глазами человека, а искрящимися осколками разбитых окон. Но и этого было довольно, чтобы радоваться солнцу и далеким легким облачкам.
Особенно красив был полет фазанов под вечер.
За горой угасал закат, небо бледнело перед тем как налиться чернильной синевой ночи, и тогда из всех дворов начинали вылетать фазаны. Они кружили низко над землей, точно золотой дым из навсегда исчезнувших дымоходов, и исчезали в кустах.
В один из таких вечеров Маккавей прошелся с отцом по улицам родного села. Они ходили днем в Бистрицу, задержались там и тронулись в обратный путь уже в сумерки. Перешли вброд Огосту, и, когда вступили в обезлюдевшее село, прямо из-под их ног начали взлетать фазаны. Птицы без страха поднимались вверх и, на миг сверкнув опереньем, пропадали в ночи. Каждый двор, к которому приближались отец с сыном, приветствовал их взметнувшимся в небо огоньком.
Глядя на это фантастическое зрелище, Маккавей думал, что ему все это снится. Быть может, это и не птицы вовсе, а души человеческие, разбуженные его шагами, души, которые мимолетным своим сверканием подают прохожему знак, что время не уничтожило их, и вновь исчезают в беспредельной тьме…
Услышав выстрелы, Маккавей бегом помчался в село. Пересек высохший мельничный ручей, пробрался между вербами и, когда взбежал на пригорок, где находилось кладбище, увидел у школьной ограды лимузины итальянцев и драндулет того, кто их сопровождал. Охотников не было видно; они перекликались, заслоненные пышными кронами деревьев, и только белые облачка выстрелов выдавали их.
Эхо билось о карстовые скалы за Огостой, отскакивало от них в сторону Веренишской вершины и падало на кусты скумпии в окрестных долинах. Каждый выстрел взметывал в небо стаю фазанов. Со свистом проносились крылья, хвосты описывали короткую дугу, и долго, пока не затихало эхо, кружились над дворами разметанные дробью перья.
Маккавей впервые видел, как умирают фазаны. До сих пор он только любовался их полетом, когда весной поутру ходил собирать щавель на прибрежных лугах. Его шаги вспугивали фазана, приютившегося в гнезде. Раздавалось фырканье, будто где-то рядом паслась лошадь (это был звук крыльев), и Маккавей видел перед собой птицу – легкую, в оранжевом сиянии, которое через секунду гасло в росе ближнего овсяного поля. В полете птицы он ощущал тишину зеленеющих, колышимых легким ветром нив, угадывал сладостный трепет земли, ожидающей прихода лета. Маккавей находил сплетенное из соломы и веток гнездо, наклонялся к фазаньим яйцам, остроконечным, зеленоватым, как крупные капли росы, но не дотрагивался до них, зная, что тогда по ним начнут ползать муравьи и птица уже никогда не сядет на них. Молча отходил и, спрятавшись за кустом, смотрел, как птица возвращается, легко помахивая крыльями, как ветер играючи подбрасывает ее, а затем подстилает ей под крылья мягкий бархат овсов…
Теперь же полет фазанов был совсем другим. Птицы испуганно взмывали вверх, но у них не хватало сил прорвать дым выстрелов, опутывавших их своей смертоносной паутиной. Тщетно пытаясь достичь воздушных просторов, сулящих свободу, они в последний раз взмахивали крыльями и – тяжелые, безмолвные – падали, оставляя за собой длинные полосы света, какие в августе оставляют падающие звезды.
Итальянцы шли прямиком через дворы, сняв свои бежевые шляпы, расстегнув рубахи, веселые, разгоряченные удачной охотой. В пружинистости их походки угадывался злой азарт, какой разыгрывается у охотничьих собак. Один из итальянцев с бледным дряблым лицом и водянистыми глазами (Маккавей разглядел его, когда тот нагнулся за подбитым фазаном) подбирал окровавленных птиц и складывал кучками у дороги. У второго было смуглое лицо мулата, будто вырезанное из черного дерева, причем резцу мастера не удалось сгладить жесткость линий. Его тоже пьянила охота. Это сквозило в решительности жестов, в металлическом блеске глаз (зрачки при выстрелах светлели), в возгласах, звеневших как дробь по листу железа.
Маккавей неожиданно вынырнул из-за кустов – в десяти шагах от смуглого итальянца, который стрелял мастерски, вертясь во все стороны (чтобы не упустить и тех птиц, которые пролетали за спиной), его расстегнутая куртка развевалась от вращения упругого, пружинистого тела. Поскольку охотничий азарт застилал итальянцу глаза, а разметанные по небу перья густым маревом трепетали над его головой, он не заметил рыжеволосого человека за кустами. Да если бы и заметил рыжую шевелюру, то, наверно, принял бы ее за оперенье фазана и прицелился. Но Маккавей крикнул раньше, чем палец лег на спуск, и рука охотника упала, как отрубленная. Мадонна, что могло произойти! А ведь сказали, что село безлюдно. Откуда же взялся этот человек?.. Рыжеволосый смотрел на него – бледный, с испитым лицом и лихорадочным блеском в глазах – и что-то кричал, но итальянец понять его не мог. Однако он уловил в свистящих словах незнакомца угрозу и обернулся, чтобы позвать на помощь своих спутников, которые отошли к реке. Услыхав крики и, должно быть, решив, что убит человек, те в панике кинулись к месту происшествия. Еще не добежав до итальянца, который стоял, опустив ружье дулом к земле, они услышали громкие звуки – словно кто-то барабанил по железу.
Сопровождавший итальянцев охотник, топавший в тяжелых резиновых сапогах, издали увидел рыжую голову удиравшего через дворы Маккавея и улетавших за реку фазанов, в мозгу радостной искоркой сверкнуло: слава богу, ничего страшного не произошло… Однако через секунду искорка погасла, а губы злобно скривились… Громыхание железа, сопровождаемое короткими выкриками, доносилось от мельничного ручья, и охотник ринулся туда…
Итальянцы присели на траву выкурить по сигаретке. Сквозь сизый дымок, обвевавший их тонким ароматом, они следили за тем, как тяжело, неуклюже бежит их чичероне. Во взмахе его рук ощущались злость и угроза.
Задыхаясь, охотник настиг Рыжеволосого, хотел схватить, но тот увернулся. Маккавей был проворнее, страх удваивал его прыжки, и все же преследователь не дал ему уйти – подставил ножку, и фазаний избавитель ткнулся головой в куст…