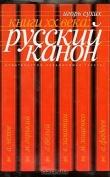Текст книги "Рифы далеких звезд"
Автор книги: Иван Давидков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
В соседней комнате наконец-то воцарилась тишина. Маккавей как рухнул днем на кровать, так и спал – одетый, раскинув по одеялу руки, в пыльных сандалиях, их носки обрисовывались за стеклом окна, светлеющего под утренними лучами.
Те люди, чьи шаги предугадывал Христофор Михалушев в тусклый час рассвета, появились позже, когда солнце уже перевалило зенит, а из озерков доносилось пропитанное запахом водорослей лягушачье кваканье.
Легковушка подъехала тихо, нырнула в тень древней груши у обочины и остановилась. Из нее вышли двое незнакомцев и направились к дому. Маккавей был под навесом, возле лодки, и не заметил их, но Христофор внимательно разглядывал приближающихся людей. Им было лет под сорок – один высокий, с коротко подстриженными светлыми волосами, в очках с поблескивающей золотой оправой, второй – пониже, коренастый, густой черный вихор падал на лоб, закрывая правую бровь. Оба были в одинаковых серых костюмах. Будь рубахи и галстуки тоже одинакового цвета, учитель сразу бы понял, что незнакомцы одеты в форму и прибыли сюда по служебному делу.
Приезжие постояли возле мельничного ручья, о чем-то поговорили между собой, повернулись к водителю, который высунулся из машины, сделали ему знак, тот утвердительно кивнул в ответ, и, заметив старика учителя, направились к нему.
Они поздоровались, исподтишка окинули взглядом поляну и берег Огосты, посетовали на жару – до лета еще далеко, а печет как в августе! – потом завели разговор о драге, которая скоро прорежет железнодорожную насыпь и перейдет на здешние пески… Маккавей услышал голоса, но не вышел из-под навеса, решив, что это горцы, приятели отца, завернули по дороге проведать его. А учитель, слушая незнакомцев, догадывался, что начали они издалека, а цель у них совсем иная. Об этом свидетельствовали взгляды, которыми они украдкой ощупывали дом, поляну, тропинку вдоль реки. Тот, что был в очках с золотой оправой, остался возле учителя, продолжая о чем-то ему говорить, и старик молча слушал, покрываясь бледностью, а второй, заметив недостроенную лодку, направился к навесу.
Маккавей взглянул на незнакомого человека со спадающим на лоб вихром, тот приближался к единственному свободному проходу между лодкой и стеной, и первой мыслью Рыжеволосого было, что этот коренастый, крепко сбитый человек хочет преградить ему дорогу. Но потом он увидел, как рука незнакомца осторожно потрогала борт лодки, поперечины, прислоненные к стене доски.
– Кто строит лодку? – Он поднял голову, и завешенный чубом глаз сверкнул, как стеклянный. – Рука-то, я смотрю, не очень умелая…
– Строит мастер один из города… Столяр… А я ему помогаю, – ответил Маккавей.
– Сразу видно, что не набил еще руку, – продолжил незнакомец. – Стыки плотные, ребра крепко прикреплены к рулю, но доски обшивки изогнуты неумело и больше подходят для бочарных клепок, чем для лодки… У того, кто берется строить плавучее средство, должна быть рука скульптора или ювелира. Это дело тонкое. Лодка должна, как лебедь, возвышаться над волнами – чтобы любо было и плыть на ней, и с берега глядеть!..
Маккавей промолчал. Для него столяр из города был непревзойденным умельцем, однако похоже, что человек, окидывавший сейчас лодку опытным взглядом, гораздо лучше разбирается в тонкостях этого ремесла.
– Есть у меня друг, известный лодочный мастер, – продолжал незнакомец, вызывавший у Маккавея все большую симпатию. – Всю жизнь проработал в доках. Самые лучшие лодки, которые не плывут, а скользят по волнам, как перо морской чайки, сделаны его руками… Я видел, как он работает – не рубанком водит, а священнодействует! Сделает лодку, постучит по ней, а она поет не хуже скрипки… Я прослышал о том, что вы тут взялись строить лодку, и рассказал этому мастеру, когда недавно гостил у него. Он очень заинтересовался, как у вас идут дела, хотел сам приехать – посмотреть, подсказать, да возраст уже не тот и здоровье. «Привези парня ко мне, – говорит, – хочу познакомиться с ним, ну и потолковать…» Лодочные мастера и скрипичные, – схожи, и те и другие доверяют секреты своего ремесла только тем, в ком разглядят талант. Может быть, старый мастер, узнав о твоей недостроенной лодке, решил открыть тебе свои секреты…
Как сладко говорил этот человек! Маккавей слушал, и глаза у него полнились светом.
– Я собираюсь съездить в тот город, где живет этот мастер, погостить у него. Могу, если хочешь, захватить и тебя, посидим у него в мастерской, посмотрим, как он мастерит свои лодки, погуляем по берегу моря. А может быть, поплаваем на самой лучшей лодке старика – благодаря парусам она проносится над волнами, как молния.
«Конечно, хочу!» – порывался крикнуть Маккавей, но сперва решил спросить у отца.
Он обогнул лодку, вышел на поляну и увидел, что отец стоит под стрехой белый как полотно, а высокий человек в очках, поблескивающих на ярком солнце, поддерживает его под руку.
– Тебе плохо? – бросился к нему Маккавей.
– Пустяки. Это от жары. Сейчас пройдет… – шевельнул тот губами и опустился на табуретку у стены.
Маккавей принес ему воды. Старик отпил глоток, смочил лоб. Над ивами с криком взметнулись птицы – что-то вспугнуло их.
– Я видел недостроенную лодку, – сказал человек с черным вихром и расстегнул рубаху; шея у него взмокла от пота и блестела. – Поговорил с вашим сыном, предложил ему поехать с нами к одному знаменитому мастеру. Тот научит его кое-каким тонкостям ремесла. Мало ведь просто сколотить доски. Надо проникнуть в душу дерева…
– Я знаю этого мастера. Попасть к нему легко, труден обратный путь… – глухо произнес учитель, продолжая смотреть в пустое небо, куда умчались птицы. – Поезжай, мой мальчик. А я буду ждать, когда ты вернешься и обо всем мне расскажешь… Ждать и стеречь твою лодку…
Он увидел, что глаза сына улыбаются – так, как улыбались лишь в самые счастливые минуты.
– Мы на машине, – сказал черноволосый. – Захвати с собой что-нибудь теплое.
– Зачем? В такую жару даже рубаха мешает…
– Там, где живет мастер, может быть холодно… – Отец повернулся к нему. В глазах старика стояла пепельная серость раскаленного неба.
Маккавей поцеловал худую щеку отца и пошел в сандалиях на босу ногу, захватив с собой только свитер. Люди в серых костюмах шли следом за ним, а он готов был от нетерпения пуститься бегом, в голове уже крепко засела мысль о лодочном мастере, который посвятит его в тайны своего ремесла.
Он шел, не догадываясь, куда его повезут, не оборачиваясь, не видя, что отец плачет, прижавшись лицом к стене, и внезапно опустевший дом скрипит от рыданий старика, как будто все балки и стропила охвачены древоточцами.
Лодка незнакомого мастера, узкая и легкая, как перо морской чайки, плыла перед глазами Маккавея, с губ не сходила улыбка, а душа не ощущала ничего, кроме далекого, горьковатого дуновения моря.
Маккавей уехал с незнакомцами. Поредела пыль, поднятая машиной, осела на листьях и траве, потом заморосил дождик и смыл ее, и жизнь опять потекла, будто ничего не случилось. Все так же перекликались над поречьем сойки, глухо пыхтела драга, уже подбиравшаяся к железнодорожной насыпи, тихо журчали высыхающие броды, – между камнями уже почти не осталось воды.
Маккавей уехал, прошли недели, потянулись месяцы, и никто, кроме отца, не заметил, что его больше нет здесь.
Плодовые деревья отцвели. Червь пополз к сердцевине яблока. Потом вымокшая под сентябрьским дождем ворона закачалась на своих чугунных лапах и принялась клевать упавший плод. Взошел безвременник, и над поречьем разнеслось резкое дыхание близкой осени.
Как быстро мчалось время!.. А Маккавея все не было. И никто этого не замечал…
Однажды в полдень на шоссе снова показался автомобиль. Учитель решил, что это, наверно, итальянцы, потому что охота на фазанов уже началась, но потом разглядел, что машина старая, тихоходная, и шины у нее не шипят, как у тех серебристых иностранных лимузинов, которые минувшей осенью вздымали тучи пыли на этом шоссе. Машина, показавшаяся из-за поворота, – это было такси – медленно волочила свою тень по щебенке, словно сидящий за рулем человек не знает хорошо дороги либо везет пассажира, который внимательно осматривается по сторонам и что-то ищет.
Машина взобралась на бугор, где когда-то начиналось село, и исчезла за пышными кронами деревьев. Ненадолго задержалась там, а затем вновь донеслось ее тарахтенье. Она подъехала к источнику, свернула на обочину и остановилась. Задняя дверца отворилась, и оттуда вышел высокий лысый человек в синем костюме. Он повернулся к дому – над низкорослым ивняком белела труба, из которой шел дым, – что-то сказал водителю и направился к этому единственному уцелевшему домику на берегу.
Стоя перед домом, Христофор Михалушев рассматривал приближающегося человека – незнакомого и, судя по покрою костюма, нездешнего: однобортный приталенный пиджак с длинными шлицами по бокам, из-за чего полы свободно развевались, брюки с широкими штанинами при каждом шаге обнажавшими острые носки черных ботинок. День был жаркий, узел сиреневого галстука был ослаблен, гладко выбритый массивный подбородок поблескивал от пота, как и вся голова – лысая, словно отполированная рукой парикмахера.
Человек в синем костюме шел неторопливо и чуть скованно – должно быть, еще не размялся после долгого сиденья в машине. Бритая голова блестела, точно фаянсовая, четко обрисовывались ушные раковины и короткие дуги бровей над кошачьими глазами с коричневатыми веками, а под глазами подрагивали дряблые, морщинистые мешки.
Незнакомец поздоровался, попросил прощения, что беспокоит в самый обед, представился: Марин Пенчев, родом из-под Севлиево, занимается огородничеством, эмигрант, живет в Канаде, откуда сейчас приехал после без малого сорока лет изгнания, чтобы взглянуть на родные края и повидаться со старыми друзьями. Он спросил учителя, когда снесли село и где можно найти Куздо Иванова, с которым они когда-то работали в Ванкувере и вместе ездили покупать молотилку «Арканзас».
– Куздо Иванов был мне очень близким другом, – сказал учитель. Он вынес из дому стул и предложил гостю сесть. Его уже давно нет на свете – лет пятнадцать, должно быть. Сын его перебрался в город и живет неподалеку от вокзала. Если хотите повидать его, я дам адрес. А молотилка, которая славилась на всю округу не столько мелкой соломой, сколько тем, что каждое лето ломалась и, пока шла молотьба, ее разбирали и чинили, много лет назад состарилась и зачахла, как ее хозяин. Ее поставили под навес – курам вместо насеста, а на гумно привезли другую молотилку, тракторную…
На печке зашипело – не иначе, выбежала уха – и Христофор Михалушев ринулся в дом. А немного погодя вышел с дымящейся ложкой, в которой лежала маленькая, изогнувшаяся при варке рыбешка с побелевшими глазами.
– Уху варю из усачей, – сказал он. – В прошлом году сплел из ивовых прутьев вершу и изредка ставлю на перекате. Лесник караулит – если поймает, вся пенсия уйдет на штраф, но я знаю, когда он появляется. Так и высматриваем друг дружку – он меня, я его… По ночам он сюда не наведывается, вот я ночью свою вершу и ставлю, а утром, на самой зорьке, уношу… Глядишь, какая рыбешка и заплывет…
Гость смотрел на усача, остывавшего от дыхания наклонившегося над ложкой человека; из открытой двери тянуло ароматным паром рыбьей ухи.
Христофор протянул ему рыбку – попробовать. Гость взял ложку, вдохнул запах укропа, лука, стручкового перца и улыбнулся:
– Вы угощаете меня тем, чего я давно уже не видел у себя на столе, возвращаете в годы детства, когда самой большой радостью для меня было ловить рыбу под камнями нашей реки…
Учитель пригласил его пообедать, и гость из Ванкувера охотно согласился. Сели за стол. Рыбки соскальзывали с ложек и Марину Пенчеву было приятно вылавливать их со дна глубокой тарелки. Стручковый перец оказался едким, на глазах выступили слезы, но он продолжал есть с аппетитом…
Таксист посигналил – пора было ехать. Гость из Канады кивком подозвал его, и когда тщедушный человечек в синей фуражке с латунными крылышками – символом непревзойденных скоростей, – склонившись над ним, сказал, что больше ждать не может, у него неотложное дело в городе, Марин Пенчев полез в карман, вынул купюру и, не взглянув, какого она достоинства, протянул таксисту:
– Возьмите, а под вечер приезжайте за мной…
Таксист принялся шарить в карманах, намереваясь вернуть сдачу. Приезжий с улыбкой наблюдал за ним: эти мелкие хитрости были ему известны, он любил с артистическим безразличием похлопать водителя по плечу, снисходительно говоря: «Помилуйте, что вы, мы в расчете. Оставьте сдачу себе, на рюмочку…»
Так поступил он и теперь. Таксист с благородной улыбкой поклонился, пятясь отошел, минуту спустя выхлопная труба зафыркала и машина покатила в город.
После обеда гость пожелал прогуляться в село. Хотелось поклониться могиле Куздо и взглянуть на то место, где стоял раньше дом его друга.
С трудом отыскали они в разросшейся полыни могильный холмик человека, который в юности, плывя навстречу манящей неизвестности, смотрел с корабельной палубы, заставленной бочками корабля, как величественно и страшно уходит под воду «Титаник», рассеченный надвое ледяной горой, а потом то безработным, то с заработанным долларом в кармане шагал по улицам Ванкувера и многих других городов – с величественной осанкой атлета, в широкополой шляпе и жилете, к правому кармашку которого спускалась тонкая цепочка часов…
– Знал бы, что не увижу его, захватил бы свечу, поставить на могиле, – тихо, словно извиняясь, проговорил гость. – Он был человек широкой души и, если б мог увидеть, как я стою здесь, на заброшенном кладбище, то наверно сказал бы: «Спасибо, что не забыл меня. Цветов не клади – овцы пройдут, затопчут. Свечке я был бы больше рад, она напоминает душу человеческую – светит и пытается защитить свой огонек от ветра…» Наверняка бы сказал мне так. Он всегда говорил мудро, словно припоминал страницы Ветхого Завета.
«И впрямь хорошо бы зажечь свечу, – думал учитель. – Поглядели бы, как огонек пытается оживить эту глушь и запустение, вспомнили бы какой-нибудь случай из прошлого, представили себе, как язычок пламени отражается у Куздо в стеклах очков, как огонек свечи плывет над залепленными воском сотами, возле которых вьются пчелы – плывет нереально, совсем, как тот корабль, что вез путников к тайнам и иллюзиям Нового Света, а потом снова вернул сюда, к метелкам полыни…»
Они спустились к церкви, обошли вокруг школы и, оставив позади эти, еще уцелевшие, обиталища летучих мышей, направились туда, где когда-то стоял дом Куздо. Былые строения напоминали о себе звоном осколков под ногами или валявшимися в траве камнями. Одни фруктовые деревья облетели, другие все еще прятали в своих кронах пыльные, поклеванные птицами плоды.
Между стволами грецких орехов проглянуло ржавое пятно, и гость решил, что сохранилась стена дома, но потом понял, что перед ним проржавевший корпус старого локомобиля.
– Тут, наверно, и стоял дом Куздо, обладателя молотилки «Арканзас»? – обернулся к учителю его спутник.
– Да. И от всего осталась только груда ржавого железа…
Со старого локомобиля было снято все, что только можно было отвинтить: латунные трубы, из которых когда-то валил пар, гудок, похожий на перевернутую гильзу от малокалиберной пушки, манометр, даже небольшой трос, который был привязан к клапану гудка… Все было снято, а локомобиль по-прежнему царственно возвышался на траве – больше напоминая памятник, чем разорванную ржавую развалину. Его чугунное туловище все так же величественно опиралось на четыре колеса: передние были поменьше, задние, густо переплетенные спицами, смахивали на колеса гигантского велосипеда. Все так же гордо возносилась к небу высокая труба с проеденной ржавчиной сеткой, раньше служившей для предохранения от искр…
– Камень на могилу Куздо положить забыли, – печально сказал приезжий из Ванкувера, – а памятник его стоит перед нами… Он мог бы стоять и над моей могилой: ржавый скелет динозавра, которого мы когда-то называли смыслом всей нашей жизни… Помню, как мечтал Куздо об этой молотилке. Все свои сбережения выложил за нее… А что же было дальше?
Он постучал рукой по жерлу локомобиля. Из недр машины донеслось эхо, прозвучавшее, как стон…
Под конец доброе настроение снова вернулось к гостю. Видимо, минуты печали и раздумья редко посещали его. Взгляд снова оживился, в кошачьих глазах заплясали веселые огоньки, он зашагал энергичней, обводя взглядом реку, мельничный ручей, и думал, наверно, о том, что если бы он, старый огородник, осел на этой земле, возле реки, где в любую засуху можно брать воду для поливки, то создал бы здесь огороды, урожаю которых не было бы ни конца, ни края.
Гость из Канады и впрямь думал об этом – он нагнулся, растер комок земли и, ощутив между пальцами его жирность и податливость, сказал:
– Взгляните на мои руки. Я переворочал ими столько земли, что если собрать все, что вспахано моим плугом и взрыхлено моей лопатой и мотыгой, то получилась бы гора выше той, что виднеется вон там, за холмами.
Он не показал ладони, как сделал бы тот, кто хочет подкрепить свои слова лишним доказательством, да в этом и не было необходимости: все в этом человеке свидетельствовало о нелегком единоборстве с землей – тугая мускулатура, вздувшая рукава пиджака, и загорелое лицо, очень бодрое и свежее для человека его возраста (ему было уже семьдесят), и походка – он слегка ощупывал ступней землю, словно под ногами была рыхлая почва, которой не удержать его тяжести; и сами руки, на которые молча смотрел учитель – широкие, приплюснутые, как лемех, цвета земли, набившейся в их поры, которую никогда не отмыть, с кожей, наверно, твердой, как панцирь черепахи.
Пока они шли по снесенному селу и потом по тропке вдоль Огосты, учитель узнал от своего спутника, что тот в молодости целых десять лет прожил в Венгрии. Сперва батрачил в усадьбе одного богатого огородника, а после, поднакопив малость деньжат, приобрел свой участок и работал на себя. Разбогател, прикупил еще земли, нанял работников – земляков из Севлиевского края.
– Был я тогда молодой, здоровьем бог не обидел, работы никакой не боялся. Ляжешь, бывало, что называется, без рук, без ног, а на зорьке уже вскакиваешь, везешь овощи в Будапешт. Темнотища, глаза слипаются, а я фарами ощупываю дорогу, спешу первым разложить товар, – подробно рассказывал он о своей жизни, словно рядом шел не незнакомый человек, а старый, близкий друг. – В нашем ремесле есть несколько правил, и я неотступно их соблюдал: первым вывози на рынок ранние овощи, старайся, чтобы твой товар выглядел лучше, чем у других, и умей привлечь покупателя – отвесь на сто граммов больше, никогда не обвешивай… Так я и вел дело, и все шло прекрасно. Денег было навалом. В какой карман ни сунешься, всюду шуршат банкноты.
Говорят, деньги закабаляют, но я в кабалу не дался, не стал их рабом. Купил большой дом. Решил: «Натерпелся ты, Марин, нищеты, так поживи теперь в свое удовольствие!» Женился и зажил припеваючи. В воскресенье вечером, бывало иду в какой-нибудь шикарный ресторан, приглашая приятелей. Охотники на это всегда найдутся. Веселимся до полуночи, цыгане наяривают на скрипке у меня над ухом, а у подъезда стоят три пролетки. Извозчики дремлют на козлах, – знают, что в накладе не останутся, ждут. На первую пролетку кладу шляпу, на вторую трость, в третьей разлягусь сам, а поскольку весу во мне тогда было с избытком, извозчики от скрипа рессор мигом просыпаются… Представляете поездку по спящему городу? Копыта цокают, кругом – тишина, только эхо отзывается. То тут, то там зажигаются окна. Разбуженные люди выглядывают из-за занавесок, дивятся, небось, какой это ненормальный трех извозчиков нанял: двое шляпу и трость везут, а третий – его подвыпившую особу…
– Как видите, беспутные годы… – повернулся к учителю увлеченный своим рассказом гость, и Христофор Михалушев различил в его зрачках сияние осенних деревьев – так высветленных воспоминаниями, что учителю померещилось полуночное сверкание будапештских окон, которые вот так же смотрели в глаза этого странного человека. – Безумные годы, которые каждый должен прожить, чтобы было потом о чем вспомнить…
Они подошли к дому. Перед дверью стоял нагретый солнцем стул, и гость, утомленный прогулкой, тяжело опустился на него. Мягкое тепло осеннего денечка разлилось по телу, и он блаженно зажмурился.
– Хорошо мне у вас, – сказал он. – Шум реки убаюкивает, успокаивает нервы. Всю жизнь мечтал пожить у воды, и все не случалось. Я буду вам признателен, если вы разрешите переночевать. Спешить мне некуда. Поудим рыбу, таксиста сгоняем в город за вином, посидим за стаканчиком, побеседуем о том, о сем. Я уже старый человек. Приехал повидать напоследок людей, с которыми когда-то водил дружбу, и попрощаться с ними. Вряд ли еще когда решусь переплыть океан. Вот уже в четвертое место наведываюсь, но так никого из былых друзей и не встретил, не удалось. Все ушли из жизни, не дождавшись меня, – он с горечью усмехнулся. – И вряд ли кто из них в свой смертный час вспомнил обо мне…
– После того как сына увезли в лечебницу, я в доме один, – отозвался учитель. – У него было худо с нервами, душа металась, и однажды приехали за ним и увезли… Я буду рад, если вы останетесь. Угостить вас мне особенно нечем, но сюда наведывается один парень, приятель моего сына – он и нынче под вечер привезет мне хлеба, простокваши и, если раздобудет, колбаски… Рыбы, как вы сказали, можно наловить, хотя здесь на этот счет строго и штраф большой. У меня есть небольшой невод (я его прячу на чердаке), можем раз десять забросить в реку, но если поймает Лесной Царь – помоги нам бог…
– А кто это? Местный начальник?
– Ну уж и начальник! Простой лесник, но весь район держит в страхе. Нюх собачий, со следа не собьешь… Много лет назад выстрелил в одного паренька из-за нескольких рыбешек, – и потом тому ампутировали ногу…
– Дайте невод мне, – внимательно дослушав, сказал гость. – В меня он вряд ли выстрелит. Бегать я не могу, так что встанем лицом к лицу. Я эту породу знаю: мелкие холуи с нечистой совестью или фарисеи – корчат из себя неподкупных, а на самом деле норовят нажиться на чужой беде… Такому сунь в лапу, он сперва поломается для виду – дескать, не хочет марать свою совесть, но стоит вглядеться в глаза, как увидишь, что в них написано другое. Набей ему глотку, как гусю, и он вмиг перестанет шипеть и бить крыльями, а зашлепает следом, готовый покорно тебе служить.
Учитель принес с чердака невод. Свинцовые грузила звякнули в ногах у гостя. Тот пошел в дом переодеться в старый костюм Христофора. Выйдя на порог в коротких, чуть не до колен, штанах и с трудом застегнутым на животе пиджаке, снисходительно усмехнулся при виде своего отражения в окне, закинул невод на плечо и зашагал к реке. Он бодро ступал босыми ногами, сухая трава щекотала ступни, и его душа светлела, предвкушая радость, какую он испытает на речных бродах…
Прикатил на своей таратайке Муни. Привез только хлеба и простоквашу, за колбасой была очередь, пока подошел – колбаса кончилась. Христофор Михалушев завернул хлеб и банки с простоквашей в газету, от мух, и пригласил Муни посидеть с ними. Муни двинулся к дому, провожаемый подпрыгивающей тенью, сел на стул и сказал, что писем от Маккавея еще нет.
Он бы, наверно, посидел подольше, если б Христофор не сказал ему, что у него гость, приехавший из-за океана. Муни увидел в окно его одежду, на спинке стула висел синий костюм элегантного покроя, а сверху широкий галстук, – и так как из-за своего недуга он стеснялся незнакомых людей, то не стал ждать, пока канадец вернется с реки, хоть и любопытно было поглядеть на человека, приехавшего из такой дали, поговорить с ним… Муни сказал учителю, что ему надо съездить в Чипровцы, починить телевизор одному технику с рудника, и, опираясь на обмотанные бинтами дуги костылей, двинулся к машине.
Христофор Михалушев знал, что поездка в Чипровцы лишь предлог, но не обиделся – он понимал, что друг Маккавея таким образом спасается от тягостного чувства собственной неполноценности.
Муни уехал. Учитель пошел к реке.
Широко расставив ноги и шатаясь, потому что ступни соскальзывали с мокрых камней, гость забрасывал сеть не как новичок, а размеренно, ловко, и от этого все его тело приходило в движение, которое передавалось сети. Она взлетала с тонким свистом, какой рождается от крыльев вспугнутой птицы, распрямлялась в небе – позолоченная солнцем, гибкая и плавно опускалась на свою тень посреди реки…
Христофор Михалушев обвел взглядом отмели и, нигде не приметив Лесного Царя, успокоенно продолжал наблюдать за тем, как старый огородник из Ванкувера выбирает сеть, как бросает ее на песок и не торопится вынимать из нее рыбешек, а смотрит, как они прыгают на песке…
Таксист подъехал в условленный час, но его снова послали в город за вином.
Когда солнце уже садилось, он появился снова, привез дюжину бутылок. Получил полагающееся вознаграждение (не глядя сунул купюру в карман), поблагодарил с улыбкой, какой, вероятно, удостаивал своих пассажиров не всегда, и пыльная машина покатила назад, к шоссе. Подскакивая на ухабах разбитой дороги, таксист оглянулся и еще раз кивнул стоявшему у порога высокому человеку с бритой, розовой от закатных лучей головой.
Этот человек дождется такси завтра вечером, вернется в город и двинется дальше по неведомым своим дорогам…
Ужинать сели поздно, когда уже светила луна, и все поречье плыло под тихую музыку раннего листопада. Зажженная лампа отбросила на стену тени усевшихся за стол людей. Обе тени задвигались, ночные бабочки окружили их, и комната ожила, повеселела. Учитель улавливал звуки жизни дома в потрескивании пола и позвякивании стаканов с вином, где отражался огонек лампы.
– Я видел под навесом лодку, – сказал гость, перед которым лежали на тарелке фосфорно-белые скелеты съеденных рыб. – Она еще недостроена. Ваш сын, верно, собирался идти на ней, когда поречье зальет водой.
– Да, собирался, а досталось все сырости и древоточцам. – Голос учителя звучал глухо. – Работа над лодкой успокаивала его. В детстве он однажды чуть не утонул, и теперь не может отделаться от мысли, что земля разверзнется у него под ногами и поглотит его, что холм, к которому примыкает плотина, расколется, и вода хлынет на наш город, сметет его с лица земли. Мысли, как видите, бредовые, но разве можно выбить их у него из головы?… Когда наше село снесли, я, как и все, разобрал свой дом, чтобы построиться в городе, но подумал: «Одному, с больным сыном, мне не осилить строительство нового дома». И уступил участок двум братьям-близнецам из горного села. Они выстроили дом и первый этаж отдали нам.
– А затем, наверно, завладели всем домом и выселили вас?
– Нет. Мы сами переселились, врачи сказали, что мальчик поправится, если у него на душе будет покойно – никаких раздражителей, пусть гуляет и делает только то, что захочется… Но я спрашиваю себя, может ли душа человеческая где-нибудь обрести покой? Мир для того и создан, чтобы перемалывать ее, как мельничный жернов перемалывает пшеничное зерно… Так мы и жили тут, пока сына не увезли туда, куда я и врагу не пожелаю отдать свое дитя…
Обглоданные скелеты в тарелке светились фосфорическим светом и, глядя на них, гость, чья тень на следующий день исчезнет с оштукатуренной стены и по росшего травою двора, думал о том, что так же обглодана переживаниями и душа этого деревенского учителя.
– Переживания ведут к смерти, приятель, – сказал гость из Ванкувера и поднял стакан, но не отпил, а отлил несколько капель под стол, как бы в память о ком-то усопшем. – Я редко задумывался о смерти, спасался от ее призрака тяжким трудом и безрассудными пирушками – до той минуты, пока врачи не сказали мне: «Ты свое выпил, дорогой! Каждая следующая капля – шаг навстречу смерти…»
Я был безрассуден – пускал по ветру все, что зарабатывал, но было одно правило, которое я никогда не нарушал: «Не сдавайся! Докажи этому миру, который, может статься, и не замечает твоего существования, а если и заметил, то через секунду забудет о нем, – докажи ему, что ты есть, что ты явился на свет для того, чтобы прожить свои дни достойно, а, если нужно, показывай зубы, даже если потом придется выплевывать их с кровью…
Я приехал из Будапешта в Ванкувер, имея на плечах один костюм, несколько долларов в кармане и пачку трубочного табака, – продолжал свой рассказ человек, чей лоб был перерезан глубокой отвесной морщиной. – Бросил все, что нажил за истекшие годы… Банальная история: пока я разъезжал по базарам от Балатона до Тиссы, жена моя нашла себе другого. Возвращаюсь как-то поздно вечером и вижу – все окна в доме освещены. Слышу голоса, за шторами видны силуэты людей, гремит музыка. «Жена устроила вечеринку и пригласила цыган-скрипачей», – думаю я и подымаюсь по лестнице. Вхожу. Знакомые смущенно кивают мне, незнакомые дивятся, что за человек, весь в пыли, заросший щетиной, явился посредь ночи в этот богатый дом.
Открываю дверь в спальню и вижу то, что, собственно, и ожидал увидеть с той минуты, как услыхал цыганские скрипки: разбросанная по стульям одежда, мужские подтяжки на спинке кровати, моя жена и незнакомый мне субъект, испуганные моим неожиданным появлением, натягивают на себе одеяло, чтоб прикрыть наготу…
– В такую минуту можно от обиды лишиться рассудка и совершить непоправимое, – перебил учитель, взволнованный его рассказом.
– Да, но я не поднял руки, хотя в глазах потемнело. Я сказал себе: «Ты убьешь их, Марин, и будешь прав, – ведь ты защищаешь свою честь, но что потом? Придется гнить за решеткой. Даже если тебе дадут только десять лет, жизнь твоя будет погублена». «Прошу прощения, – сказал я им, – я на секунду, только возьму из шкафа костюм…» Переоделся в соседней комнате. Спускаюсь по лестнице и вижу: на нижней площадке толчея. Гости поняли, что произошло, и спешат убраться подальше. Цыгане прячут свои скрипки, слышно, как бьются упавшие бокалы.
Я вышел из подъезда и больше в этот дом не вернулся…
Христофор Михалушев слушал рассказ гостя, чье лицо выглядело сейчас особенно старым – то ли от горестных воспоминаний, то ли от тусклого света керосиновой лампы – и представлял себе, как он ждет на безлюдном перроне ночной поезд, как сидит потом в пустом вагоне у окна, мимо которого пробегают редкие, холодные огни, как прислушивается к гуденью рельс, и ему мерещится, что это треск рушащегося дома: вот накренился карниз, и крыша слетает на улицу, точно воздушный змей, у которого оборвалась нитка, затем падают все четыре стены – одновременно, гости бегут по лестнице в клубах пыли, цыгане тоже удирают, роняют свои скрипки и слышно, как трещат инструменты под ногами бегущих людей… От дома остались одни бетонные столбы – огромный скелет, высвеченный уличными фонарями, а на верхнем этаже по-прежнему стоит брачное ложе, и на его спинке покачиваются подтяжки похитителя. А влюбленные – они единственные, кто остался в доме – опьяненные жаркими объятьями, видят над головой звезды, ведь крыши над ними нет, ее обломки лежат на мостовой…