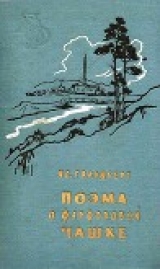
Текст книги "Поэма о фарфоровой чашке"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Несознательные! Вот оттого и шатающие, маловеры! – горячо подхватил Лавошников. – Тормозят всякое дело…
Помалкивавший и прислушивавшийся к разговору Савельев, председатель фабкома, нервно потрогал бумаги на столе и кашлянул.
– Дело огромадное… – конфузливо сказал он. – Оно требует больших тысяч, а мы тут этак легко решаем… Товарищ Широких взял себе в голову перестройку, то есть окончательное изничтожение старой фабрики – и уперся… А в центре виднее. Там общий план. Там общая наметка… Я высказывался ранее и теперь скажу: не преждевременно ли все это?..
– Значит, по-твоему, бросить?
– Теперь, конечно, бросать, пожалуй, уже поздно… Но сократиться следует.
– Сократиться? Скажешь ты! – накинулся на Савельева Лавошников. – По-твоему, видно, никакой рационализации не нужно. Какое получили от хозяев, от капиталистов наследство, такое, значит, и пущай действует?.. Ну, браток, при этаком-то положении ни до какого социализма не доберешься!.. Будешь на одном месте толкаться, да и только!..
– Я не против рационализации… – оправдывался Савельев, начиная раздражаться. – Да ведь не хватит денег. Вот сократят теперь в центре – и выйдет ни два, ни полтора… И, по-моему, чем чтобы там сокращали да урезывали, лучше самим подсократиться…
– Ты думаешь, есть с чего сокращать? – обратился к нему директор и выдернул из кучки бумаг расчерченный, разграфленный лист какой-то ведомости… – Ну, как по-твоему, на чем нам экономить? Скажи?
– Я не хозяйственник! – побагровел Савельев. – Это не мое дело сметы составлять… Вам виднее. Вы и сокращайте… разыскивайте экономию…
– Так что же ты путаешься, если не знаешь? – гневно прокричал Лавошников.
– Постой, погоди, Лавошников! – остановил горячившегося товарища Капустин. – Этак никакого толку у нас не будет, если мы станем перепираться… Сокращать, говоришь, Савельев, нужно? Ну допустим так. Будем сокращать. С чего же начнем? Давай цифры.
Директор положил ладонь на ведомость, словно припечатал.
– Вот здеся все цифры!.. За какую ни возьмешься, все как по живому месту будешь резать…
– Покажи! – потянулись руки к ведомости.
Сбившись тесно, голова к голове, над ведомостью, над сметами, собравшиеся стали изучать, рассматривать каждую цифру.
Кто-то откашлялся и глухо сказал:
– При чем тут, товарищи, в смете сумма на жилстроительство стоит? При чем! Вот если б…
Широких дернулся вперед и весь загорелся;
– По этой статье думаешь сокращать?.. Прекрасно!.. Расчудесно!.. Значит, так надо понимать: фабрику, мол, построим по всем усовершенствованиям, лучше не надо, а для рабочих, для живой силы, все по-старому оставить? Так? Да?.. Хорошо!.. А мы, признаться, думали по-иному. Мы рассчитывали и рассчитываем, что ежли вырывать старое, так уж с корнем, напрочь… Чтоб никаких следов не оставалось!
– С плеча рубить опасно…
– Ничего… Никакой опасности!..
– А если в центре не согласны? Если придется подсократиться? Надо, Широких, заранее быть готовым!..
В кабинете было накурено. Синеватый, едкий дым густел и не хотел вытягиваться наружу сквозь открытое окно. Спор разгорался. Капустин сцепился с Савельевым, и кругом них велись и сталкивались отдельные восклицания. Директор вдруг замолчал и стал прислушиваться к спору, приглаживая ладонями разбросанные по столу бумаги. Он раза два взглянул на Карпова и, что-то подметив у того в выражении лица, повторил уже раз сегодня заданный вопрос:
– Сдаешь, Лексей Михайлыч?..
– Да нет… – уклончиво ответил Карпов и сконфуженно опустил глаза.
– Ну, то-то.
V
Вечером директор уехал на станцию. Каурый конь легко вынес дрожки, и когда прибитая, наезженная дорога гулко зарокотала под колесами, Широких сунул руки в карманы, крепче уселся на сиденье и жадно вдохнул в себя луговой, сладкий вечерний воздух.
– Черт! – подумал Широких, дыша полной грудью. – Ишь, здорово хорошо кругом…
И на мгновенье он вспомнил и установил, что вот проходит лето а он, живя поблизости от леса, от полей, совсем не видел зелени, что он ни разу не вышел в поле, не полежал на сочной, зеленой траве, не погрелся на солнце. На мгновенье что-то похожее на тоску коснулось его. Но откуда-то издалека ветер донес отрывок паровозного гудка, директор встрепенулся, сжал кулаки в карманах – и забыл о лесной зелени, о лугах, об уходящем лете…
Заместителем Широких по фабрике остался Карпов.
Алексей Михайлович забрал к себе на стол оставшиеся после директора дела, и директорский кабинет стоял пустынный и необитаемый. И когда приходили к директору и толкались в закрытый кабинет, Власыч морщил нос и раздраженно совал согнутым пальцем в ту сторону, где сидел Карпов:
– Сюды!.. Проветриваем кабинет-то. Вольный дух напущаем…
У Карпова настроение было вялое и угрюмое. Он редко теперь встречался с Федосьей и совсем не показывался в глазуровочное отделение. Он избегал ее и вместе с тем его мучительно тянуло к ней.
Когда после утомительного беспокойного трудового дня он оставался один в своих двух комнатах и синий вечер вползал в раскрытые окна и золотые пятна падали от мигающих электрических лампочек на стол, на спинки стульев, на скупые картинки, развешанные по стенам, у Карпова сжималось сердце. Он останавливался у стола, барабанил пальцами по бумагам, по раскрытой книге и думал. И перед его глазами вырастала Федосья – живая, ослепительная, желанная. Она улыбалась ему лукаво, она показывала сверкающий ряд зубов, она щурила ласково глаза, она звала.
У Карпова захватывало дух. На губах трепетала улыбка; руки нежно и осторожно ощупывали бумаги, книгу, стол. Словно одержимый, он застывал неподвижно, с неподвижным, восхищенным взглядом, с разгорающейся радостной улыбкой.
И когда он ловил себя на таких мыслях, его обжигал нестерпимый стыд. Он оглядывался пугливо и воровски, словно боялся, что кто-то подслушивает его мысли и читает его грезы. Стыд заливал его лицо, его уши густым горячим румянцем. А вместе со стыдом приходило отчаянье.
Он знал, он чувствовал, что для Федосьи он чужой, ненужный и что он всегда будет ей чужим и ненужным. Он знал, что она ему никогда так не улыбнется, как он об этом грезил. Он чувствовал, что между ним и ею всегда будет лежать непроходимая пропасть. И ему приходила на ум мимолетная встреча Федосьи с директором. Он подметил тогда, как встрепенулся Широких, разглядев девушку, и как она опустила на мгновенье глаза. Ему запала в душу эта встреча, такая обыденная, такая незначительная. Что-то подсказало ему, что в этой встрече заложено большое, сложное. Ревнивое чувство томило его, оно выбивало его из колеи, делало его хмурым, мешало ему работать.
Он поймал себя на мысли о том, что вот вчера в директорском кабинете что-то дернуло его держаться в стороне и самим молчанием своим и своей уклончивостью, в сущности, выступать против директора. И, поймав себя на этом, Карпов обжегся горячим стыдом.
– Эх, нехорошо! – поморщился он. – Глупо как!..
Окна были раскрыты настежь. Из сада доносилась музыка. В саду на открытой сцене шло представление. Там гуляли беспечно и весело. Так молодо и так легко звучали голоса, всплескивался смех. В этом саду еще недавно Карпов встретился с Федосьей и разговаривал с ней. И там объяснился. Вспомнив об этом, Алексей Михайлович скривил губы, как от боли, и повторил:
– Ох, как глупо! Как все это подло, непроходимо глупо!
Он припомнил весь свой разговор с девушкой: и то, что он ей говорил, и то, что она ему ответила. Лицо его стало унылым и кислым. Губы сложились в плачущую, в скорбную гримасу.
– Как ненужно… как глупо!..
Карпов качал головой, и тень от него, длинная и нелепая, качалась, ломаясь на стене.
Вечер из синего за окном превратился в черный, в густой бархатисто-черный. Вечер вползал в окна острой свежестью. Карпов зябко повел плечами, взъерошил свои белокурые волосы и, подойдя к окнам, закрыл их одно за другим.
Музыка сразу заглохла и оборвалась, прильнув к холодным стеклам там, по ту сторону, на улице.
Часы пробили десять. Десять хрустальных шаров покатились один за другим. Десять звонких капель пролилось где-то за фабрикой.
Карпов сверил свои часы на руке с боем фабричного колокола и заторопился. Его вдруг потянуло на воздух, в сад. Ему захотелось уйти из дому, освежиться, рассеяться.
Он вышел. У ворот на скамейке темнели люди. Не замечая их, Карпов прошел на средину пыльной улицы и медленно пробрел в ту сторону, откуда веяло речной сыростью, где чувствовалась живая жизнь реки и где всплескивались смутные, неуловимые звуки. С широкой улицы свернул он в переулочек. Внизу белела река. На берегу грудились бревна. Карпов дошел до бревен и уселся на них.
Пустынно и тихо было кругом. Река замерла, застыла и слабо поблескивала. А небо обложено облаками, так что не видно ни звезд, ни луны.
Оттого, что кругом было тихо и пустынно, оттого что небо было пасмурно и река мутно и матово поблескивала, словно замутненное старое зеркало, Карпову стало здесь еще тоскливее, чем дома. Он вздохнул и стал слушать тишину.
Вдруг он почувствовал, что он здесь, у реки, не один, что есть тут кто-то поблизости еще. Он насторожился, стал прислушиваться. Откуда-то сбоку, из-за штабелей бревен доносился приглушенный говор. Мужской голос страстно и убедительно говорил:
– Те… они все так себе… Честное слово!..
– Набалуешься да и откачнешься! – певуче и звонко вплелся женский голос. – А я потом что?.. Как Стешка же, разве?..
– Нет, ты не бойся!..
Мужчина говорил немного снисходительно, горячо, настойчиво.
Карпов вслушался. Ему показался знакомым голос мужчины: «Где я его слыхал?» – постарался он вспомнить. А мужчина продолжал говорить, и слова его рокотали нежностью, лаской и в этой ласке, в этой нежности уже чувствовалась уверенность. Женщина лукаво рассмеялась. Смех плеснулся задорно и понесся над водою.
– Тише! – приглушенно остановил ее мужчина. – Ишь ты какая!
Небо стало светлее. Облака начали рассеиваться, сползаться к югу. Обнажилось чистое бирюзовое поле на небе. Река заиграла искрами.
Карпов встал и пошел в ту сторону, где разговаривали. На бревнах, тесно прижавшись друг к другу, сидели двое. Они отпрянули один от другого, увидев Алексея Михайловича. Женщина смущенно вскрикнула. Мужчина приподнялся навстречу Карпову и, вглядевшись в него, успокоил свою собеседницу:
– Ничего… Сиди!
Алексей Михайлович узнал в мужчине Василия.
Он прошел мимо него, мимо пригнувшейся и спрятавшей лицо женщины молча. Злоба, внезапно нахлынувшая и ознобившая его цепким холодком, тихая злоба охватила его.
«Вот! – подумал он и сжал кулаки. – Вот так же и с Федосьей любой парень, любой рабочий сможет… А я… А у меня ничего не выйдет!»
Глава восьмая
I
Три дня уже шел дождь. Небо обложилось мутными серыми тучами, хребты спрятались за зябкой сеткой дождя, дороги покрылись жирной глинистой грязью, в полях было уныло. Внезапно повеяло нежданной осенью.
В цехах, несмотря на ранние часы, стало темно, и электрические лампочки вспыхивали сразу же после обеда. Дождевые потоки ползли по оконным стеклам, с улицы, в цеха гляделась безглазая тоска. Тоска заползала в сумрачные корпуса фабрики, в полутемные мастерские, в низкие склады. Шум дождя, неумолчный и надоедливый, прихлестывал собою шумы и грохоты фабрики. Рабочие посматривали сумрачно, работали вяло. От желтого электрического света, мешавшегося с немощным светом пасмурного, непогодливого дня, на лица рабочих падали серые, зеленоватые тени. И все казались не по-обычному сосредоточенными и суровыми.
Веселее, чем где-либо, было в горновом цехе, у печей. Печи дышали нестерпимым жаром, и этот жар теперь, когда на улице было ненастно, когда на улице было сыро, холодно и грязно, радовал и веселил.
Поликанов ходил вокруг горна и покряхтывал от удовольствия:
– Вот тута хорошо… Тута не мочит… нет!..
Работавшие вместе с Поликановым помалкивали, но по лицам их видно было, что они соглашаются со стариком и что они знают и чувствуют сами, что действительно, здесь, в тепле, очень хорошо.
И только один кто-то, недовольный, озабоченно вымолвил:
– Хорошо-то, конечно, хорошо… А вот сена-то сгниют… Ето не дождь, а самый настоящий сеногной!.. Еще в копны кои не сгребли, а кои и не откосились… Пропадут покосы… Очень возможно, что пропадут!..
Тогда и Поликанов спрятал свою радость. Он покрутил головой и сплюнул:
– С сенами худо будет… Наплачутся-то, у кого лошади…
Кто-то весело рассмеялся:
– Беда с вами, товарищи! Пообзавелись лошадками да коровами, да теперь охаете, на небо глядючи: ай, дождь, ох, ненастье!.. сено сгниет!.. овес положит!..
– Не зубоскаль! – сердито остановил говорившего – молодого черноволосого рабочего – Поликанов. – Кому какое горе, ежели у рабочего для своей надобности и для семейного удовольствия скот имеется… Своим горбом рабочий все это наживал. Понимать это надо…
– Я понимаю! – усмехнулся спорщик и замолчал.
Дверь, визжа на блоке, раскрывалась и закрывалась.
Торопливо входившие рабочие отряхивались, фыркали и проталкивались погреться и обсушиться к печи:
– Благодать!.. Не жизнь тут, а одно удовольствие!..
– А Белая дурит. Плоты срывает…
Горновщики отошли от печей и окружили вновь прибывших. Смутная тревога охватила их.
– А как плотина?
– В пруду вода играет?
– Играет!.. Гляди, сорвет, промоет плотину. Тогда весь механизм снесет…
Поликанов к чему-то прислушивался и тревожно сказал:
– В двенадцатом годе, при Петре Игнатьевиче, при хозяине, так же вот дожжи две недели шли и уполнили пруд до крайности, а по прошествии краткосрочного времени промыла вода плотину и остановились толчеи да мельницы, да волокуши на цельных на два месяца… Стеснительно было для рабочих. Ужасно!..
– Теперь, бать, не промоет, не сорвет!..
– А пошто же это не сорвет? Плотина, она этакая же, как и при Петре Игнатьиче, как в двенадцатом годе…
Поликанов вдруг замолчал. На морщинистых щеках его выплыли желтоватые пятна. Он отвернулся и отошел к раскаленным заслонкам печей.
Дождь усилился. Широкие потоки воды сбегали с крыши и сердито захлестывали окна. По большим лужам на пустынном дворе плясали бесчисленные круги, и водяная пыль трепетала над ними, как синеватый дымок.
Пустынный двор сразу почему-то ожил. По лужам, по грязи побежали куда-то в одну сторону рабочие. Кутаясь в дождевик и размахивая руками, вместе с ними побежал Карпов.
Горновщики прильнули к окнам и встревоженно проследили за бегущими:
– К плотине ребята бегут… Рвет!..
– Ох, сорвет, товарищи!..
– Ведь это беда, ребята! – встрепенулся Поликанов.
– Чистое наказание! Поглядите за горном! – решительно сказал он, что-то надумав. И, схватив пиджак и натягивая его на себя на бегу, он выбежал на двор под дождь.
II
Плотину сорвало. Мельницы, толчеи, волокуши остановились.
Широких задержался в городе два дня, а два дня сидел на той стороне и ждал перевоза. Паром не ходил, и паромщик полеживал в старенькой избушке на берегу, пил водку и пел дикие тоскливые песни.
Только на пятый день, когда дождь затих и погода стала устанавливаться, Андрею Фомичу удалось перебраться на фабричную сторону.
Не успев обсушиться и отдохнуть с дороги, директор прошел в контору. У дверей своего кабинета он наткнулся на Власыча, который шумно поздоровался с ним и брюзгливо поведал:
– Ухайдакали плотину-те… Неустойка теперь сырьевому цеху. Убыток!..
– Ладно, ладно, скрипун! Знаю я! – отмахнулся от старика Андрей Фомич и быстро прошел в кабинет.
Пришедший туда немного спустя Карпов застал директора за столом, выкладывавшим из портфеля измятые бумаги.
– Здорово, Лексей Михайлыч!.. Ухнула плотина? Настряпали нам делов дожди?
– Ничего нельзя было поделать, – протягивая директору руку, виновато и сумрачно ответил Карпов.
Осунувшееся лицо его было измучено, под глазами лежали темные круги.
– Бились мы, бились – и все понапрасну…
– Старое барахло! – с гневным презрением сказал Широких. – Гнилье… Этак в один прекрасный день, не успеем оглянуться – и стены повалятся нам на голову. – Ну, докладывайте, что и как…
Карпов обстоятельно и торопливо стал рассказывать. Он рассказал о том, как шел дождь, как замечено было, что с плотиной неладно, как он снял, откуда можно было, рабочих и поставил к плотине, как бились, борясь с водой, и как в конце концов вода одолела все усилия, прорвала плотину, залила колеса и остановила целый цех.
– Измучились мы тут все, а толку никакого! – уныло закончил он. – Теперь месяца полтора сырьевой цех будет стоять. Несчастье…
Андрей Фомич вылез из-за стола и стал ходить по кабинету. Шаги у Андрея Фомича были большие, а кабинет маленький, и выходило, что он мечется в клетке, топчется почти на одном месте и не может уйти.
– Да, беда! – не останавливаясь, подтвердил он. – Забузят теперь в центре. Намылят нам шею, здорово намылят, Лексей Михайлыч!
Он остановился перед Карповым и широко улыбнулся.
– А мне и так намылили, больше некуда… Под суд хотели отдавать… Шум, грохот у нас на совещанье стоял несусветимый! По трестовской линии пилили-пилили меня, а потом еще пуще по партейной… Совсем, думал я, съедят напрочь, без остатку… Одначе… – Андрей Фомич улыбнулся еще шире, еще светлее. – Одначе, оставили живого… Да то надо сказать: я ведь сам с усам… Мне слово, а я два… Я свою правоту прекрасно понимаю. У меня данные, Лексей Михайлыч… данные! А против них не пойдешь. Ну, короче сказать, строить нам позволяют!
– Ну, наконец-то! – вспыхнул Карпов и сразу же осекся. – А эта катастрофа с плотиной, она, Андрей Фомич, нам не изгадит всего дела?
– Нет! – решительно ответил Широких. – Не изгадит… Да погоди, постой, Лексей Михайлыч, мы об этом обо всем попозже подробно потолкуем. А теперь вот забирай кой-какие бумаги да айда на плотину, на фабрику. Будем глядеть…
Отобрав из выложенной из портфеля кучки стопку бумаг, Широких сунул ее Карпову и пошел из кабинета. На ходу, словно вспомнив об этом только теперь, он объявил:
– Людей нам обещали послать… Работников… нам на усиление… На той неделе прибудут…
На улице, куда они оба вышли, было сыро. Небо, обложенное редкими ползшими зыбко и переменчиво, как змеи, облаками, лежало низка над крышами, хмурое и неприветливое. Широкие лужи тянулись от стены к стене. Грязь громко чавкала под ногами.
Дым из фабричных труб медленно стлался книзу, к самой земле.
Пруд вздулся, и мутная вода его выплеснулась через высокие берега. Высокая мутная вода залила плотину, снесла мостки и медленно текла в Белую.
Широких обошел плотину, перебрался в полутемные сараи, где сиротливо и заброшенно стояли молчаливые и неподвижные теперь волокуши и толчеи, где остановились громадные колеса и куда жидкой грязью просочилась дурившая, проказливая вода.
– Дела!.. – протянул Андрей Фомич и пошел дальше.
Фабричный двор весь залит был глинистой непролазной грязью. От корпуса к корпусу пробираться можно было только по наспех проложенным дощатым мосткам. Фабричные стены, обрызганные, ополоснутые дождями, были неприглядны и неряшливы. Окна глядели подслеповато и тускло.
– Красота! – усмехнулся зло Широких и выругался.
Побывав в горновом и токарном цехах, Широких круто повернул туда, где тянулось каменное здание глазуровочного отделения. У входа в это отделение Карпов замялся:
– Я, Андрей Фомич, пожалуй, пройду в расписной…
– Обожди… Вместе туда зайдем! – попросил директор. – Мы тут ненадолго…
Карпов опустил глаза и, промолчав, пошел вслед за директором в глазуровочное отделение.
Женщины оглянулись на вошедших и жарче принялись за работу. Молчаливая настороженность встретила пришедших. Андрей Фомич медленно прошел возле работниц, изредка останавливаясь подле какой-нибудь. Он поздоровался со всеми легким кивком головы и почти каждой сказал что-нибудь веселое и приветливое. В отделении повеяло свежестью. Всплеснулся легкий смех. На лицах затеплились улыбки.
Остановившись около Федосьи, Широких молча поглядел на работу девушки. Он полюбовался ее изящными движениями, ее нежными, красивыми руками. Федосья, украдкой оглянувшись на него, продолжала работать как ни в чем не бывало. Но предательская краска, окрасившая ее щеки и захватившая кончики ушей, выдавала ее волнение.
Помолчав, Андрей Фомич придвинулся поближе к девушке и мягко спросил:
– А как девчонка-то, которая топиться собиралась? Поправилась?
– Поправилась… – односложно ответила Федосья, наклоняясь ниже над бадьей с глазурью.
– Дома она?
– Дома.
– Вот и хорошо… Ах, она глупенькая… Что надумала!
Голос у Андрея Фомича зазвучал необычайной для него мягкостью, и было лицо его ясно и притягательно. Федосья взглянула на него, мгновенье задержала свой взгляд, встретившись с открытым, прямым взглядом директора, и быстро отвернулась. Огневой румянец залил ее щеки и шею.
– Вот и хорошо! – зачем-то повторил Широких и прошел дальше.
Карпов стоял в стороне, когда директор заговорил с девушкой. Карпов подглядел смущенье Федосьи: он отметил для себя и то, как она вся зарделась, почувствовав возле себя Андрея Фомича, и то, как изменился, смягчился и заиграл нежностью голос у директора.
Карпов сжал губы и слегка наморщил лоб.
Оставляя глазуровочное отделение, Широких приостановился у дверей и оглянулся на Федосью. И ясная задумчивая улыбка его дрогнула и расцвела, когда он увидел, что девушка повернула голову и встретилась с ним взглядом. И встретившись – смущенно и мило опустила глаза.
III
– Плотину в этаком виде, как она ранее была, ни в каком разе восстанавливать не будем… Ни в каком разе!..
Андрей Фомич обвел взглядом слушателей и поднял вверх короткий толстый палец:
– Первое: на это барахло не стоит труда и материалов тратить… А второе, – вверх взметнулся второй палец, такой же толстый и короткий, – а второе: будем, товарищи, ставить здесь турбину… К черту эту допотопную рухлядь! К черту!.. С ей одной только мученье… И все равно, товарищи, сорвала бы вода плотину или не сорвала, а в нашем проекте эта турбина уже была предусмотрена.
– Выходит, – прервал директора чей-то насмешливый голос, – что дожжи по твоей, можно сказать, наметке, Андрей Фомич, орудовали?
– Положим, это не так. Немножечко, товарищ, не так. По нашим планам плотине бы нужно продюжить еще с годик. Ну, а если она сдала ранее, то ничего не поделаешь, будем строить теперь…
Производственное – совещание, на котором директор выступал с сообщением о своей поездке, тянулось уже часа два. В обширной конторской комнате было тесно. Окна, раскрытые настежь, пропускали скупо вечернюю острую свежесть, которая с трудом боролась с накуренным, густым, тяжелым воздухом, туго остановившимся в комнате. Народу собралось много, и среди других, изумляя своим присутствием обычных посетителей собраний, сидел Поликанов. Он пробрался поближе к столу президиума и слушал Широких Андрея Фомича внимательно и молчаливо. Директор сразу заметил старика и несколько раз пытливо поглядел на него. Старик спокойно выдержал недоуменные и слегка насмешливые взгляды рабочих. Старик был невозмутимо-сосредоточен, ко всему приглядывался, все примечал и разглядывал.
Когда директор заговорил о плотине, он вытянул шею и сторожко наставил ухо. Глаза его блеснули, и он невзначай кивнул головой, словно соглашаясь с чем-то и что-то одобряя. Но сразу же спохватился и снова стал сосредоточенным и невозмутимым.
Заседали уже часа три. Стало душно и утомительно. Председателю послали пару записок с предложением сделать перерыв. Председатель повертел эти записки, сунул их соседям, пошептался с тем, кто сидел справа от него, и с тем, кто был слева, поднялся и радостно сообщил:
– Так что тут предлагают маленький перерыв… Давайте, товарищи, сделаем минут на десять. Согласны?
Во время перерыва Пеликанов отошел к двери и прислонился к косяку.
Тут нашел его Андрей Фомич:
– Интересуешься, старик?
Поликанов взглянул исподлобья на директора:
– А что же мне не интересоваться? Я, можно сказать, все соки на этой самой фабрике из себя высушил… Ежли не мне интересоваться, то кому же всамделе?
– Я не спорю, – просто и дружелюбно сказал Андрей Фомич. – Я ведь только к тому, что ранее не видал тебя на наших собраниях…
– Ранее!.. Ранее я, скажу тебе, не касался… По пустякам тут разговору много было… А нонче захотелось мне послушать насчет того, как вы орудовать далее с фабрикой станете… И притом – насчет плотины. При Петре Игнатьевиче, при старом хозяине, рвало же ее… ну, неустойка огромадная выходила…
– От Петра-то Игнатьевича, от старых хозяев, от капиталистов, – с трудом сдерживая раздражение, громко сказал Широких, – от них такое мы, брат, барахло получили, что хуже некуды!
Поликанов искоса поглядел на директора и пожевал губами.
– Этого барахла надолго хватить может! – хмуро выдавил он из себя. – Надолго.
– Видал, как надолго? – прищурил левый глаз Андрей Фомич. – Плотину видал?
– Плотина… конешно, изношенная она… – проворчал Поликанов. – Годов-то ей много…
– А всей фабрике мало?
– И фабрика, что говорить, не новая… А все ж работать можно… Работаем, нечего грешить…
– Плохо работаем.
– Как умеем… Поздно переучиваться. Поздно, голубок!..
Андрей Фомич заметил в глазах Поликанова злые огоньки, усмехнулся и отошел. Старик посмотрел ему вслед угрюмо и неприязненно.
За председательским столом появились люди. Заплакала глухим звоном чашка, о которую председатель сосредоточенно и деловито стал колотить толстым цветным карандашом:
– Кончаем перерыв! Слово имеет товарищ…
Поликанов не стал дожидаться конца заседания и ушел сразу же после перерыва.
Над поселком висела сырая и зябкая тьма. Кой-где поблескивали лужи. Грязь звучно шлепала под ногами. Улицы были пустынны и безлюдны. Поликанов приостановился и стал прислушиваться. На пруду, у плотины все было мертвенно-тихо и неподвижно. Молчала вода, медленно, с еле заметным плеском и шелестом протекая через затопленные сооружения. Недвижны были колеса. Погасли огни в сараях, в неуклюжих громоздких зданиях, где раньше всегда круглые сутки глухо ворчали жернова, тупо стучали песты в толчеях и скрипели, растирая породу, волокуши.
Поликанов вздохнул, что-то поворчал себе под нос и пошел дальше.
У своих ворот он столкнулся с Федосьей. Девушка посторонилась у калитки, давая дорогу отцу.
– Откуда ты? – осведомился старик.
– У подруги была.
– У подруги!.. Чего по грязи хвосты трепать? Сидела бы дома… Дома, говорю, сидела бы…
Железное кольцо калитки тоненько и жалобно звякнуло, калитка заскрипела. Поликанов вошел в свой двор. Федосья молча прошла за ним.
На крыльце старик долго оттаптывал грязь с сапог, и девушка стояла сзади него, не решаясь пройти первой в дом.
В доме было тихо и светло. Пахло свежим хлебом и скипидаром. Мать рылась в сундуке, перекладывая какие-то тряпки. Парнишка сидел за столом, наклоняя коротко остриженную голову над книжкой. Электрическая лампочка обрызгивала эту голову красноватым золотом, и густая короткая тень от нее ложилась на край стола.
Взглянув на сынишку, Поликанов что-то вспомнил и раздраженно сказал:
– Чего полуночничаешь? Спать тебе пора… Спать…
– Да рано еще… – огорченно попросился Кешка. – Я вот дочитаю… Интересно очень…
– Интересно!.. – фыркнул Поликанов. – Глупые, ерундовые книжки читаешь… Ступай спать!
Парнишка нерешительно встал из-за стола и захлопнул книгу. Глаза его покраснели, но он сдержался и сердито посмотрел на отца. Федосья перехватила его гневный и обиженный взгляд и одобрительно улыбнулась ему. У Кешки дрогнули губы, он нахмурился, засопел, но сразу же неожиданно просветлел и заулыбался.
Старик уселся на лавку в кухне и кряхтя стал разуваться.
– Кешка! – позвала мать. – Ступай, помоги отцу.
– Не надо… – отказался Поликанов. – Его, вишь, за это еще из отряда чертовского прогонют… Сам справлюсь… У их, ты знаешь, в отряде против родительского уважения приучают…
– Совсем этому не учат! – рассердился Кешка, и в голосе его зазвенела обида. – У нас в отряде…
– Ну ты, кикимора, молчи!..
– Оставь, Павел Николаевич, не трожь ты его, ради бога…
– Сопляк он… – вздохнул Поликанов, разматывая портянки. – Распущен… И ты ему потатчица… Ту, дуру, распустила… Шляется, дома не сидит. Беда мне с вами…
Старик долго ворчал и все не мог успокоиться. Федосья ушла в свою комнатку и там затихла. Кешка постлал себе постель на широком громоздком сундуке, свернулся калачиком и, зажмурив глаза, приготовился уснуть. А Поликанов шлепал босыми ногами по чисто вымытому полу и упорно думал о чем-то.
Беспокойные мысли лезли ему в голову. Он вспоминал о том, что было на производственном совещании, о своей краткой беседе с директором, о затопленной плотине. Его беспокоили новые, недавно лишь охватившие его сомнения. Он злился на кого-то и на самого себя за эти сомнения, он внутренне безмолвно бушевал и спорил против них. Какая-то доля уверенности его, прежней непоколебимой уверенности в то, что новое бесполезно и глупо и что хорошо, прочно и налажено только старое, существующее издавна, поколебалась в нем, дрогнула.
«Всамделе, – думал он, – здорово обветшала фабрика… Очень просто – могут самым форменным порядком даже стены рухнуть… Поправлять надо… ремонт сделать…»
Он остановился и бесцельно потрогал кружевную скатерку на угловичке.
«Дак то – ремонт… – спорил он безмолвно сам с собою. – Ремонт – это еще допустимо… А они ведь все напрочь менять принимаются. Наново…»
Пред ним выплыло насмешливое лицо Андрея Фомича. Серые глаза взглянули смело и укоризненно.
«Барахло!.. – звучал в его ушах уверенный, властный голос директора. – Барахло…»
«Крепкий мужик! – подумал Павел Николаевич про директора, но спохватился, испугался этой похвалы, даже оглянулся украдкой кругом. – Работяга…»
В кухне, где возилась старуха, зазвенела самоварная труба.
– Чай готов, старик… Федосья, чай пить!..
– А ну их!.. – громко сказал Поликанов, махнул рукой и пошел на зов старухи.
IV
Земля пообсохла, вода в реке посветлела, тучи уползли за хребты, и небо стало как будто выше и бездонней. В высоком небе по-прежнему, как неделю назад, горячо зажглось солнце. И вернулись жаркие солнечные дни.
Значит преждевременно пугали тучи и ненастье осенью.
Вернулись горячие полуденные часы. Зазыбилось, заклубилось синеватое марево над полями. Как едкий, надоедливый дым закружились налетевшие из зарослей, из старых чащоб тучи мошкары и комарья.
Узенькие протопочки, глубокие тропинки змейками полезли по грязным вязким улицам. По краям высыхающих маслянистых луж проступила зеленая плесень.
По утрам над рекою чаще, чем прежде, стали перелетать дикие утки. Они летали в предчувствии скорого отлета на юг. В тихие утренние часы, когда тени были еще смутные и переменчивые, когда солнце светало сбоку, из-за леса, из-за хребтов, их полет был безмятежен и нетороплив. И кряканье и свист летящих уток звучали тогда особенно четко и громко.






