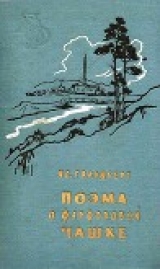
Текст книги "Поэма о фарфоровой чашке"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Поликанов дело хорошо понимает.
– У его опыт… Он фабрику лучше любого инженера понимает.
Поликанов обвел сосредоточенным взглядом комнату, словно прицениваясь к ее стенам, к ее потемневшему от копоти потолку, и со сдержанной скромностью подтвердил:
– Чего напрасно говорить, знаю… Каждый уголочек знаю в любом цехе.
Вдруг кто-то из рабочих спохватился:
– Надо пойти пошамать. Время-то идет.
Помещение фабкома стало быстро пустеть.
III
Поселок тянулся по берегу реки. Чистенькие деревянные домики с крашеными ставнями и резными наличниками хвастались деревенской, хозяйственной прилаженностью. Запыленные, обожженные зноем тополи высились над тесовыми заборами. Ворота с гремучими, звонкими кольцами у калиток плотно охраняли чинный и деловитый порядок дворов.
У Поликановых по обеим сторонам ворот, по всем швам изукрашенных жестяными ромбиками, выросли два домика. Старый, дымчатый, сложенный по старинке из десятивершковых лиственничных бревен, с маленькими оконцами, и новый – обшитый тесом, крытый железом и с окнами, в которых поблескивало по шесть стекол.
Новый дом Поликанов срубил для сына и вместе с сыном.
И когда сын Николай женился, новый дом принял в себя новых жильцов и закурил густым дымом из красной, под железным колпаком, трубы.
Старик остался в дедовском углу с младшими ребятами и со старухой. Но фабричный гудок по утрам будил в поликановском двору сразу трех работников: самого, Николая и Федосью – старшую дочь.
И трое сталкивались, разбуженные и подгоняемые гудком у калитки, причем Николай и Федосья отставали, отстранялись, давая дорогу старику.
Николай молча кивал отцу, ухмылялся Федосье и, выйдя из калитки, быстро уходил от спутников, присоединяясь к кому-нибудь из приятелей, бодро шагавших по широкой улице. Золотистая пыль легко вспыхивала из-под их ног, скупые, по-утреннему звонкие возгласы плыли над ними, стук калиток и железный звон скоб и колец отмечали их путь.
Поликанов молча здоровался со стариками и шел вместе с ними.
Молодежь опережала их, на ходу перекидываясь шутками.
На мосту, где слышались шумы текущей воды, где гулко рокотали дробилки и волокуши, толпа выплескивала окрепнувшие вскрики: здесь, покрывая первые шумы фабрики, спорящие с плеском и урчанием воды, люди старались перекричать друг друга и с бодрым, веселым шумом, с вздрагивающим смехом растекались по цехам.
Открытые двери корпусов поглощали их. Двор пустел. Из труб вырывались густые клубы дыма. Пар, шипя и свистя, яростно ввинчивался в ясное утреннее небо.
Начинался трудовой день.
Старик Поликанов проходил в горновое отделение. Густой, тяжелый знойный дух обдавал его с ног до головы, когда он, облачившись в фартук и захватив вареги, подходил к своей печи. Рабочие из ночной смены торопливо стаскивали с себя прозодежду и, кинув на ходу приветствие, уходили из горна.
В обеденный перерыв Поликановы уходили домой не вместе. Опережая отца, Федосья летела, раскрасневшись и широко взмахивая, как крыльями, забеленными глазурью руками. Она торопилась поспеть домой раньше старика, чтоб помочь матери наладить на стол.
Николай сворачивал с широкой улицы в переулок, спускавшийся к реке, и там, быстро стащив с себя одежду, шумно и весело бросался в воду.
Старик степенно, растеривая по дороге крепкую усталость, уходил домой один.
Изредка к Николаю присоединялся его приятель Василий. Тогда они долго плескались в воде, громко перекликаясь и споря о каких-то общих своих делах.
Дружба у Николая с Василием завелась еще с детства, несмотря на то, что Николай был старше Василия на пять лет и был уже четвертый год женат.
Они дружили не только потому, что избы их родителей стояли рядом. Не только поэтому. Было что-то общее в них, что связывало и тянуло друг к другу, с годами усиливая эту привязанность.
IV
У станков в токарном цехе, там, где сырая серовато-белая глина, бесформенная и неприглядная, обретает стройную и законченную форму, – рядом с другими стоит Василий.
У Василия упрямо сдвинутые брови и внимательный, немигающий взгляд. Но губы его смеются. Василий быстро действует руками, и плечи его покачиваются и сам он весь слегка покачивается, следуя за бегом, за стремлением, за круговоротом станка.
Руки его покрыты серовато-белой глиной. Руками он ловко, быстро и беспрестанно обминает комок глины, брошенный на станок. Из комка глины под руками Василия рождается стройная, нежная, хрупкая чашка. И стройными, нежными, хрупкими чашками уставлены полка и стол возле Василия. И не хватало бы места этим чашкам на полке, на столе, если бы время от времени их не уносили на длинных досках-носилках.
У Василия упрямо сдвинуты брови, но губы его улыбаются. На губах радость.
Вчера в праздничный день, на поляне, за спортивной площадкой, ему удалось, наконец, по-настоящему поговорить со Стешей. У заросли, сбегавшей к речке, на полуистоптанной траве поймал он девушку, схватил ее за руки и полушутя-полуугрожающе сказал:
– Теперь не уйдешь…
И Стеша, отбиваясь от него, вся упругая, сильная и радостно-взволнованная, почти сдавшись, неуверенно запротестовала:
– Ишь какой… пусти… Пусти, глупый…
Стешу Василий заметил с весны этого года, когда она только что появилась на фабрике. Она пришла с позаречья, оттуда, откуда приходили многие на фабрику.
Ветхий и скрипучий паром соединял фабричный поселок с деревней Высокие Бугры.
В Высоких Буграх жило больше половины рабочих фабрики. И высокобугорские мужики мало чем отличались от фабричных. И из деревни каждый год приходили все новые и новые рабочие.
Вместе с другими в этом году пришла на фабрику и устроилась в укупорочном Стеша.
Василий родился и вырос в поселке. Отец его, теперь инвалид, а в прошлом, до фабрики, поселенец, обосновался в поселке давно, крепко обстроился, крепко и прочно врос корнями: пятистенным, на городской манер домом, с тесовыми воротами, с палисадником и двумя тенистыми тополями перед окнами.
Отец Василия, горновщик, пустил обоих сыновей – старшего Герасима и младшего Василия – по горновому цеху, но Василий не удержался на этой работе и скоро перешел в токари. Властный и крутой старик побушевал против самовольничанья Василия, попытался было даже сломить его силой, но напоролся на твердую, внезапно обнаружившуюся волю семнадцатилетнего мальчишки, и сдался.
– Варначья кровь, – определила мать, когда старик пожаловался на Васькину строптивость. – Весь в тебя, Потап. Погоди, еще подрастет, так и колотушки тебе перепадать будут.
– Убью! – храбрился Потап, но втайне любовался сыном, который, видать, из крепкого материала был сбит.
В токарном Василий через два года считался уже настоящим работником, которого можно поставить на сложную форму А к двадцати годам у парня заработок пошел выше, чем у Герасима, обжигавшегося и томившегося у гигантских печей.
– Видал? – ехидно спросила старуха Потапа, когда Василий впервые принес домой свою часть заработка, превышающую часть Герасима.
– Молчи… раскудахталась! – осадил Потап жену, пряча смущение.
А Василий после этого забрал в доме волю, повел себя независимо и самостоятельно, ни в чем не уступая старикам.
Конечно, если бы это было в прежние времена, этак годков пятнадцать назад, быть бы скрученным Василию: обломал бы его старик, перемял бы его волю.
Потап, прошедший старинные этапы, похлебавший на своем веку немало острожной баланды, испытавший на своей шее тяжелую руку неумолимых тюремных смотрителей и хитрых, мстительных надзирателей, сумел бы укротить парнишку. Теперь же пришлось смириться. Затаить в себе стариковскую обиду. Сжаться, молчать и стараться не ввязываться в споры с крикливою, смелою и насмешливой молодежью.
Василий, не порывая с семьей, жил своей, отличной от других жизнью. Он уходил из дому по вечерам, едва успев наскоро поужинать и переодеться в чистое платье. А возвращался после полуночи.
И когда Серый, старый злой пес, ворчливо лаял на его стук в калитку, старик ворочался, кряхтел и толкал старуху в бок.
– Устинья, ступай отлаживай своему полуношнику…
Василий не отдавал никому отчета – куда и зачем он ходит до поздней ночи. Его не спрашивали. Но и без расспросов старики знали: бродит парень по молодому делу, кровь полирует. А если Василий как-нибудь иной раз проговорится, что вот, мол, вчера на заседании в клубе засидеться пришлось до двух ночи, – старики переглянутся и спрячут в себе хитрую усмешку.
– Заседания эти, паря, тебе в лименты вскочут, – не выдержал однажды Потап. – Будут у тебя в конторе червонцы высчитывать… Заседанья!
Василий тряхнул головой и недовольно проворчал:
– Сказано – в клубе. Какие тут разговоры! А если и до алиментов дойдет, так из своего карману… Ни у кого просить не стану.
Фабричным девушкам Василий нравился. Был он рослый, белолицый, с серыми веселыми глазами. Умел пошутить, умел крепко и горячо обхватить в шутливой, таящей в себе грядущие ласки, борьбе. Старик Потап не зря спрашивал его об алиментах. Легкий успех избаловал Василия, он часто менял свои привязанности. Девушки знали, что он не умеет долго задерживать свое внимание на одной, и тем не менее поддавались его чарованию. Но случалось, что кто-нибудь сопротивлялся дольше и упорней, тогда Василий забывал обо всем и всех, бывал неотступен и настойчив до тех пар, пока не добивался своего.
Так случилось и с высокобугорской Степанидой.
Девушка, заметив, что Василий заинтересовался ею, стала избегать его, стала уклоняться от встреч. Раза два она внезапно умолкала и уходила, заметив приближение Василия.
И вот только вчера ему, наконец, удалось задержать ее, застав одну, и поговорить по-настоящему.
Правда, девушка держала себя настороже и все время вырывалась из его рук. Но по взволнованному виду ее, по тому, как вздрагивала она и обжигалась сочным румянцем от каждого его прикосновения, понял он, почувствовал, что мил Степаниде, что сломить ее, хотя это будет труднее, чем с другими девушками, ему удастся.
Поэтому сегодня на губах его была радость.
V
Ловко орудуя руками и уйдя одновременно в работу и в мысли, Василий услыхал за своей спиной непривычное движение. Кто-то остановился сзади него и наблюдал за его работой. Василий мельком оглянулся. В цех вошли технический директор, завцехом, кто-то из своих инженеров и чужой, незнакомый.
Этот чужой подошел ближе к Василию, поднес левую руку с часами-браслеткой к глазам и что-то высчитывал по времени.
– Хорошая работа, – опуская руку с часами, сказал он. – Вот если б у вас процентов шестьдесят так работало, вы шли бы очень далеко впереди…
Технический директор угрюмо усмехнулся:
– Если б при хорошем оборудовании, так очень просто…
– Оборудование это при теперешних условиях не главное, – поучительно заметил чужой, – главное – повышение производительности труда… Если установить нормальную выработку и строгую ответственность за продукцию, то и с теперешним оборудованием можно лет десять очень хорошо работать.
Василий замедлил движения, полуобернулся и стал слушать внимательней. Другие рабочие тоже насторожились. Посетитель сунул руку в карман широкой толстовки и уверенно продолжал:
– Я знаю: на этой фабрике недавно, еще лет восемь-десять назад, высокохудожественные вещи делали. Однажды выпустили такое расписное блюдо, что его в Петербурге не могли отличить от изделий императорского завода…
– А, это про то блюдо, которое папаша ваш царю посылал!
Голос, внезапно прервавший посетителя, прозвучал насмешливо и ехидно.
Технический директор и чужой переглянулись. Василий тоже повернул голову в ту сторону, откуда раздались слова. Он знал, кто это так бесцеремонно прервал посетителя, по всем видимостям того самого консультанта из Москвы, о котором недавно говорили на фабрике и в клубе. Это был Егор. Партийный, шустрый токарь, не дающий никому спуску, первый спорщик и говорун.
Посетитель усмехнулся и покрутил головою.
– Действительно, в самом деле, – подтвердил он спокойно и ровно. – Родитель мой, когда владел этой фабрикой, посылал изделия высшего сорта, как образцы художественных и технических достижений, в столицу… Даже за границей бывали вещи, сделанные на этой фабрике… Вот я об этом и говорю: значит, имеются тут богатейшие возможности.
Он обвел взглядом ближайшие станки, оглядел рабочих, поймал взгляд Василия и слегка улыбнулся ему. Затем зашагал дальше. А за ним технический директор и другие.
– Этот, что ли, из Москвы-то? – спросил Василий у соседа.
– Этот самый.
– Стало быть, хозяйский сынок?
– Выходит – сынок.
Сосед приостановил работу и потянулся к Василию.
– Пойдет у нас теперь буза. Застопорит он перестройку фабрики. Затем и приехал, видать…
– А может, по-теперешнему-то и лучше?
– Почему это лучше? – нахмурился сосед.
Василий вспомнил разговор дома за обедом, когда отец долго разглагольствовал о том, что вот, мол, умные люди в Москве сидят, сообразили, что зря казенные денежки тут собираются в стройку ухлопать, что можно и в старых корпусах и со старым оборудованием товарец на ять выпускать. Было бы слажено с умом, да управители бы толковые.
Василий по-своему повторил слова отца:
– Да потому лучше, что денег зря много не придется переводить да рабочим накладно не будет… А с машинами, знаешь как? Сегодня ты делаешь свою норму и спокоен, а заведут новейшие машины, и придется тебе лезть из кожи, втрое, вчетверо больше за ту же ставку выставлять…
И снова из того угла, где Егор, неожиданно и незванно громкий окрик:
– Ну и сознательность… Ай, ладно, Вася. Значит, по-твоему, никакой рационализации, никаких машин?
– Пошто никаких? Я не против лучшего… А только сомнительно мне… Да и многим другим.
Василий замолчал и, схватив новый комок массы, бросил его на станок.
Возвращаясь с обхода по цеху, снова проходили чужой – Вавилов, технический директор и другие.
Егор, делая вид, что не замечает проходящих, укоризненно протянул:
– Это старье все на слом, а на место вавиловского наследства новую стопроцентную фабрику…
VI
Утром, у караульной будки, возле плотины, на деревянном щиту запестрел плакат: фабком созывал широкое собрание совместно с производственными комиссиями и редакцией стенгазеты. Повестка дня была короткая, но волнующая и злободневная:
– О переоборудовании фабрики.
Утром перед плакатом останавливались не надолго, второпях. Зато в обед здесь были толчея, шум и галдеж…
Шумели по-разному. Старые рабочие ворчливо к многозначительно перекидывались короткими замечаниями, ехидными и острыми:
– Будет опять трепанье языком.
– Переоборудуют фабрику до ручки… И так посуда выходит такая, что прямо совестно глядеть.
– А изоляторы? Сколько партий железная дорога заворачивает обратно. Ну, ну. Поговорим. Пошто не поговорить? Языки свои, не купленные…
Молодежь шумела о другом:
– В шесть?.. Ах, язви его! Да я с ребятами на острова плыть собрался.
– Вот и поплыл… Как заведут теперь с шести, так, считай, до полуночи и засядешь на этом собрании.
– Язвинское, ребята, дело!
– А я сбегу…
– Смотри, как бы тебе не влетело.
Николай с Василием столкнулись вместе с другими у плаката.
– Придешь на собрание?
– Не-ет, – засмеялся Василий. – Дело у меня.
– Отложи. Тут, говорят, собрание важное. Надо непременно быть… Старики из кожи лезут, чтоб доказать ненадобность новой стройки. Им она поперек горла. Мой так прямо кипит. А таких немало… Ты, Вася, брось свое дело. Не убежит. Поди, с девчонкой какой сговорился?
– Вовсе нет! – запротестовал Василий. – Сурьезное у меня дело… Никак нельзя мне на собрание… Ну и притом: что я там буду делать. Все равно решат, как нужно, меня не спросят.
– Не дури, – рассердился Николай. – Кто за тебя решать будет? Ты сам себе хозяин, у тебя голова на плечах своя собственная…
– Собственная-то она собственная, да…
Василий усмехнулся и замолчал.
Они отошли от плаката и ступили на гулкий помост плотины. Вода с шипеньем и рокотом катилась где-то под их ногами. В стороне гудели и покряхтывали деревянные колеса и стучали толчеи.
Николай остановился на мосту и оперся а перила.
– Чудак ты! – ласково сказал он. – Ты посмотри: старье-то здесь какое, рухлядь. А вот если заместо гнилушек поставить турбину да обладить по-новому, по-усовершенствованному, разве от этого тебе или мне какой вред? Чудак.
– Слыхал, – недовольно ответил Василий. – Который уж месяц об этом у нас треплют: турбины, новые корпуса, тоннельная печь. То, се… А как заведут это все, да процентов пятьдесят рабочих к сокращению, да увеличат норму – сладко это будет?
– Ай, Васька, Васька!.. – засмеялся Николай. – Двадцать тебе лет, а говоришь как шестидесятилетний старикан… Откуда ты этого духа набрался? Не от наших ли стариков?
– У меня свой ум… Мне что старики? Разве я не понимаю?
– Выходит, что плохо понимаешь. Да и где тебе, по правде, Василий, понять суть дела, ведь ты на собрания не ходишь, газет не читаешь. Дикий ты… Ты бы хоть в синюю блузу записался… У тебя голосина замечательный. Пел бы… выступал.
– Пущай сам Самойлов Федька орудует, – пренебрежительно пожал плечами Василий. – Мне она, синяя блуза твоя, не надобна.
– Чудак, – вздохнул Николай и отошел от перил. Василий немного помедлил, потом вытащил папиросы, закурил и двинулся вслед за приятелем.
Дома, за обедом, Потап, переждав, пока сын утолил первый голод, насмешливо спросил:
– Седни московского анжинера улещивать будете?
– А что его улещивать?
– Да то самое: разговаривали с ним старики которые. Понимает он, что ни к чему вся эта постройка. Как стояла без малого пятьдесят лет фабрика, так и наперед может существовать… Не допустит он рассору казенных денег.
– Не велика он птица, чтобы против рабочих устоять…
– Не велика? – вскипел Потап. – Знать велика, коли из самой Москвы доверили дознаться про наши тутошние затеи.
– Хозяйский сынок… Как ему могли доверить?
Потап надул теки и сощурил глаза:
– Вот в этим-то и дело. Не первого встречного послали, а того, который, значит, здешнюю фабрику всю наскрозь знает… За знание и доверили.
– Пустили, надо понимать, козла в огород, – захохотал Василий. – Ему какая забота? Наплетет, нагородит – и все, чтобы против рабочих… Обидно, наверное, ему на отцовское наследство поглядывать да зубами щелкать… Кабы не революция, сидел бы он здесь полным хозяином да распоряжался.
– Ну, и было бы больше толку! – задористо подхватил старик.
– Ешьте, мужики, – остановила их старуха, – стынет свининка-то… Ноне у высокобугорских брала. Дерут они, окаянные. Ни к чему приступу нет.
Потап с сыном потянулись к дымящейся свинине и стали молча есть.
Пообедав, Потап долго кряхтел и крестился.
Укладываясь на послеобеденный отдых, он объяснил старухе:
– Высплюсь ужо я, Устинья, чтобы потом на собранье ихнем не уснуть…
– А ты с какой стати пойдешь? – удивилась старуха.
– Послушаю… Чай, немало и моего поту в фабрику эту пролито… Не какой-нибудь я приблудный… Кондовый я рабочий… Послушаю, посмотрю.
Глава третья
I
Андрей Фомич Широких был четвертым по счету красным директором на «Красном Октябре». До него управляли производством трое, и предшественник его, запутавшийся в непривычном деле, оставил Андрею Фомичу неважное наследство. Когда Широких в прошлом году приехал на фабрику, в конторе нашел он насторожившихся, выжидающих сотрудников, по цехам расхлябанную трудовую дисциплину, на складах груды неходовых сортов и двор, заваленный браком. Фабрика шла с ощутительным дефицитом, и в округе смотрели на нее, как на безнадежное предприятие, пожиравшее уйму субсидий и дотаций.
Андрей Фомич не растерялся. Он собрал партактив и поставил вопрос ребром:
– Будем работать или, как прежде, волынить?
Партийцы замялись, смутились, стали путанно и длинно объяснять что-то о создавшемся положении, о неблагополучных условиях, о «нашем здешнем народе, который не хочет понимать резона».
Тогда Широких выпрямился, сунул вперед обе руки и, потрясая кулаками, твердо и гневно отчеканил:
– Видели?.. Этими руками я винтовкой орудовал, белых бил, Советы устанавливал… Этими же самыми руками я лень нашу общую крушить буду… Не посмотрю, что да как… Работать, так работать!
– Ты поживи, оглядись, а уж потом шиперься, – возражали ему. – Руками-то размахивать всякий может. Без тебя ведь немало трудов да усилий положено, не все лодыри да растяпы… Нечего с пылу, с жару хайло разевать.
У Андрея Фомича не раз являлась тревожная, щемящая мысль, что он взялся разрешать непосильную задачу. Но он гнал от себя эту мысль, стискивал зубы, сжимал кулаки и шел дальше.
Так удалось ему подтянуть, подобрать ближайших товарищей и помощников, приучить к себе конторских работников и сойтись с некоторыми специалистами. Больше всех поверил ему и в него инженер Карпов, которого все предшественники Андрея Фомича гоняли по фабрике с одной должности на другую, с одного процесса производства на другой. Андрей Фомич сразу разглядел в Карпове честного и знающего специалиста. А больше всего расположил он его к себе, когда, не взирая на все непорядки и неполадки на фабрике, убежденно заявил в одну из продолжительных бесед:
– Наш «Красный Октябрь», товарищ – Широких, золотое дно. Кругом богатейшие залежи высокосортного, превосходного каолина. Вот снести бы все это барахло, всю эту гниль, что осталось в наследство от Вавиловых, да возвести новые, светлые, просторные корпуса, механизировать все производство. А главное, бросить старые горны и построить тоннельные печи, такие, которые и за границей-то не на каждом фарфоровом заводе найдешь… Вот заворотить бы все, каких бы мы, товарищ Широких дел наделали! Какие перспективы бы открылись перед нашей фабрикой! Тогда бы она действительно имела право именоваться «Красным Октябрем».
Андрея Фомича поразила горячность, с которой Карпов это говорил. Он почуял в инженере не только добросовестного, честного специалиста, но энтузиаста, которому его дело дорого, который горит и сгорает за него.
Через месяц Карпов был назначен техническим директором. А в течение этого месяца и ряда последующих Андрей Фомич вместе с Карповым просиживали в кабинете директора до поздней ночи, считали, обсуждали, разглядывали и оценивали чертежи и сметы.
Из этих вычислений, чертежей и смет вырос проект полного переоборудования фабрики.
Проект, когда Андрей Фомич познакомил с ним фабричных активистов и ячейку, изумил и напугал всех:
– Это что же, полное нистожение фабрики выходит? Все старое насмарку, на слом?
– Все старое на слом, – подтвердил Андрей Фомич. – Всю муру эту, весь мусор к чертям.
– Смотри, выдержит ли кишка? Кабы не лопнула, – предостерегали маловеры.
– И так в убыток, с дефицитом работаем, с какой стати денег экую кучу отвалят на переустройство? Нету у государства бросовых, шальных сотен тысяч.
– Не резон, пожалуй, Андрей Фомич, – колебались осторожные. – Ты бы на теперешней фабрике производство наладил. Вот это было бы да. Ты бы добился, чтоб у нас браку такого, как теперь, не было. А насчет новых там корпусов да танельных печей каких-то, это, пожалуй, оставить следует. Не осилишь.
Когда на фабрике стало известно о проекте Андрея Фомича и технического директора, рабочие зашевелились. Пуще всего взволновались старики. Они сроднились, сжились с фабрикой, с этими полуоблупившимися, задымленными, сырыми корпусами, с расхлябанными толчеями и мельницами, с шипящей у плотины водою, с мрачными жерлами обжигательных печей, с гигантскими горнами и муфелями.
Им почему-то был дорог каждый уголок фабрики, каждая темная дыра, все привычное и неизменное. В обычные дни они не замечали своей фабрики, как не замечают роста родных детей, в обычные дни они не чувствовали ее преимуществ и красот, а вот теперь, когда новые люди вздумали покуситься на полувековую крепость фабричных стен, – они сразу ополчились на смельчаков. Они вспомнили, что в этих стенах прошла их молодость, что здесь они учились работать, здесь получали навыки работы, здесь жили.
Их охватила смутная боязнь нового, неведомого, и щемящая жалость ко всему привычному и понятному, что они считали своим. Им было стыдно сознаваться и в этой боязни и в этой жалости, тогда они прикрылись иным. Они заговорили о кровных, личных интересах рабочих.
– Знаем, знаем! – хитро щурили они выцветшие, опаленные огнем горнов и припорошенные всегдашней глиняной пылью глаза. – Очень даже хорошо знаем, к чему это все потянет. Машина, она тебе машина и есть: что теперь десять работают, а потом, при ей, и двух, а может, и одного хватит… Вот оно куда скакнет: к сокращению нашего брата.
– А потом взять выработку, норму. Теперь, допустим, двести форм выпустишь, а при новых-то порядках да машинах – пятьсот с тебя стребуют.
– И выдет накладно рабочему…
– Никому другому… Только ему одному…
К старикам прислушивались остальные рабочие. Их слова находили отклик, живой и горячий. Даже те, кто в обычное время лезли со стариками в жаркий спор по всякому поводу, отстаивали новое, – даже и те отмалчивались и слушали.
В клубе, в фабкоме, в столовой кипели разговоры. И едва только стенгазета отважилась выкинуть боевой лозунг: «Даешь новую фабрику», – как на редколлегию насели и засыпали ее кучей безымянных заметок, ехидных и ругательных, насмешливых и глумливых.
Председатель фабкома Савельев и кой-кто из ячейки поддались настроению, продиктованному стариками, и стали долго и канительно спорить с директором.
У них нашлись иные, собственные доводы против коренного переоборудования фабрики. Они приступили к Андрею Фомичу с другой стороны:
– Давай сначала изживать нонешний брак… Утрясем сперва фабрику в тех возможностях, которые у нас имеются и с которыми она не справляется.
И на цифры, приводимые директором и Карповым, они отвечали своими цифрами. И были эти цифры оглушительны и грозны.
Брак на фабрике увеличивался с каждым днем. Когда Андрей Фомич принял дела, то самым тягостным и жестоким грузом были груды испорченной посуды и телеграфных изоляторов, которые загромождали фабричные дворы. О плохой продукции фабрики шли разговоры и в округе и в центре. Приезжали комиссии, созывались производственные совещания, меж цехами шли яростные схватки, все и всюду искали причины невероятно растущего процента брака. А процент этот все не понижался.
И Савельев бил по самому больному месту Андрея Фомича, подымая вопрос о браке.
– Снижай процент брака! Вот где будет настоящее достижение…
А снижать этот процент было трудно, почти невозможно.
II
Бывало так. Две громадные печи сверху донизу закладывались отборной посудой или аккуратными изоляторами. Горновщики доводили жар в горнах до нормы. Над крышей, над широкими трубами вился густой дым. Проба давала хорошие результаты. А когда проходило положенное время, когда печь остывала и из нее начинали выбирать готовый обожженный товар, – он выходил почти сплошь испорченным.
Горновщики подымали крик. Они вызывали мастера, заведующих другими цехами. Они требовали директора и инженеров.
– Чья вина?.. Кто напортил? – гремело по фабрике.
Искали виновника. Искали долго.
Андрей Фомич лазил по цехам. Долго и тщательно он возился в сырьевом, там, где дробили, мололи и смешивали массу. Он вместе с техническим директором и кем-нибудь из инженеров проверял отдельные процессы производства, щупал, нюхал, пробовал на язык, тер меж пальцами сероватую, сырую глину. Вот здесь где-то, чувствовал он, должна была скрываться причина порчи фабриката. Вот здесь, близко.
Но сколько ни проверяли, сколько ни выясняли – этой причины доискаться было невозможно.
Старик Поликанов в такие дни дико бушевал. Если брак выходил из его горна, в его смену, он весь багровел, срывал с себя фартук, швырял на пыльный, весь усыпанный битыми черепками глиняный пол рукавицы и хрипел:
– Сволочи! Истинное дело – сволочи! Откуль эта напасть? Да ведь это, братцы мои, совсем сволочное дело выходит! Кто гадит? Ищите, братцы…
А Федюшин, другой горновщик, молча отходил от жерла открытой печи, обходил ее кругом, качал головой, шевелил губами и горестно вздыхал:
– Видал ты… Допрежь этого, сколь пекусь я коло ей, никогды не было. Допрежь какой, ребята, товар выходил? Прямо сливки, золото… Эта што же будет? Чего управители смотрют? При Петре Игнатьиче разве было бы такое? При Петре Игнатьиче всё аккуратно, чисто было… Понимающие люди были.
И если бывали при этом директор или какой-нибудь инженер или завцехом-коммунист, Федюшин делал вид, что не замечает их и, скорбно вздыхая, тянул:
– Во всяком деле прахтика первее всего… Вот поставили к умному делу непривышных людей – какой может резон выйти? Никакого, окромя вот этого перевода добра. – И он подробно и долго распространялся о том, как Петр Игнатьевич, старый хозяин фабрики, или его управитель доходили сами до всего, до каждой мелочи, до каждого пустяка:
– Кажную досточку, бывало, Петр Игнатьевич высмотрит. Он возьмет щепоть массы – и уж его не омманешь, нет!.. Или глазурь взять: зачерпнет он на ладошку, потрет, подержит – и знает, как и што, дошла ли глазурь, годится ли в дело, али добавлять чего надо…
Андрей Фомич раза два пропустил мимо ушей разглагольствования Федюшина. Но однажды он дал старику договорить и подошел к нему вплотную. Лицо его было спокойно, даже улыбалось, но серые глаза вспыхивали сдержанным растущим возмущением:
– Ну, Федюшин, размазывай, расписывай… Значит, по старинке, гришь, лучше все было?
– Всяко бывало, – слегка смутившись, уклончиво ответил старик.
– Любо, значит, тебе старое. Когда перед хозяином в три погибели спину гнул да по двенадцать часов в сутки без устали работал – это, по-твоему, самое сладкое было?.. Э-эх, старик! Короткая, видать, у тебя память…
– Отшибло у его, Андрей Фомич, память-то, – засмеялся кто-то из рабочих.
– Он по хозяйским чаевым плачет… На водку, вишь, Петр Игнатьич умел давать. Загнет урок, сдельщину не по силам, а чтоб кишку у людей не подперло, поставит четвертуху… Вот Федюшин, видно, и скучает по ей.
– Я и на свои выпить могу! – огрызнулся Федюшин.
Рабочие засмеялись.
– Ты, старик, старое-то шибко не хвали! – укоризненно посоветовал Андрей Фомич. – Со старым далеко не уедешь…
– А ты думаешь с новым вмах ускакать? – оправился Федюшин. – Не надейся, товарищ дилектор! Гляди: в прежние годы бывало ли эстолько браку? Прямо страм… Вот оно, новое-то, куды тебе пошло. У Петра Игнатьича, бывало, ни единенькой черепушечки не пропадет. У его, коли заметит во дворе, коло корпусов, где черепок разбитый валяется, сейчас прибрать велит да в перемол, а мастера али рабочего виноватого на штрах… Вот как работали по старинке-то… А по-новому вон оно что…
Федюшин повернулся и ткнул сжатой в кулак рукою в груду неубранной, почерневшей, испорченной посуды.
Рабочие промолчали. Широких внимательно поглядел на бракованный товар, на рабочих, на торжествующего и хитро ухмылявшегося старика и сдержанно сказал:






