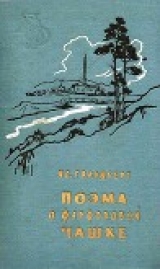
Текст книги "Поэма о фарфоровой чашке"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Широких малограмотен. Он может неправильно построить предложение, сказать «пущай», «в таком разе», «покеда что», «зачнем обсуждение» и т. п. Он грубоват и прямолинеен – может накричать на рабочих, сух и холоден в отношениях с людьми, мягкость для него необычайна, подчеркивает автор. И в то же время он отзывчив и внимателен. В соответствии с духом времени, Широких на личное, интимное смотрит, как на пустяки, как на «волынку», постороннюю и лишнюю, мешающую работе, делу.
Все эти черты характера Андрея Фомича показаны художником, но полноты и многогранности в воспроизведении внутреннего мира героя читатель все-таки не ощущает, так как образ красного директора по существу статичен. Даже громаднейший опыт борьбы за новую фабрику почти никак не отразился в нем, не изменил, не обогатил его.
Если не прямой противоположностью, то во всяком случае внутренне полемично с образом Широких выписан технический директор инженер Карпов С Карповым в «Поэме» вставал злободневнейший тогда вопрос о приобщении технической интеллигенции к активному участию в социалистическом строительстве.
Карпов молод, талантлив, дело свое знает и любит, он душа проекта капитальной перестройки фабрики. Все техническое обоснование проекта принадлежит ему. Казалось бы, они работают с Широких дружно, энергично, согласно. Да, это так, но до определенного предела, пока нет серьезных препятствий, пока устраняются они не его, Карпова, усилиями. Сначала конфликт между ними кажется простым и понятным. Карпов полюбил ту же девушку, что и красный директор Широких, и когда обнаружил, что Федосья не питает к нему никаких чувств, что он чужой ей, когда узнал, что Широких женился на Федосье, – немедленно подал заявление об уходе с еще недостроенной и дорогой ему фабрики. Суть же разногласий глубже и тоньше. Дело в том, что Карпова в перестройке фабрики увлекла чисто техническая задача, а во имя чего ее нужно было решить, он никогда не задумывался.
Когда Широких, не умея хорошо выразить свои мысли, взволнованно и возвышенно говорит о служении людям – «Нам оттуда, с гор, из степей высоких природа глину намывает, а мы им, живым людям, монголам, продукцию нашу? а?» – Карпов называет его про себя фантазером и чувствует в этот момент «какое-то превосходство над директором».
Вот характерный внутренний монолог Карпова: «Красные стены нового цеха, с широкими квадратами веселых окон, стройная труба, над которой скоро заклубится густой дым, – все это по его, Алексея Михайловича, планам, по его чертежам построено. Во всем этом – кусочки его усилий, его знаний, его трудов. И это не какая-нибудь фантазия о Монголии, о далеких степях! Подумаешь! Интернационал какой-то фарфоровый придумал директор! Нет, он, Алексей Михайлович, не фантазер, не мечтатель! У него знания, цифры, математика. У него точный расчет, холодная, неошибающаяся наука!..»
Карпов не думает о людях, идея всей перестройки фабрики ему пока не ясна, а ведущий пафос коренных изменений в стране не понятен, да он и не старается его понять. Этим главным и объясняется тот факт, что Карпов сразу же, как узнал об отрицательном отношении к проекту Москвы, смутился, растерялся, готов был отступить Затем, когда препятствия нарастали, а действия Широких были небезуспешны («Под суд пойду, а докажу правильность нашего проекта!» – волновался Широких), Карпов предлагал компромисс – частичную перестройку. Однажды, уже мучимый ревностью, он промолчал на собрании, где нужна была энергичная защита его же проекта. Наконец, он оставил фабрику в самый разгар строительства. Так отсутствие ясно осознанной цели, безыдейность, индивидуализм приводят честного интеллигента к расхлябанности, к капитуляции перед врагами, к «бессознательному вредительству», как тогда говорили. Ис. Гольдберг глубоко заглянул в духовный мир инженера Карпова, изнутри раскрыл его характер, особенности его мировосприятия, поэтому образ его в сравнении с образом Широких кажется объемней, рельефней, полнее.
Но наибольшей удачи достиг писатель в изображении отсталого рабочего Поликанова. Это – живой, оригинальный характер, данный писателем в движении, в развитии, в борении различных зревших в нем сил. Поликановы в совершенстве знали свое дело, имели немалый жизненный опыт, но мир их общественных интересов не выходил далее околицы родного рабочего поселка, он был ограничен своей нелегкой профессией, своим двором, своей семьей, которую они обычно по старинке держали в руках грубой деспотической родительской властью. Поэтому новые порядки на фабрике – собрания, стенгазеты, планы переоборудования, рационализаторские предложения – новый быт семьи – ясли, пионерию, растущую изо дня в день самостоятельность детей – они встретили в штыки, яростно доказывая, что «прочно и налажено только старое», что «новое бесполезно и глупо». В том-то и достоинство созданного Ис. Гольдбергом образа Поликанова, что в нем раскрыт сам процесс созревания новых мыслей и чувств, иного отношения к делу, к коллективу, ко всему советскому укладу жизни.
Поликанов ни с кем не соглашался. Директора он ругал за планы переоборудования и рационализацию – куда же народ денется, если всех машинами заменить – дочь корил за красоту, за то, что «по собраниям хвостом треплет», старшего сына высмеял и отчитал за общественную активность, за мечту стать со временем членом партии. Даже самому малому в доме доставалось: «Я тебя, стервеца, вот примусь учить по-своему, ты забудешь свои галстучки и барабаны!» Таков его характер, таков язык, напористый и жесткий, въедливый и острый, с юмором, с подковыркой, со стариковской ворчливостью и многословием.
Неопровержимые факты новой жизни, благотворные результаты энергичной работы коммуниста Широких, кипучая активность и заинтересованность общим делом молодых рабочих заставляют Поликанова подобреть, потеплеть, заметить то, чего раньше он не замечал. Сначала о Широких одобрительно подумал: «Работяга!» Потом обнаружил, что и правда плотина ветхая и лучше будет, если ее заменят. Затем, скрываясь и стесняясь, тайно ото всех, через газету, которую ранее пренебрежительно называл «стенухой», сам делает ценное рационализаторское предложение.
Образ Поликанова – характернейший пример того, как социализм одерживал победу в сознании наиболее отсталой части рабочего класса, как практика социалистического строительства ломала у них старые представления об обществе и людях, как воспитывала хозяйское отношение к фабрике, творческое отношение к труду, наконец, порождало могучее чувство коллективизма.
О том, как в упорной борьбе с отсталостью, бюрократизмом и вредительством классовых врагов рождался и зрел на фабрике рабочий коллектив, Ис. Гольдберг рассказывает подробно. Сначала за Поликановым, за стариками пошло большинство, а предфабкома Савельев формально-бюрократически отнесся к своим обязанностям, не подумал о привлечении всех рабочих для решения дальнейшей судьбы фабрики. Движение за коллективное решение вопроса о реконструкции началось снизу, только результаты его оказались для многих неожиданными: люди сами превращались постепенно из противников в сторонников нового на фабрике.
Нескончаемый брак продукции из-за плохого, износившегося оборудования, размыв плотины, поджог кулаками новых корпусов фабрики, наконец, реальные улучшения условий труда и быта – все это заставляло рабочих задумываться и прислушиваться к голосу коммунистов, которые не уставали разъяснять, что только общими усилиями, коллективно, организованно можно добиться высокого качества изделий, ликвидировать последствия аварий и вредительства. Рисуя перелом, происходивший в сознании отдельных рабочих, создавая полные движения массовые сцены, показывая, как рабочий коллектив с каждым новым шагом все увереннее и решительнее берет в свои руки будущее фабрики, Ис. Гольдберг правильно подчеркивает всеобщность и массовость созидательного подъема, охватившего в те годы всю страну.
«Поэма о фарфоровой чашке» – остроконфликтное, сюжетно-занимательное произведение. Сын бывшего хозяина фабрики Вавилов приезжает из Москвы на фабрику, чтобы… инспектировать ее, проверять и определять, нужны ли, оправдывают ли себя требуемые большие капиталовложения? Старики-рабочие жаждут видеть фабрику хорошей, работающей без брака, и… рьяно противятся ее перестройке, не хотят никаких новшеств, боятся их; молодая работница, еще девчушка, обманутая парнем, пытается покончить жизнь самоубийством; Карпов мучительно ревнует Широких – все это такие конфликтные узлы, которые двигают, развивают события, делают сюжет романа динамичным и напряженным.
Ис. Гольдберг хорошо дает почувствовать читателю, что в основе борьбы за реконструкцию фабрики лежат классовые столкновения. Сын фабриканта Вавилов явно желает помешать экономическому строительству, потому он против планов Широких, хотя и прикрывается разглагольствованиями о государственных интересах. Для кулаков фабрика – красная зараза, которая «портит» деревенскую молодежь, они ее ненавидят тихо и люто. Поджог новых корпусов фабрики – дело их рук. Вольно или невольно Вавилова и кулаков поддерживают невежды, гуляки и пьяницы, злопыхатели, люди политически беспечные, обюрократившиеся.
Мастер Черепахин, ревниво сохраняющий свои производственные секреты, горновщик Федюшин, все еще пресмыкающийся перед бывшими хозяевами, старики с их пристрастием к привычному, с их недоверием и скептицизмом, Карпов с его индивидуализмом, наконец, всякого рода гуляки и лодыри, политически беспечные люди, которые думают, что борьба закончилась, – вот сила, с которой не так просто бороться. Ис. Гольдберг не делает нажима на разоблачение и обличение вредителей, классовых врагов. Вавилов приехал барином на фабрику и уехал самоуверенный и неуязвимый. Поджигатель арестован, но поджог выглядит невинной местью за поруганную дочь, о проступке Черепахина, скрывшего от художника секрет красок, по фабрике ходят еще споры, виновен он или нет. Факты эти только на первый взгляд выглядят как умаление роли реально происходившего сопротивления классового врага строительству социализма. В новых условиях Ис. Гольдберг обращал внимание на сложность и трудность борьбы с врагами социализма. Он стремился не просто рассказать еще одну историю вредительства и его разоблачения, а показать, как в сознании таких, как Поликанов, созревала неодолимая тяга к новому, как создавался единый здоровый рабочий коллектив, способный смести все препятствия на своем пути, как рождалось творческое отношение к труду. Появившись в 1930 году, «Поэма о фарфоровой чашке» была первой ласточкой в ряду лучших произведений советской литературы, созданных на фактах социалистического опыта.
Есть еще примечательная особенность «Поэмы» – это ее лиричность, взволнованность, приподнятость. Она подчеркнута и названием романа, и специальными вступлением и заключением, написанными торжественно и празднично, как стихотворение в прозе, и всегда взволнованным описанием самой фарфоровой чашки, где бы и когда бы о ней ни говорилось, наконец, тем, что на ней, после реконструкции фабрики, решено нарисовать портрет вождя народов В. И. Ленина.
«В обед, после ликующего гудка, Никулин взял две обожженные готовые чашки и, неся их на виду, пошел в контору, к директору. Он нес свои чашки сосредоточенно и осторожно, как драгоценность, он нес их как знамя…»
Это были первые чашки с изображением Ильича, это были первые чашки новой фабрики. И об этой победе нельзя было говорить спокойно и буднично «Поэма о фарфоровой чашке» еще не закончена, – писал Ис. Гольдберг в заключение. – Ее закончат неутомимые руки, роющие жирную глину, в сердце земли, мнущие эту глину, заставляющие ее принимать живые формы, творящие из нее вещи. Ее закончит живой, радостный, всепобеждающий труд». И действительно, это звучит в «Поэме» как песня, как гимн. Гимн труженикам, гимн труду.
В свое время критика отмечала и недостатки произведения. Говорилось о схематичности отдельных образов, особенно отрицательных, о прямолинейности в разрешении некоторых конфликтов, о недостатках в языке. Со всем этим можно согласиться. Но те многочисленные бытовые черты и черточки, запечатленные в произведении, поэзия коллективного труда, пафос созидания, которым проникнута вся «Поэма», хорошо передают дух того времени Художественная и исторически-познавательная ценность произведения неоспорима.
Внимательно следил М. Горький за развитием литературы в Сибири. Естественно, он не мог не заметить и такого писателя, как Ис. Гольдберг. Перечисляя лучшие произведения советской литературы о «социалистическом заводе», М. Горький назвал и «Поэму о фарфоровой чашке». Иначе и не могло быть. А когда сибиряки отмечали в 1933 году тридцатилетие творческой деятельности Ис. Гольдберга, М. Горький писал ему:
«Дорогой Исаак Григорьевич! Примите мой искренний и почтительный поклон. Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить себе, что значит и сколько требует сил тридцатилетняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра». Известно, что иные критики и литераторы отличаются постоянным и непонятным безразличием по отношению к литературе областей и союзных республик».
Теперь, когда разрушены искусственные преграды между литературой «центра» и областей, настала пора твердо и ясно сказать, что крупный художник Сибири Исаак Гольдберг занимал и занимает значительное место в истории развития советской литературы.
И. Яновский
Пролог
I
Ветры, дующие с надгорий Танну-Ола и Большого Хингана, воды, текущие в руслах Эдера, Эши-Гола и Орхона, пески, веющие из неузнанных и обширных глубин Великой Гоби, – все это, не зная границ, стекает, низвергается, веет из страны монголов.
И, может быть, сердитый баргузин или култук, бороздящие зелено-льдистые воды Байкала, в какие-то мгновения сливаются, свиваются и мешаются с сухими ветрами, в которых горький запах монгольских пастбищ и теплое дыхание степного солнца…
Кургузая лошадка, мохноногая и гривастая, мелкой переступью топчется по дороге. Из-под копыт вспыхивает легкая пыль. На кургузой лошади в высоком седле, закутанный в тэрлик, в шапке, острие которой увенчано стеклянной шишечкой, едет монгол. Синяя далемба его тэрлика выцвела на солнце. Синяя даль выцветает в летнем зное.
Широка дорога в степи. Бескрайна степная дорога. Солнце медленно плывет над синеющими вдали горами Солнце делает путь длинным, извилистым.
Сонное затишье стелется от острого солнца над степью.
В сонном затишье звуки мягки и вкрадчивы. Дробен стук копыт, почти беззвучно позванивание, позвякивание стремян.
Сонна, мягка и вкрадчива песня, которую поет всадник монгол на мохноногой лошади, монгол в тэрлике из синей далембы.
Ветры, дующие с надгорий Танну-Ола и Большого Хингана, воды, текущие в руслах Эдера, Эши-Гола и Орхона, пески, веющие из неузнанных и обширных глубин Великой Гоби – все это, не зная границ, веет, стекает, низвергается из страны монголов.
Всадник на кургузой мохноногой лошади поет песню… И степь, лениво колышущая свои травы и кадящая раскаленному небу пряные ароматы, впитывает эту песню, пьет ее, лелеет ее.
И песнь вольготно и легко летит над тихими травами, над редкими обо, над широкими степными дорогами, которые разбегаются во все стороны и не всегда ведомо куда ведут.
Порывистый ветер, внезапно возникающий в безоблачности светлого и знойного дня, гонит облака пыли. А за гранями перекрашенных дорог катится бурая туча. Из этой тучи растут рев и мычанье.
Идут стада. Бурым зыбким маревом колышется над ними прогретая, прокаленная степная пыль. Косматые сарлыки и хайнаки, налезая друг на друга, сталкиваясь, толкаясь и беспричинно на мгновенье свирепея, идут, покорные острым крикам погонщиков-пастухов, покорные оглушительным взрывам бича.
И путь этих стад все тот же, что и путь ветров, веющих с предгорий Танну-Ола и Большого Хингана, что и путь бесконечных вод. Эдера, Эши-Гола и Орхона, что и путь песков, уносимых из Великой Гоби.
Путь их лежит туда, где кончается Эдер и возникает Селенга.
Где на пограничных столбах вытравлена пятиконечная звезда.
II
Хупсугул Далай, который зовется русским Косоголом, связан подземными токами с Байкалом.
Таково предание.
Пусть спорят против этого ученые, пусть доказывают они, что этого не может быть, – старый монгол, питающийся преданиями предков, твердо знает: Хупсугул Далай время от времени выбрасывает из своих недр обломки судов, погибших на Байкале.
А когда жаркий июль разъедает снега на Саянах, три единорожденных реки – Китой, Иркут и Белая – пухнут от мутных, вспененных вод и несут в своих руслах прах, навеянный веками в надгорьях Монголии.
А Белая лижет берег, на котором громоздится фабрика.
А фабрика, ворча, стеная и грохоча, из праха, из земли, из камней и глины творит вещи.
И среди вещей – чашку.
Фарфоровую чашку.
III
Старый монгол крошит в котел дзузан. Костер дышит жаром, вода в котле бурлит. Чай закипает. От дзузана, от зеленого чая крепкий дух идет.
Старый монгол рукавом тэрлика вытирает чашку. Широкая, полукруглая – полушарие с ободком-донышком – чашка по краю изукрашена узором. Голубая кайма – как кусочек неба, прилипшего к фарфору. Голубая кайма – и на ней черточки нехитрого узора.
Чашка по краям (там, где голубое) выщерблена. По чашке расползлись трещины. Морщины расползлись по обожженному солнцем и ветрами лицу старика. На дне чашки накипели бурые пятна.
Сколько лет этой чашке? Сколько лет старику?
Монгол долго пьет свой дзузан. Солнце жжет. Солнце томит. От солнца жарко. Чай жжет. Чай гонит обильный пот. По бороздам лет на стариковых щеках, на лбу катятся тусклые капли пота.
В обманной прохладе высыхающей степной речки застыл и шумно дышит скот.
Допивая чай, монгол рукавом тэрлика вытирает чашку. Он переворачивает ее донышком кверху. На донышке, среди трещин и старой закипевшей грязи, хрупкий росчерк китайских знаков…
Солнце горит июльским пожаром. В мутных песчаных водах тускло и зловеще поблескивают лучи томящего солнца.
Сарлыки и хайнаки устало охлестывают себя хвостами и шумно, тоскливо вздыхают.
IV
Земля ворчит и скрипит. Землю взрывают и дробят. Глубокая шахта. В глубине заступы и кайлы рвут и терзают землю.
Тарахтя и позванивая деревянными стуками подъезжают и отъезжают таратайки.
В таратайках – глина. Вырванная из недр земли глина.
Таратайки, тарахтя и постукивая звонким сухим деревом, увозят освобожденную из глубин глину. Укутанная дорога ведет к заречью. За рекою дымными вехами вытянулись высокие трубы.
Фабрика…
Поэма о фарфоровой чашке начинается именно здесь, на фабрике.
V
Приходит директор. Красный директор говорит:
– Вот что… Есть план насчет нашей продукции… должны мы перейти на выработку фабриката для заграницы… для экспорта… Вот, значит…
Красный директор мнет и теребит свой портфель, выкладывает на стол бумаги, шуршит ими, перелистывает их.
– Вот тут наметка на первое время… Предварительные, значит, исчисления… А по-настоящему, значит, о них доложит товарищ Карпов.
Товарищ Карпов, технический директор, отщелкивает замочек своего толстого портфеля и вытаскивает синенькую папку. Он забирает часть бумаг у красного директора, складывает их вместе с синенькой папкой. Он слегка откашливается и трет левую бровь.
Откашлявшись и потерев левую бровь, технический директор начинает…
Цифры, числа, суммы.
И пока в душной, встревоженной многолюдьем конторе беспокойно скачут оживленные техническим директором цифры, числа и суммы, по рукам идет круглая чашка.
Она стояла возле красного директора, укрытая легкой и ненадежной бумагой. Ближайшая рука потянулась за ней. Красный директор покосился на эту руку, на чашку, беспечно освобождающуюся от плена шелестящих бумаг, но промолчал.
Чашка пошла по заскорузлым рукам. Толстые, тугие пальцы ощупали ее. Крепкие ногти, с въевшейся под ними застарелой, неотмываемой трудовой грязью, тихо постукивали по ней. Чашка тихо звенела.
Завцехами, каждый по-своему, оглядывали, ощупывали, обстукивали чашку. Завцехами пытали ее каждый по своей специальности.
Старшие рабочие и рабочий актив прислушивались к завцехам и тоже, каждый по-своему, вертели, испытывали, изучали чашку.
И под тихий звон чашки звенели цифры, числа, суммы.
Технический директор кончил. Технический директор потер левую бровь и собрал раскиданные в пылу доклада бумаги.
Чашка вернулась на стол.
Красный директор сказал:
– Вот, значит… Надо включить в ассортимент… Только, значит, подтянуться надо… Продукцию на ять варганить… Чтобы не только, что вроде этого, – красный директор схватил чашку и поднял ее над столом, – а гораздо лучшее… Вообще, чтоб не было сраму, потому что на экспорт, на заграницу работать будем.
В конторе постояла короткая тишина. Пыхнули папироски. Заклубился яростно и озорно дым.
Из дыму голоса:
– На экспорт? В заграницу? Основательно загнем мы дело! Основа-ательно!
Из дыму, перебивая эти голоса, другие:
– На своих, на нашенских еле-еле управляемся! Такой товар даем, что просто плакать хочется, а тут – «в за-гра-аницу!» Свыше головы прыгать собираемся!
В конторе, разрывая деловую скуку и сизые полосы дыма, взрывается спор. Взрывается, лопается, ярится:
– Управимся! И своим и чужим потрафим!
– Подналяжем, дак и браку нонешнего не будет. Маханем такую продукцию, что китайцу сто очков вперед дадим!
– Обязательно дадим! Лучше этой черепушки обладим!
– Беленькую! Маленькую! Со звоном! С росписью!
– На словах оно все этак-то хорошо и ладно выходит! На словах!
– Не только на словах! Делом докажем!.. Самым настоящим делом!
Дым разорван спором и криком.
Из-за стола поднимается красный директор:
– Помолчите, товарищи! Давайте, ребята, по порядку и организованно. Орете, как те горлопаны на сходе… Нельзя же, ребята! Так вы же, ребята, сознательные! Давайте по цехам обсуждение поведем… Начинайте, по сырьевому.
Темный палец, как чугунная свинка, устремляется вперед. Черный палец показывает, призывает того, из сырьевого цеха.
– Нам, конечно, – поднимается с места человек из сырьевого цеха, – установку следует насчет массы. Чтоб, пожалуй, в дробилке и потом на прессах проверка произошла… Массу полагается сюда пустить аккуратную и чтоб все в меру.
Разорванные клочки дыма успокаиваются и уползают к потолку и в окна.
В конторе деловая, тугая тишина.
VI
Проворные руки, мелькая над вертящимся станком, неустанно обминают и приглаживают влажную глину. Босые ноги бегут по кругу и дают ему движение.
Так из-под проворных рук, из-под ловких пальцев возникают хрупкие формы. Сырые и нежные – они длинными стройными рядами вытягиваются на досках. Они окружают работающих в молчании людей. Они господствуют повсюду, над всем.
Сырые и нежные формы, загромождающие проходы и словно сторожащие рабочих, ждут своего часа.
Там, в соседстве с этим корпусом, дымятся широкие трубы над закоптелыми крышами. Широкие двери исполинских печей открыты и ждут.
В широкие двери, внутрь еще неостывшей печи войдет горновщик, присмотрится, приладится и станет принимать и устанавливать в ряд, в лад, осторожно и терпеливо желтые, пористые, радующие глаз, как свежеиспеченный хлеб, огнеупорные капсюли-коробки, наполненные сырой посудой.
Огнеупорные капсюли-коробки, наполненные свежими, хрупкими формами, которые еще недавно вышли из-под проворных и верных рук.
А назавтра вынутые из печки яркие белые фарфоровые чашки, тарелки, чайники, блюда попадут в другой корпус, к другим рабочим, в другие руки. И нежные, тонкие кисточки распишут на белых и чистых чашках, тарелках, чайниках, блюдах нехитрые, но яркие узоры.
Невиданные цветы расцветут на белом фарфоре…






