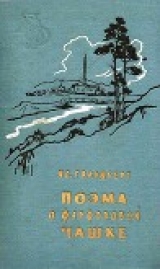
Текст книги "Поэма о фарфоровой чашке"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
– Налить вам еще?
– Налейте! – согласился Андрей Фомич, освобождаясь от непривычного полузабытья, и пододвинул девушке свою чашку. И когда она взяла ее осторожно и привычно, легко и мягко, он не разжал своих пальцев: и так на мгновение прикоснулись они к чашке с двух сторон, и было это подобно острому, многозначительному рукопожатию.
Федосья потянула чашку к себе и покраснела. Андрей Фомич разжал пальцы.
– Руки у вас какие… замечательные, – тихо уронил он. – Если б я не знал, вашей работы, наверное бы подумал, что барские ручки… Замечательные!..
Федосья зарделась. Она быстро налила Андрею Фомичу чай и пододвинула ему чашку. И, пододвинув, поторопилась убрать руку.
– Не прячь! – улыбнулся Андрей Фомич, внезапно решаясь на это простое и привычное «ты». – Не надо!
Он оглянулся в ту сторону, где за стеной лежал Поликанов, потрогал горячую чашку, не почувствовав ожога, и приглушенно сказал:
– Я ведь давно хотел, Феня, встретиться с тобою… Давно, Понимаешь, поговорить по душам хочется… По душам!
Беспомощная ребячья улыбка сделала лицо Андрея Фомича добрым, ясным и притягательным. У Федосьи дрогнули ресницы. Она опустила глаза. Щеки ее слегка побледнели.
– Отчего же… Я не отказываюсь, – тихо ответила она.
Слова были простые, малозначащие. Но голос девушки звучал сердечно, чуть-чуть вздрагивал, и оттого простые и малозначащие слова исполнились иного, глубокого, волнующего смысла.
Андрей Фомич стиснул рукою горячую чашку и снова не почувствовал ожога. У Андрея Фомича лицо осветилось большою, светлою, заражающею улыбкою.
V
У Лавошникова вышел горячий спор с Николаем Поликановым.
По фабрике, по цехам гуляли толки и слухи о виновниках пожара. На фабрике, по цехам ждали, когда милиция изловит поджигателей, и снежным комом катилось новое для здешних мест слово:
– Вредители!
Лавошников, разговорившись с Николаем о поджоге, заметил:
– Вредительство, оно, брат, не столь опасно, когда вот так явственно выходит, сколько ежели в скрытности, потихоньку и исподволь. Возьми хоть к примеру, в расписном цеху Черепахина, мастера. Какую он подлость художнику приезжему подложил? Вот это вредительство форменное, я понимаю! Это, по-моему, почище, позловредней поджога будет!
– Да откуль ты взял, что Черепахин вредил? – посомневался Николай. – Этот художник городской, он не привычный, на обжиге с красками не работал… взялся не за свое дело и оплошал. А теперь вину на Черепахина сваливает!
– Ну, и растолковал! – досадливо усмехнулся Лавошников. – Лучше некуды! Ты сообрази: даже если Черепахин и заметил, что человек непривычный и делает ошибку, то была его обязанность, как мастера, поправить того, а не допускать до сраму и до порчи. Прямая обязанность! На кого он, Черепахин, работает? На пролетарское государство! И тут амбицию свою нечего высказывать!.. Это если, скажем, Черепахин без фокусов. А по рассмотрении оказалось, что он самостоятельно, нарочно в краски фальшь подпустил. Чтоб осрамить человека и не допустить его улучшение производства подымать! Прямое вредительство, за которое по голове туго бить надо!
– Доказать надо…
– Доказано, Николай! И прийдись бы на меня судить, скажем, двоих: Черепахина за пакость его и того, неизвестного, за поджог, я б Черепахину вдвое наклал! Не пожалел бы!
– Неправильно! – разгорячился Николай. – То поджог, нистожение имущества, а то пытание, может быть. Пытал, вернее всего, мастер художника. Испытывал! Ну, тот без стажу, без подготовки оказался. Так за что же Черепахина судить да наказывать? Неправильно!.. Он свой, фабричный. Наш он, Черепахин! А художник чужой, со стороны, с чужого ветру!
– Во, во! Со своего-то, брат, и взыскивать сильнее надо!
– Своего, я тебе скажу, если он и промахнулся, оправдать следует!
– Врешь. Его, своего-то, пуще всего под ноготь взясти полагается!
– Ни под каким видом!
– Каша в тебе, в голове твоей, Николай! – рассердился Лавошников. – Никакой установки правильной, никакой сообразиловки!
– Я соображаю! Ты только меня не сбивай. У нас об чем разговор? О поджоге. Поджигателя я никогда сравнивать с таким, к примеру, как мастер, не стану. А ты не то, что равняешь, а превыше по вине признаешь. И второе – для своего, для рабочего, в какой ни на есть промашке непременно смягчение вины должно быть. Непременно! За что же тогды боролись?
– Ну, понес! – пренебрежительно махнул рукою Лавошников. – Боролись! Да кто это боролся-то? Взять хотя бы и Черепахина твоего. Где он при Колчаке был? Смылся: я не я, и хата не моя!.. Никакой от него помощи не было. А если порыться, то, может, и вредил! А ты – боролись!.. Который боролся, он на пакости, на подсидку не пойдет!
– Не знаю… – протянул с досадою Николай.
– Не знаешь, так не спорь! Ты вот посмотри, как разбор черепахинского дела зачнется, под какую статью он ляжет! Вредитель! Первостатейный вредитель!
Николай ничего не ответил, Его сбила с толку убежденность Лавошникова, которого он всегда считал понимающим, сознательным человеком. Сбила с толку, несмотря на то, что было ему дико и непонятно: как же это так – на одну доску ставить мелкий проступок Черепахина и прямое преступление того, неизвестного?
Лавошников ушел, от Николая, оставив его недоумевать и биться в сомнениях. Для Лавошникова все было ясно и понятно. Он знал, что вредители бывают всяких родов, пород и мастей. И он готовился обрушиться жестоко и беспощадно на тот тип вредителя, который на фабрике обнаружился в лице мастера Черепахина.
Но не один Николай Поликанов недоумевал и спорил, когда Черепахина называли злостным вредителем и ставили в один ряд с поджигателем. В самом расписном цехе, там, где рабочие воочию видели и понимали хитрую и злостную проделку мастера, часть расписчиков взяла, хоть и с оговорками и не совсем смело, под свою защиту Черепахина:
– Он этого Никулина учить хотел! Чтоб не лез, не спросившись!
– Черепахин, конечно, сглупил, что краски намешал неподходящие. А все-таки… Разве ему не обидно! Он специалист, свой, здешний, каждое обстоятельство в своем деле со всех сторон понимает. И является вдруг чужой дядя, ни уха, ни рыла, возможно, несмыслящий, и лезет в уставщики, задается своим искусством!.. Конечно, обидно!
– Это не вредительство! Это, товарищи, глупость! От раздражения и обиды!..
– Не глупость! – кидалась на такие разговоры и настаивала Евтихиева. – Не глупость, а прямое вредительство! Поймите, товарищи!
– Мы понимаем! Не учи!
– Не учи, Евтихиева!.. Экая привычка у вас на каждом шагу в учителя лезть!.. Никакого вредительства! За сердце человека взяло, ну, он немножко и оплошал!
– Понять надо человека!..
И в самый разгар споров и пререканий о Черепахине и о его вредительстве, споров и пререканий, которые всколыхнули фабрику не меньше, чем пожар, – из заречья, из Высоких Бугров пришли в контору, в кабинет Андрея Фомича мужики и потребовали директора. Директор немедленно принял их.
– Мы к тебе от обчества! – объяснил один из трех пришедших мужиков. – Обидно и неправильно обчеству, что обвинение, поклеп на всех за пожар делается!
– Обидно и неправильно! – подхватили остальные двое.
– Никто общество целиком не обвиняет! – возразил Андрей Фомич. – Общество ни при чем, это каждому ясно. Но есть подозрение, что кто-то из деревенских, – из ваших участвовал.
– Об этом мы не отпорны! – согласился первый мужик.
– Не отпорны! – подтвердили остальные.
– Следствие идет, – продолжал Андрей Фомич. – Что следствие скажет, какие, например, материалы, такой и результат будет… На общество никто не показывает. Общество – оно большое, тут у вас и кулаки, и беднота…
– Правильно! – одобрили мужики. – Истинная правда! Всех под одно считать не приходится. Разная положения! У его капиталы, – скажем, а у меня одни гольные руки, да и те в сплошных мозолях!
– Напрасно, значит, вы обижаетесь! – уверил Андрей Фомич, недоумевая, отчего это мужики так остро и близко к сердцу всякие слухи принимают.
Мужики переглянулись и нерешительно замялись.
– Мы от обчества! – снова принялся пояснять первый. – Была у нас, вишь, сходка. Бедняки, значит, собирались… Вырешили мы положению обстоятельств. Насчет пожара и насчет виновности. Дознались мы про виновных…
– Дознались? – двинулся к ним Андрей Фомич и вытянул шею. – В самом деле дознались?
– Не сознается, а дознались… Как не дознаться? Знаки явственные. Не скроет!
– Кто же?
– Крепкий мужик. А ежли прямо сказывать – кулак настоящий, Афанасий Мироныч имя ему. А фамилие-то Куклин. Да этим фамилием у нас полдеревни прозывается. Афанасий Мироныч. Дочь у него еще тут на фабрике. Ну, топиться по девичьему греху хотела которая!
– Понимаю! – обрадовался Андрей Фомич! – Прекрасно понимаю!.. Арестовали?
– Обязательно! Сидит! В железах хотели. Да железов, кандалов нету…
– Значит, от обчества мы… от бедноты. Судите его, сукина сына! Чтоб тень на християнство, на трудящих не клал!
Мужики стояли перед Андреем Фомичом, оборванные, темные. Лица у них были озабоченные и унылые. Слова их были крепкие и решительные:
– Судите их покрепше!
Глава двенадцатая
I
Андрей Фомич лелеял мечту: закончить постройку нового горнового цеха к десятой годовщине Октября. Но проходил сентябрь, близились кованные звонким морозом дни, подходила зима, – и не был еще закончен горновой цех и еще не поставлена была окончательно тоннельная печь, которая показала бы настоящую работу. Мечта Андрея Фомича отодвигалась все дальше и дальше. Повседневные заботы сминали, рушили план, который наметил Андрей Фомич. А в повседневные заботы, в мелкую и неизбежную обыдень трудовых дней врывалось неожиданное: то обнаружится колоссальный брак продукции, то задурит река, переполнит пруд и сорвет ветхую плотину, то заалеет неожиданным грозным заревом пожар.
Повседневное давило и властвовало над планами, над мечтами.
И если у Андрея Фомича от неудачи тускнело лицо и была в глазах забота, а на лбу глубоко въедались две упрямые морщины, то и Карпов, технический директор, был во власти нескрываемого злого беспокойства и разочарования. И Карпову порою было трудно молчать. Мгновеньями его прорывало. Он говорил, он раздраженно жаловался на неудачи, на медленность работ, на помехи, которые вырастали на каждом шагу.
– Скандал! – раздражался он. – Не успеем к сроку. А зима совсем задержит работы.
И, уныло поглядывая на недостроенный цех, он гадал:
– А что дальше будет? Неизвестно!
Но, как ни трудно было Алексею Михайловичу удерживать в себе раздражение и уныние, он избегал жаловаться директору. Он избегал разговаривать с Андреем Фомичом больше того, что требовалось делом, что необходимо было. Он избегал Андрея Фомича и не смотрел ему прямо в глаза. А ведь с директором-то больше, чем с кем-нибудь другим, мог бы и должен был он делиться своими опасениями, своими страхами. Ведь вдвоем они проворачивали проекты переоборудования фабрики, вдвоем, делясь друг с другом каждою мыслью, опаляясь радостью творчества, корпели они над планами, чертежами, позже над сметами. Общее это было их дело. И вот – отводит Алексей Михайлович глаза от директора, прячет их, прячет от него свои мысли, свои переживания. И если со стороны поглядеть, то выходит, что будто виноват Карпов в чем-то пред директором, пред Андреем Фомичом. А вины-то никакой нет. Чист и безупречен Алексей Михайлович. Скажи кто-нибудь, что вот, мол, Алексей Михайлович, нечистая у вас против товарища Широких совесть, в глаза ему прямо не смотрите, обидится Карпов, жарко обожжется незаслуженною обидой, вознегодует, станет протестовать.
Нет у Карпова никакой вины перед Андреем Фомичом. Если заглянуть в душу Алексея Михайловича, если потаенно спросить его самого про вину, то, пожалуй, ответит он уверенно, что виноват-то директор пред ним. Виноват в таком, о чем не говорят, что скрывают тщательно и ревниво от чужих ушей, от чужих глаз. И Алексей Михайлович скрывал это затаенно, хмуро и опасливо. У Алексея Михайловича не было в жизни друга, заветного близкого человека, к которому пришел бы он и сказал:
– Болит душа моя. Обворован я в самом главном, в самом потаенном. И не могу ничего поделать. Не могу ничем помочь себе. И никто мне не поможет…
И, не называя имени, пожаловался бы на отвергнутую любовь. Не было близкого, родного…
Любовь.
Острее всего почувствовал он ее в тот вечер, когда внезапно, не ожидая этого, не будучи к этому подготовленным, он встретил Федосью и Андрея Фомича возле клуба. Он подымался по широкой лестнице, а они улыбались дружески и, весело разговаривая, шли сверху на улицу, в синеватую мглу хмурого вечера. Они взглянули на него мельком, равнодушно, они торопливо поздоровались с ним и ушли своею дорогою, занятые друг другом, овеянные чем-то сроднившим их, одним только им ведомым.
На мгновение, словно изнемогая под коротким молниеносным ударом, остановился Алексей Михайлович и тоскливо посмотрел на уходящих. На мгновенье мелькнула у него мысль догнать их, пойти вместе с ними. Зачем? – он сам не знал, сам не понимал. Но это мгновенье прошло. Он остановился на полдороге. Он сразу забыл, зачем шел в клуб. У него стало странно пусто на душе. Ему не было больно, его не постигла мучительная тоска, его не поразило отчаянье. Только пустота какая-то вошла в него. И с этой пустотою, с этой опустошенностью побрел он один и одинокий в тот же вечер, в ту же синеватую мглу, куда бодрые и напряженно-радостные проследовали Федосья и директор.
В этот вечер Алексей Михайлович остро почувствовал, что любит Федосью крепко и жадно. И тогда же в его душе вспыхнуло возмущение против Андрея Фомича. И тогда же ему показалось, что директор обворовал его.
Что, не будь директора, Федосья когда-нибудь, в конце концов, может быть, через колебания, через препятствия, через преграды, но пришла бы к нему и принесла бы ему, Алексею Михайловичу, свою привязанность, свою молодость, свою свежесть, свою страсть.
Это возмущение было сильно и стихийно. Оно рвалось наружу. И чрезвычайных, порою мучительных усилий стоило Карпову сдерживать себя в присутствии директора, не вспылить, не сказать лишнего, дерзкого, непоправимого.
Карпов сдерживался. А Андрей Фомич, не замечая особого его настроения, в тревоге за судьбы постройки шел к нему со своими огорчениями. Ловил его в конторе, останавливал, втягивал в разговор. Андрей Фомич любил смотреть людям прямо в глаза. Но глаза Карпова были теперь опущены пред его взглядом. Глаза Карпова прятались от него. Это, наконец, изумило Андрея Фомича. Он подумал, посоображал, порылся в памяти, поискал: отчего бы это технический директор мог сердиться? Но не вспомнил, не сообразил. И тогда поступил так, как привык поступать – прямо, без обиняков спросил:
– Лексей Михайлыч, в чем дело? В чем дело, почему сердишься?
Карпова будто ударили, он весь напрягся, закипел. Но сломил свое возмущение.
– Я не понимаю вашего вопроса… – угрюмо и хрипло ответил он, порываясь уйти от директора.
– Вопрос самый простой. Спрашиваю – в чем дело? Обидел я тебя, что ли? – задержал его Андрей Фомич.
– Странно… Я не жалуюсь. С чего это вы взяли?
– Не хитри, Лексей Михайлыч! Нехорошо это. Есть у тебя что-то на сердце супротив меня – выкладывай прямо, и всех делов!
– Мои настроения, я полагаю, никакого касательства к работе и к нашим деловым отношениям, товарищ директор, не имеют… Нахожу совершенно неуместным… излишним ваш вопрос. Я свою работу выполняю, и не плохо, – и все!
В голосе у Карпова звучало злобное раздражение. В глазах сияли злые искорки.
– Вот оно как! – вспыхнул Андрей Фомич. – Вот она как!..
Он на мгновенье умолк, ошеломленный непривычно злым, враждебным тоном Карпова. В мимолетной растерянности он подбирал слова, чтоб ответить Алексею Михайловичу. Два красных пятна вспыхнули на его щеках.
– О деловых отношениях… – сказал он и откашлялся. – Я ведь попросту, от чистого сердца. Без официальности, как всегда… Ну, извините, товарищ Карпов! Извините!
Большой, немного неуклюжий, повернулся он к своему столу. Оборвал разговор. И, оборвав его, стал спокоен, уверен в себе. Стал сухо-деловит. И спрятал в себе, в глазах недоумение, обиду, раздражение.
После этого разговора Андрей Фомич повел себя с Карповым сдержанно, настороже. И прежде всего начал называть его на «вы». А когда это «вы» прозвучало впервые, Карпов встрепенулся, помрачнел и почувствовал какую-то злобную удовлетворенность.
II
Инженер Вологодский заявил директору, что считает свое дальнейшее пребывание на фабрике излишним, что он уже со всем ознакомился, все посмотрел, собирается уезжать, и попросил подать утром лошадь.
Вечером, накануне отъезда к Вологодскому в посетительскую пришел Карпов.
– Сергей Степанович, я хотел бы поговорить с вами по личному делу.
– Ну-те-с! – придвинул ему стул Вологодский. – Говорите!
Карпов сел и, немного смущаясь, начал издалека. Он рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось встретиться при проведении в жизнь своих проектов. Вскользь упомянул о живом участии директора, о том, как замедлил работу инспекционный приезд Вавилова, как настороженно отнеслись многие рабочие к переоборудованию фабрики. Карпов рассказывал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в своей работе, а Вологодский слушал его с рассеяным видом и нетерпеливо постукивал пальцами по колену.
– Извините, Алексей Михайлович! – перебил он. – Я с этим, о чем вы рассказываете, хорошо знаком. Я знаю про все препятствия… Вы, извините меня, поближе к делу. Поближе!
У Карпова вздрогнули ресницы, и он нервно закусил губу:
– Хорошо… Я тогда сразу уж… Видите ли, мне тяжело работать здесь с директором…
– С Широких? Вот с этим вашим директором? – удивился Вологодский. И, не скрывая своего неприятного удивления, потянулся поближе к Алексею Михайловичу. – А я же уверен был, что вы с ним сработались как нельзя лучше!
– Мне тяжело работать… – повторил Карпов. – Именно с Широких. И я просил бы вас подумать о переводе меня на другую работу, в другое место.
– Стойте, стойте! – оживился Вологодский. – Вот это уж совсем неожиданно. Прямо, не из тучи гром! В чем же у вас недоразумения выходят? На какой почве?
– Сергей Степанович! Я ведь предупредил вас, что буду разговаривать по личному делу. Тут личное. И я попрошу вас учесть только одно: я не могу здесь больше работать. Мне нужно менять место…
– Личное…
Вологодский отошел от Карпова, взял из портсигара на столе папиросу, покрутил ее в пальцах и, не закурив, понес ко рту.
– Разумеется, я не должен вмешиваться в этакое дело, если оно личное. Не должен и не хочу! Но раз вы ко мне обратились, я по праву старшего скажу вам…
Незажженная папироса задрожала в зубах Вологодского, он вынул ее изо рта и, скомкав, бросил в угол.
– Скажу вам, простите за откровенность, что вы неправы. Буду говорить определенно: вы – беспартийный спец, вы начали большое, нужное дело. Партиец-директор всецело полагается на ваши знания, на ваш опыт и безусловно поддерживает вас во всем, что касается работы… Ну-те-с. Работа сделана наполовину. Работа трудная и ответственная. И вот, доведя дело до половины, вы отказываетесь. Какие, спрашивается, причины? Какие деловые причины? Никаких. Какое-то личное. Что-то не относящееся к работе, к условиям работы, вообще к делу… Так я вас понял?
Алексей Михайлович сделал попытку прервать Вологодского, но инженер отмахнулся от него и, не останавливаясь, продолжал:
– Конечно, так. А это, простите меня еще раз, простая размагниченность. Расхлябанность! Так, Алексей Михайлович, нельзя! Вы поймите, положение-то каково? Буду говорить как беспартийный с беспартийным… ведь положение пахнет бессознательным вредительством. Право! Ведь это дезертирство… Ну, вы уйдете, вам на смену придет другой инженер, незнакомый, так сказать, с душою, с сердцевиной ваших планов, ваших проектов. Начнет доканчивать начатое вами, напутает, в лучшем случае затратит массу лишнего, времени и труда, чтоб окончательно вникнуть в ваши замыслы. Что же получится. Нехорошо получится! Очень нехорошо!
Карпов слушал Вологодского насупившись. Красные пятна расползались по его лицу, губы нервно кривились. Наконец, он не выдержал:
– Достаточно, Сергей Степанович! Я прекрасно понимаю некоторое неудобство, некоторую двусмысленность моего ухода отсюда… Но, повторяю, мне невозможно теперь работать вместе с Широких. Есть причина. Она со стороны, может быть, покажется и неуважительной и мелкой, а для меня очень серьезная. Для меня она очень серьезная, Сергей Степанович!
Карпов подчеркнул последние слова и угрюмо замолчал. Поглядев на него пристально и неодобрительно, Вологодский ничего не ответил. В неловком и тягостном молчании прошло несколько минут. Карпов, изнемогая под грузом этого молчания, кашлянул и поднялся с места. Вологодский удержал его.
– Часом, нервы у вас, Алексей Михайлович, не пошаливают? – подошел он к Карпову и посмотрел на него с неуклюжей участливостью.
– У меня нервы крепкие…
– Нет, голубчик, не скажите. Нервы у нас никуда не годятся! Поверьте мне, никуда! Повздорили вы с директором из-за чего-нибудь? Поцапались?
– Нет.
– Не ссорились? – раздумчиво удивился Вологодский, поглядев из-под очков на Алексея Михайловича. – Не ссорились, а вот как у вас против него все кипит! Работать вместе не можете!.. Ну, не смею расспрашивать дальше. Извиняюсь за назойливость. Что касается работы в другом месте, то я вам напишу. Напишу, Алексей Михайлович, а вы все-таки подумайте. Директору вы уже заявляли о своем намерении?
– Нет. Не заявлял, – смущенно подтвердил Карпов.
– Ага! Значит, напишу я вам…
Алексей Михайлович ушел от Вологодского расстроенный, недовольный собою, злой на себя. Он понимал, что Вологодский не мог одобрить его поведение. Но вместе с тем сознавал, что не мог же он прямо сказать инженеру:
– Я ухожу отсюда, бегу от совместной работы с директором потому, что директор встал на моем пути к женщине, которую я полюбил!
Он был зол на себя. Ему было тягостно. Он чувствовал, что поступает не так, как нужно, что стоит на ложном пути. Но остановиться, вернуться, не идти дальше он не мог.
– Я не могу! – вслух с горечью сказал он.
И безмолвный вечер подхватил этот возглас и спрятал в себе.
III
Вечера стали длинные и холодные. В саду по вечерам веяло стужей и сыростью. На открытой веранде, где раскидывалась библиотека-читальня, люди зябли и мечтали о тепле и уюте. Тогда решено было закрыть, наконец, летний сезон и перенести клубную работу в постоянное зимнее помещение.
Клуб был просторный, веселый с большим зрительным залом, с рядом комнат, где собирались и работали различные кружки. Библиотекарь угнездился на привычное старое место, разложил по длинным столам газеты и журналы и вообразил, что уже пришла зима с бесконечными вечерами, с озорствующей за окнами пургою, с шумом во всех углах клуба, с плеском и звоном репетиций, спевок, собраний.
Но солнце еще не сдавалось. Солнце в полдень жгло щедро и яростно. Днем трепетали последние ласки лета. Последнюю ласку проливал на землю, на сжатые пашни, на скошенные луга, на побуревшую тайгу притаившийся сентябрь.
И от последней солнечной ласки в полдень над землею курилось легкое марево, вода в реке и в пруду всплескивала и играла искрами, уличная пыль дымилась жарко и густо.
Фабричные дымы уползали глубоко в бесцветное высокое небо. Земля вокруг фабрики ссохлась и легко рассыпалась мелкою пылью, тончайшим прахом. Повозки вздымали густые облака этой пыли. Она вспыхивала и кружилась под ногами пешеходов. Она носилась над грудами битой посуды, над штабелями ящиков, над рухлядью, завалившей фабричные дворы. Она лезла в каждую щель, в каждую дыру.
Окутанная облаком этой пыли выезжала со двора легкая пролетка, увозившая в город приезжую партийку. Андрей Фомич с верхней ступеньки крыльца махнул рукою отъезжающей и вернулся к себе.
Два дня назад уехал инженер Вологодский, теперь эта женщина. На фабрике оставались Никулин, художник и профсоюзный работник. Профсоюзник был недавно введен в фабком и теперь председательствовал вместо Савельева. Савельев возвратился на производство, в гончарный цех. Андрей Фомич видел его в тот день, когда он впервые после фабкомовской работы стал у гончарного круга и раздраженно, с пугливым стыдом хватил первый ком сырой глины. Встретив внимательный взгляд директора, он досадливо тряхнул головою, но быстро оправился, улыбнулся и почти добродушно крикнул:
– Отвык малость!
– Привыкнешь! – весело успокоил его Андрей Фомич.
– Как не привыкнуть? Конечно, привыкну!
Вспомнив об этом, Андрей Фомич прошелся по комнате, заглянул на этажерку, остановился возле стола и задумался. Он зачем-то пришел сюда, он что-то искал. Но посторонние мысли сбили его, и он забыл, что ему нужно.
На столе, рядом со стопкой книг, валялись бумажные мешочки с сахаром, с какою-то снедью. На столе стояла жестянка с конфетами. Андрей Фомич взял ее в руки. Улыбка залила его лицо. Веселая, радостная, неудержимая улыбка.
Вчера вечером раскрыл он эту жестянку и пододвинул своей гостье, которая неуверенно присела на край стула и исподлобья оглядывала комнату. Вчера вечером пришла к нему Федосья, была его гостьей. И они вместе ели крепкие похрустывающие конфеты, беря их из этой жестянки. И пальцы их встречались. И, встретившись, цепко и шаловливо касались: его шершавые и грубые и горячие пальцы к ее мягким, тонким, вздрагивающим.
Федосья пришла вчера не сразу. Она долго колебалась. Андрей Фомич несколько раз встречался до этого с нею украдкою. Несколько раз твердил:
– Нам бы поговорить надо… По душам. У меня бы…
А Федосья, качая головою и нервно смеясь, отвечала:
– Отчего же не здесь? Поговорить везде можно! Какая разница?
– Здесь мешают. У тебя дома тоже неудобно. Лучше ко мне. Там спокойно. Никого постороннего.
– Неловко к вам. Нехорошо… – упиралась Федосья.
Но Андрей Фомич настоял. Он почувствовал, что девушка сопротивляется слабо, что она сдается. И она сдалась. Она пришла. Вот здесь, на этом стуле сидела она, сначала смущенная и вся настороже, следя за каждым движением Андрея Фомича и предваряя.
– Я на минуточку… Говорите, об чем хотели!
Андрей Фомич не торопился говорить. Он стал хозяйничать, расставил угощенья, вот эту банку конфет, потянулся к чашкам, Федосья остановила его:
– Нет, нет! Чаю не надо. Не буду. Спасибо!
– Ну, хоть конфетку! – предложил Андрей Фомич. – Съешь вот кисленькую!
Федосья взяла кисленькую, блеснув на Андрея Фомича лукавым взглядом:
– Теперь говорите!
– Ах, какая торопыга! – усмехнулся Андрей Фомич. – Да я просто по душам хотел поговорить. Вобче. Я ведь давно тебя, Феня, приметил… Нравишься ты мне…
– Глупости какие! – обожглась девушка стыдливым румянцем, хотя слова Андрея Фомича не были для нее неожиданными. – Глупости…
Она положила на стол надкусанную конфетку.
– Да не глупости! Кроме шуток говорю: шибко нравишься!
Покрасневшее лицо Федосьи стало серьезным. Она опустила голову, чтоб спрятать от Андрея Фомича глаза, чтобы спрятать и стыд, и радость, и смущение. И глухо сказала:
– Если вы за этим приглашали, так напрасно… Ни к чему.
– Напрасно? – Андрей Фомич придвинулся к ней. И его лицо тоже стало серьезным, озабоченным и слегка растерянным. Голос дрогнул ласковостью, пугливой нежностью. – Почему? Противно тебе, что я так говорю, Феня?
Растерянно сжалась Феня и молчала.
– Говорю, нравишься ты мне. Шибко нравишься, Феня! Слышишь?
Федосья слегка приподняла голову и быстро взглянула на Андрея Фомича. Глаза их встретились. В глазах дрогнула радость.
– Вот погляжу, погляжу на тебя, Феня, да и в загс потащу!
Голос Андрея Фомича зазвучал широкою ласкою, но в ласке этой было властное и недопускающее возражений. Федосья еще выше подняла голову и взглянула на Андрея Фомича. Во взгляде ее блестело радостное и неукротимое лукавство.
– В загс? А меня пошто не спросите? Пойду ли я?
– Не пойдешь? Неужели не пойдешь? – разбрызгивая веселую уверенность, которая целиком охватила его, поддразнил Андрей Фомич. – А вот и не спрошу!
– Ишь какой скорый! – с тихим укором прибавила Федосья.
Она поднялась с места. Андрей Фомич перехватил ее на дороге, положил руки ей на плечи и заглянул в глаза.
– А зачем откладывать?.. Если любишь?..
– Пусти… – сникла Федосья, ощущая на своих плечах горячие сильные руки. – Ну, какой… Пусти!
– Любишь?
– Не знаю… – неуверенным шепотом ответила Федосья.
Но этот шепот сказал Андрею Фомичу все. Андрей Фомич притянул к себе девушку, наклонился к ней и отыскал губами ее губы…
…Андрей Фомич сжал в руках жестянку с конфетами. Улыбка осветила его лицо. Неудержимая, радостная, светлая улыбка. Он подержал жестянку, потом, не переставая улыбаться, поставил ее на место. Отошел от стола.
И вспомнив, наконец, зачем пришел сюда, он отыскал в столе нужную папку с бумагами, перелистал ее и с деловым, озабоченным видом оставил свою комнату. Но в уголках бесстрастно сжатых губ его еще гнездилась неукротимая радость.
IV
– Шутки шутками, а выходит, брат, так, что в тебе причина за поджог-то!
– Мое-то дело какое?
Василий отстранился от Николая подозрительно и неприветливо. С Николаем он давно не встречался, давно не разговаривал. И в это полуденное время в праздничный день они столкнулись на улице случайно.
– Пойми! – продолжал с тихой усмешкой Николай. – Поджигатель-то, Степанидин отец, по злобе на тебя за твое баловство…
– Я за Степанидина отца не ответчик!
Николай различил во вскрике Василия небывалую горячность и даже какую-то жалобу. Николай внимательно вгляделся в товарища и тут только разглядел, что у того лицо темнеет тоскою и растерянностью, что нет в нем привычной уверенности, обычного для него задора и упрямства. Николай спугнул остатки насмешливости с лица, удивился, приглушил голос, участливо спросил:
– Василий, ты пошто такой? Хвораешь?
Василий вспомнил, что с таким же вопросом недавно обратилась к нему мать, и сердито затряс головой:
– Надоели мне расспросы про здоровье!.. Честное слово, надоели!
– Да я тебя когда и спрашивал? Чего ты кипятишься? Ну, если здоров, то огорченья у тебя какие-нибудь? Вишь, как тебя перевернуло. Эх, Вася, Вася? Отбился ты от людей. Вот и приходится тебе теперь в скрытности всякую беду разжевывать!
– Никакой у меня беды нету!
– Меня не обманешь. Я тебя не первый год знаю. Брось глупить!
Николай коснулся плечом плеча товарища. Заглянул ему в глаза. Глаза у Василия дрогнули, прикрылись ресницами. Скрылись.
– Брось глупить! Ну, покутил, завертелся, запутался, давай теперь на чистую дорогу выходить! Давай!
Слова Николая доходили, видимо, до Василия туго.
Он не подымал опущенных глаз. Но он слушал. Николай что-то сообразил и, оглянувшись на пыльную улицу, по которой шли прохожие, предложил:






