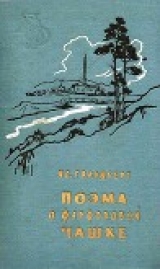
Текст книги "Поэма о фарфоровой чашке"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– Это, конечно, безобразие… Коли нет чьей безвинной ошибки, значит вредит какая-то сволочь… Ну, а в конце концов доберемся до причины. Попомни, старик, доберемся!
Угроза звенела в голосе Андрея Фомича. Эту угрозу почувствовали присутствующие. Почувствовал ее и Федюшин.
– Ты што же, сумлеваешься али как? – смущенно спросил он. – На кого думаешь, – что вредят? Это ни к чему… Кому тут это надобно? Никому… Прямо тебе говорю: понимания в деле, значит, мало. Оттого и брак пошел густо.
– Сказал я, – повторил, повышая голос, директор, – сказал, что доберемся, дознаемся мы до причины, а уж видно будет – какая она…
Старики в этот день, после шабаша, долго волновались по поводу заявления директора:
– Он что это, язви его, какие наветки загибает? Мы работаем ладно, как работали раньше… Может, они сами там намудровали в лаборатории. Массу плохо составили, состав испортили или вот в горнах трубы инженеры облаживали по-своему, заслонки новые поставили, – так не от этого ли вся волынка? А на рабочих нечего валить.
– Кому грозит-то? – шумел Поливанов в саду перед открытой сценой, куда клуб на лето перенес всю свою работу. Нам фабрика дороже, чем ему… Его, гляди, седни сюда сунули, а завтра убрали и в другое место. А мы тут горбы нажили, мы тут до скончания жизни трубить будем.
Старики бурлили и тянули за собою и кой-кого из молодежи.
И скоро вышло так, что Андрей Фомич и Карпов встретили отпор своему проекту обновления и улучшения фабрики. Глухой и организованный отпор.
И в спорах против новшеств и улучшений, которые были задуманы директорами, как-то был пущен нелепый, но легко поползший по фабрике слух:
– Горны плохо работают, продукция выходит плохая и фабрика несет убытки – все оттого, что директору и его помощникам и близким нужно во что бы то ни стало доказать необходимость перестройки фабрики…
Слух этот был нелеп, ему не верили, над ним втихомолку смеялись, но тем не менее он гулял по фабрике, будоражил и настраивал некоторых рабочих против проектов Андрея Фомича и Карпова.
III
Широкое собрание, на котором обсуждали план переоборудования фабрики, затянулось до позднего вечера.
Вавилов сделал обстоятельный доклад о том, в каком состоянии он нашел фабрику, и высказал свои соображения насчет ее переоборудования. Соображения эти были не в пользу проектов Андрея Фомича и Карпова.
С Вавиловым сцепился Андрей Фомич, ему на подмогу пришел токарь Егор. Савельев отмалчивался.
Старики внимательно следили за прениями и одобрительно встречали все доводы Вавилова.
Секретарь ячейки Капустин и рабочий механического цеха Лавошников возбужденно брали слово по нескольку раз и писали записки председателю собрания.
Капустин в раздражении кинул Вавилову:
– Вам, видать, милее, чтобы фабрика прахом пошла… Годиков десять назад вряд ли бы вы так спорили против усовершенствований и переустройства.
Вавилов взволновался. Ропот и смешки, раздавшиеся в в ответ на замечание Капустина, укололи его сильнее, чем слова секретаря ячейки.
– Мне Москва доверила, – сдерживая волнение, заговорил он, когда ему дали слово. – Я не добивался этой командировки… Меня заставили. Там знали, что я имел когда-то некоторое отношение к Вавиловке…
– К «Красному Октябрю»! – прервали Вавилова со всех сторон.
– Нету теперь твоей Вавиловки!
– Шабаш!
– …к фабрике… – поправился Вавилов. – Я приехал сюда без какой-либо задней мысли… А вот когда я присмотрелся к состоянию фабрики, к вашей работе, я убедился, что всаживать три четверти миллиона в переоборудование фабрики нельзя, бесхозяйственно, даже прямо преступно…
Вавилов говорил долго. Он приводил цифры, примеры. Он сравнивал фабрику «Красный Октябрь» с другими и доказывал, что там с таким же старым оборудованием справляются значительно лучше и не мечтают о ломке старого. Под конец, оправившись и почуяв, что собрание снова слушает его внимательно и с растущим доверием, он добавил:
– Нельзя, товарищи, к живому, серьезному делу подходить с фантазиями… Здесь фантазеры вот собираются даже на экспорт работать, на заграницу. У вас даже и проект об этом составлен и, говорят, вы его обсуждали серьезно… Фантазировать, товарищи, легко и очень просто. А вот как на деле осуществлять разные проекты – это особая статья…
Старики одобрительно загудели.
Поликанов сорвался с места:
– Совершенно правильно… Мудрят, чертомелят… По живому телу прямо собираются резать… Я прямо говорю при дирехторе, при товарище Широких: зря все придумано! Спасибо московским управителям, все ж таки доглядели, послали вот обревизовать… Не должна казна позволять денежки на ветер выкидывать… Они вот с Карповым стены ломать крепкие да ладные хочут, печь какую-то танельную строить собираются… А у нас горны, видал, какие? Еще сколько хошь простоят да продюжат, было бы уменье орудовать возле них…
– Верно, Поликанов!
– Совершенно правильно!
– И вовсе неправильно! – покрыл одобрительные возгласы Лавошников. – Ничего в этом верного нет.
– Товарищи!.. Спокойно!.. – председательский колокольчик залился и потонул в шуме. – Берите слово, а уж потом говорите, товарищи. Записывайтесь!
Андрей Фомич сидел неподвижно за председательским столом, рядом с Вавиловым, и был внешне спокоен и невозмутим. Только по легкому вздрагиванию какой-то жилки на щеках и по стиснутым кулакам, которые он твердо положил на стол, можно было почувствовать, что все внутри его клокочет. Андрей Фомич выжидающе молчал. Он знал, как умеют бузить ребята, как внезапно охватывает их слепое упрямство и владеет ими до какого-то момента просветления, которое в конце концов приходит. Он знал это еще на фронте, по боевой обстановке, еще по партизанским дням и невзгодам. И, сдерживая себя, он чутко следил за выступлениями, оглядывая быстрым, колющим взглядом каждого выступающего товарища; В сторону стариков, которые без сговору сгрудились в одном месте, он почти не глядел. Только раз взглянул на Поликанова, когда тот заговорил, и почти добродушно и по-дружески улыбнулся ему. А Капустину, который порывался выступить и разнести горячо и страстно противников, он сдерживающе шепнул:
– Обожди… Пущай накричатся… Остынут…
Но рабочие не остывали. И кончилось тем, что большинство одобрило выводы Вавилова.
А Вавилов откровенно и прямо заявил:
– Я представлю, товарищи, в центр доклад о том, что фабрика нуждается всего лишь в небольшом ремонте, в замене некоторых изношенных частей новыми. А против всего остального буду выступать с материалами и цифрами в руках, по совести, против…
– По совести… – раздраженно рассмеялся Капустин, шумно вылезая из-за стола. – Совесть-то, она всякая бывает… Разных цветов и мастей…
С собрания расходились шумно. Все были возбуждены. У некоторых лица были смущенные, растерянные. Рабочие подходили к директору и к Капустину и виновато говорили:
– У его цифры… Обосновано все… В самом деле, пожалуй, обидно такую уйму денег государственных тратить… Мы и так продюжим.
– Со временем, может, и надобно будет все это наново переделывать… А нынче, товарищ Широких, обождать надо…
Андрей Фомич молчал. Раздувая ноздри и играя желваками на щеках, он собирал свои бумаги на столе и не отвечал.
На конторском крыльце была сутолока. Красноватая мигающая лампочка лила тусклый свет на расходящихся рабочих.
Поликанов и Потап медленно спускались в теплую и умиротворенную тишину летней ночи. Потап смеялся:
– Поджал хвост дирехтор-от… Скис…
– Не радуйся, ворона! – звонко прокричал кто-то. – Рановато ты веселишься… Это еще потом видно будет, кто скис да хвост поджал!..
– Лавошников… – недовольно сказал Поликанов, узнав голос. – Хлопотный парень! Ну его…
IV
Вавилов уезжал назавтра после собрания. Опять каурый сытый конь горячился и приплясывал, нетерпеливо порываясь к гладкой, просторной дороге. Опять кучер, тот самый, который вез его со станции, оглядывал Вавилова и ладней примащивался на облучке.
Вавилов вышел с вещами из посетительской и полез в пролетку.
С длинных скамей, устроенных возле ворот, поднялись старики и подошли к пролетке:
– Уезжаешь, Валентин Петрович? Ну, счастливо…
– Понаведывайся еще…
– Может, опять командируют? Приезжай…
Вавилов приветливо раскланялся со стариками и протянул руку. Те полезли прощаться.
Кучер оглянулся, тронул вожжами. Каурый конь присел и рванулся. Бурая пыль окутала улицу. В бурой пыли скрылись Вавилов, каурый конь, пролетка.
Когда пыль улеглась и улица снова протянулась сонная, жаркая и пустынная, Потап, выколотив трубку, мечтательно вспомнил:
– Вот аногдысь провожали Валентина Петровича… Было делов… Помните, старики?
Старики кивнули головами:
– Помним… Как жа…
– Спервоначалу был стол в конторе для конторских и мастеров… Потом молебствие напутственное для легкости путешествия… Потом по цехам водку выставили с закуской, колбасой, пряниками, вобче чем полагается.
– Помним… – вздохнули старики, жадно слушая, жадно вспоминая.
– А опосля всего, – продолжал Потап, – когда усадили Валентина Петровича в тарантас – тарантасы тогды ходили тройкой – снял он шляпу, помахал, а тут гудки как загудут, заревут. И так ревели до той поры, покеда он все двенадцать верст до станции не отмахал… Гудели и гудели… А мы водочку за его здоровье кушали…
– Да, было… – вздохнули старики.
– Конешно… – тянул Потап, жмурясь на яркое полотно улицы, – капиталист, хозяин, наживался и капиталы имел большие. Но и нам жилось – нечего грешить – не плохо…
Потап задумчиво притих. Старики помолчали. В жаркой истоме раскаленного дня, в скупой тени, где они прятались, медленно и томно мечталось. Тихие воспоминания лениво разворачивались, лениво ползли из прошлого.
– Не плохо… – вздохнул кто-то, заменяя примолкшего Потапа. – Вот бывало такое. Надо, скажем, покойнику Петру Игнатьичу в строк подряд казне сдать, а сработано мало. Пакостили, али што… Ну, приходит сам в цех, здоровается, то, се… Говорит: «Ставлю, ребята, полведра, чтоб было сполнено вовремя. Будет? – спрашивает, – могу надеяться?» – «Можете, Петр Игнатьевич, уполне можете». Действительно, приналяжем, упряжемся, работаем не шесть, не восемь часов, как нонче, а двенадцать, до шашнадцати часиков догоняли в сутки – и выгоним заказ как следовает… А как выгоним – тут же из конторы несут бутылки, калачей, огурцов – пейте…
– Было… было… – возбуждаются старики. – Сколько раз было так…
Улица сонно и пустынно дымилась зноем. Горячее затишье лежало над поселком, над крышами, над пыльными, опаленными солнцем тополями. Со стороны фабрики ползли мерные звуки: рокот воды, урчанье мельниц и толчей, вздохи паровиков.
Старики изредка лениво взглядывали в сторону фабрики.
У стариков тряслись руки, их тело одрябло. Фабрика высосала из них живые соки.
И теперь они смотрели на нее издали и сплетали быль и небыль воспоминаний.
– Да, да, бывало…
Глава четвертая
I
Почту привозили со станции рано утром. Почтовик закрывался на крюк и вместе с помощником медленно и вразвалку разбирал корреспонденцию. Конторскую почту он откладывал на отдельный столик, и на столике этом каждое утро вырастала объемистая стопка пакетов и тюков. Позже приходил из конторы сторож Власыч и забирал эту стопку, каждый раз удивляясь:
– Куды это они эстолько гумаги тратют? Беда…
Он уносил пакеты и письма в контору и клал их на конторку делопроизводителя. Тот быстро просматривал, не вскрывая, пакеты и передавал их директору.
Директор неуклюже обрывал угол конвертов и вытаскивал бумаги, которые читал внимательно и сосредоточенно.
В это утро Власыч вместе с другой почтой притащил пакет, над которым Андрей Фомич просидел долго, хмурясь и постукивая кулаком по столу.
Он читал и перечитывал полученную бумагу и, когда прочитал ее раза три, позвал Карпова.
– Лексей Михайлыч, – невесело усмехаясь, сказал он техническому директору, – почитай-ка. Зажимают, гляди…
Карпов быстро пробежал бумагу и бережно положил ее на стол.
– Что ж теперь? – растерянно спросил он. – Неужели все прекратить?..
– Прекратить?.. Дудки!.. – вскипел Андрей Фомич. – Буду бороться… Зубами вцеплюсь, а не дам, чтоб зажали нас… Зубами!..
– Тут категорически возражают даже против капитального ремонта, а не только что против переустройств, – уныло покачал головой Карпов. – Прямое запрещение, выходит…
Андрей Фомич поднялся из-за стола. Крепкая рука его схватила бумагу, осторожно положенную Карповым на стол. Смятая, полуизодранная бумага взлетела вверх и затрепетала в сжатом кулаке.
– Я добиваться буду! – хрипло крикнул Широких. – Меня, Лексей Михайлыч, бумажками не запугаешь… Я не пужливый!
В голосе Андрея Фомича, во всей фигуре, в вытянутой руке с зажатой в ней бумагой была угроза, гневная и нешуточная. Алексей Михайлович поднял глаза на директора и покраснел.
Внезапно Андрей Фомич рассмеялся. Ласковый и добродушный смех его был неожидан:
– Фу-ты… да я что на тебя-то, Лексей Михайлыч, взъелся?. Ишь, даже в краску вогнал…
У Карпова дрогнули в улыбке углы губ. Оба расхохотались. И этот смех согнал напряжение и неловкость, которые недавно охватили и Андрея Фомича и Карпова.
Разжав кулак и выпустив на стол злополучную бумагу, директор со спокойной уверенностью заявил:
– Буду бороться, Лексей Михайлыч. Докажу… Фактами, делом докажу… Хоть со мной, в мою голову дело далее вести, как прежде?
Карпов встал со стула, перегнулся через стол и возбужденно ответил:
– Андрей Фомич! Работать с вами я буду, как мы все работали… Вы этому верьте…
– Ну, и ладно! – схватил Андрей Фомич его руку и крепко сжал. – Вот и чудесно!.. – не разжимая пальцев, весело и громко повторил он. – Робеть не надо… Наше дело чистое… Мы, Лексей Михайлыч, по-заправдашнему социалистическое строительство раздувать станем!.. Это ничего, что в центре затменье произошло… Это ничего… Мы им докажем… Закрутим, завертим… Пущай меня под суд отдадут!.. Под суд пойду, а докажу правильность нашего проекта. Докажу… Докажем ведь, Лексей Михайлыч?..
– Докажем!.. – взволнованно подтвердил Карпов и тихонько потянул свою руку из железных пальцев директора.
В дверь кто-то постучался.
– Входи! – кинул Андрей Фомич.
Вошел мастер из горнового цеха.
– Андрей Фомич! – обиженно заговорил он. – Что же это на самом деле? Гадит кто-то… Пятое горно опять сплошь брак выпустило!
– А ты что смотрел? – рассвирепел Широких. – Ты видал, какой товар туда ставили? Тебе понапихали всякой дряни, а теперь ты и плачешься!..
Карпов сорвался с места:
– Надо выяснить, что там опять.
Все трое быстро вышли из кабинета и, захватив фуражки, пошли на фабрику.
Власыч поглядел им вслед и недовольно помотал головою:
– Суетятся… – определил он.
– Что? – спросил кто-то из конторских.
– Говорю: суетятся зря… А что к чему, не понимают…
Широкие закоптелые печи расселись прочно и неуклюже на пыльном дворе. Пятая печь была самая большая и исправная. Возле пятой печи работал Поликанов.
Когда он завидел приближающихся директора и Карпова, его хмурое и озабоченное лицо еще больше потемнело. Он шагнул навстречу Андрею Фомичу и вызывающе спросил:
– Любоваться пришел, товарищ дилектор?.. На страмоту на нашу радоваться явился?
– Не ерунди! – оборвал его Широких. – Глядел бы, чтоб сраму не было. А то безобразие какое! Хуже не надо…
Андрей Фомич подошел к выставленным, из печи капсюлям с посудой. Он потрогал еще горячие чашки, чайники, блюдца. Он огорченно разглядывал испорченные вещи: почерневший фарфор, никуда не годящийся, оскорблявший взгляд своим безобразием.
Рабочие, столпившись вокруг выбранного из печи товара, возле раскрытой печи, молчали. Молодой парень, весь засыпанный серой пылью, протолкался вперед:
– Тут вредительство! Поискать бы надо того, чьих это рук дело! – почти весело прокричал он. – В других цехах надо щупать!..
– В других цехах, это верно! – поддержали его.
– У нас тут все аккуратно, как полагается… Должно, в сырьевом профершпилились!
– В сырьевом!..
Не слушая, Андрей Фомич прошел по хрустящему глиняному полу, заглянул в дохнувшую ему в лицо неостывшим жаром печь и разгневанно вышел из цеха.
Карпов остался рассматривать испорченную посуду.
И едва только вышел Андрей Фомич, как сорвавшийся с места Поликанов выскочил на середину, растолкал товарищей и встал против технического директора:
– Заело дилектора?.. Виноватых ищет?.. А ему бы радоваться надо, глядючи на такое происшествие… Прямо плясать!..
– В чем дело, Поликанов? – обернулся к нему Карпов.
– А в том самом: коли нонче на фабрике производство плохое получается, товар никудышный, стало быть, ломай старую фабрику, строй новые стены… Понятно?
– При чем же тут радость?
– А это понять надо… Нехитрая штука.
Карпов пожал плечами и пошел из цеха.
Рабочие придвинулись к Поликанову. Молодой парень спросил:
– Товарищ Поликан, ты на кого думаешь? Есть у тебя данные?
– Я, брат, никаких тебе данных не говорю… Только дурак один не поймет, что к чему…
– А к чему же?..
– К чему?.. – Поликанов испытующе оглядел рабочих, молодого парня, широкое жерло печи и многозначительно спросил: – Кому это на руку, чтоб брак повышался? Кому?.. А тем, которые фабрику рушить желают и по-новому строить!..
– Ну… ты скажешь!.. – ошеломленно запротестовали рабочие.
– Шибко это мудрено да тонко…
– Ты на кого думаешь? – вспыхнул молодой парень. – Ты на кого?.. Директор-то партейный, коммунист!.. Ты это сообразил?..
– Я-то сообразил, – нахмурился Поликанов. – А у тебя, видать, сообразиловка еще не выросла… Да я, – спохватился он, – в обчем ни на кого и не говорю… Так это, мнение мое… Опыт ума и многолетней работы…
II
Андрей Фомич поставил на бюро ячейки вопрос о продолжении разработки проектов переоборудования фабрики и о дальнейших работах по устройству тоннельной печи. Капустин и ряд других товарищей поддержали его. Но нашлись и такие, кого смутило прямое запрещение центра производить работы. Они запротестовали:
– Это не порядок, товарищи. Ведь это форменное нарушение дисциплины…
– Надо подчиниться… Что мы будем мудрить?.. Нельзя так…
– Лучше пока переждать, а потом, попозже опять походатайствовать. К тому времени, пожалуй, и в центре изменят взгляд…
– Так будет благоразумнее, товарищ Широких.
Но товарищ Широких Андрей Фомич был далек от благоразумия. Он не хотел и не мог ждать. Для него было ясно, что фабрику переоборудовать необходимо:
– Разве можно мириться с обветшалым оборудованием? Хозяйчики, капиталисты – они любили выжимать все до последней капли не только из людей, но и из стен и машин… Мы, товарищи, строим социализм. Нам нужна настоящая рационализация. Самые новейшие усовершенствования. Первый сорт… Мы нонче затратим деньги, а польза будет позже, по прошествии времени… И нечего пугаться, что она не выскочит вот этак сразу. Говорю, по прошествии лет… Потому мы строим, не на один год, а на предбудущее…
Большинством предложения Андрея Фомича были одобрены.
Бумагу из центра пришили к делу. И когда в конторе перекладывали ее из папки в папку, по конторским столам – от стола к столу – летела полурадостная тревога:
– Ну, влетит!.. Не поглядят, что коммунист… Ведь это прямое неподчинение.
– Прямо сказать – бунт!..
– А за бунт по головке не погладят…
Плескач оторвался от своих книг, отложил осторожно в сторону перо, кашлянул:
– Большие могут быть нам всем неприятности и беспокойства…
– А мы причем?
– Нас не касается…
– Нет… Ни в коем случае!.. Не касается…
Бумагу пришили к делу.
А работы продолжались. Каменщики клали кирпич за кирпичом. Росли стены. В длинном новом корпусе вырастала и ползла в длину огнеупорная печь. Вокруг нее ходил с деловой озабоченностью весь измазанный в глине, запорошенный пылью и песком Карпов. Он спорил с десятниками, подходил к рабочим, оглядывал каждый кирпич, каждый камень. Он весь уходил в чертежи, в вычисления, горел, настаивал, огорчался, когда привозили из кирпичных сараев плохой материал, радовался и расцветал при виде удачной и быстрой работы.
Но, уходя со стройки на фабрику, попадая в старые корпуса, Карпов Алексей Михайлович тускнел, сжимался и настораживался.
В корпусах почти в каждом цехе его встречали холодно и порой насмешливо. В старых корпусах настороженно ждали каких-то событий, центром которых должны стать Карпов и директор. Но директор, Андрей Фомич, был свой, он пришел сюда с мозолистыми руками, с невытравимой копотью от горнов и печей в каждой поре его сильного тела. Андрей Фомич, как свой, имел право на иное к себе отношение. И с ним рабочие, те, кто недоброжелательно, недоверчиво и неодобрительно относились к стройке, разговаривали напрямки. С Карповым же не разговаривали. При нем не говорили о фабричных делах, о строящейся печи, о новых стенах. При нем молчали. Но стоило только ему пройти мимо рабочих и скрыться за дверью, как вспыхивали то здесь, то там, как короткие разряды грозы, возгласы:
– Строитель!..
– Выше головы хочет прыгнуть…
– На нашей фабрике старается умственность свою высказать… Казенных денег ему не жаль, он и строит…
– А выйдет ли что, ему и горя мало. Отвечать-то другому придется…
Другие рабочие, те, которых так же, как и Андрея Фомича и Карпова, увлекала мысль обновить фабрику, вступали в спор с отрицателями и маловерами. Работа приостанавливалась. Мастера и табельщики охали и ругались.
В цехах в такие мгновенья шумело и гудело, как в раздраженном, потревоженном улье.
III
Однажды Карпов, проходя со стройки по цехам, зашел в глазуровочное отделение.
За столами, запорошенными белой пылью, у широких бадей с глазурью сидели женщины и работали.
Быстрым и легким движением работницы брали со столов посуду и обмакивали ее в бадью, а обмакнув, ловко встряхивали и ставили на длинные стойки. Они работали дружно, молча, только изредка обменивались парою слов с соседками по работе.
Карпов медленно прошел вдоль столов и остановился перед молодой работницей, руки которой проворно хватали посуду и обмакивали ее в глазурь.
Та подняла на него глаза и улыбнулась.
– Хорошая глазурь? – подумав и слегка смущаясь, спросил Карпов.
– Ладная… Лучше прежней… – ответила работница, не приостанавливая работы.
Соседки ее насторожились, чутко полуобернувшись в сторону.
– Да, теперь состав пошел хороший. Следим, чтоб не было ошибки! – охотно подтвердил инженер и подошел поближе.
Работница наклонилась над посудой и стала работать быстрее. Глаза Карпова впились в ее гибкие, изящные руки; тонкие пальцы осторожно, но крепко хватали хрупкую чашку и на мгновенье окунали ее в молочно-белый раствор.
Он перевел глаза на лицо девушки. Белая косынка сдерживала тугой узел волос, длинные ресницы, слегка запудренные белой пылью, прикрывали глаза. На щеках чуть-чуть проступал румянец. Девушка не глядела на Карпова.
Он неловко потрогал еще не обглазуренную посуду, украдкой оглянулся и быстро пошел дальше.
– Отмечает тебя, Феня, инженер! – смеясь, сказала пожилая работница, ближайшая соседка девушки, едва только Карпов вышел из отделения. – Зарится, видать, на тебя!
Женщины рассмеялись. Вспыхнув и лукаво отводя глаза, Феня с шутливой серьезностью запротестовала:
– Вот еще! Придумаете вы, Павловна. Никак он меня не отмечает…
– Да уж ладно, ладно. Видать, – упорствовала Павловна. – Слепой и тот заметит…
Посмеявшись и подразнив Феню, женщины отстали, вернувшись к своему делу.
Но немного позже какая-то из них, словно продолжая вслух упорную думу, неожиданно заметила:
– Чем с нашими ребятами, с охальниками, дак уж лучше с инженером… Тут, может, настоящую долю свою на всю жизнь доспеть придется…
Над столами, над белеющей посудой, над женщинами нависло напряженное молчание. Та, кто заговорила, худая нервная девушка, несла на себе бабью тяжесть: она уходила с работы в неурочное время кормить грудного ребенка. И не был известен отец его.
– Может, Федосья, настоящая это твоя доля, – повторила девушка, не смутившись молчания. – Только ты зря, наобум не поддавайся. Нет!..
– Какая может быть ей тут настоящая доля? – возмутились женщины. – Он чужой. У его понятия другие. По ему все будет выходить не так: и слова-то не те скажешь, да и поступки не те!..
Круглолицая веснушчатая девушка, отделившись от своего стола и размахивая сухим, матово поблескивающим блюдцем, задорно покрыла бабий говор:
– Конечно, чужой… Он не рабочего классу!.. Наши ребята – это свои, близкие… От наших, от своих-то, и обида не в обиду… Да, конешно, и поддаваться не надо! Ребята у нас хорошие… Ты, Федосья, отшей инженера, если он как-нибудь али что-нибудь…
– Да вы чего привязались? – отмахнулась Феня. – С чего это вы плетете?.. Вот новости!.. Человек слово сказал, а вы уже про какой-то интерес сплетаете. Прямо наказанье!..
Женщина, пожилая, та, которую Феня назвала Павловной, оглянулась и хитро прищурила глаза:
– Кота, девонька, сразу видать, коды он на сметанку целится… Есть у него на тебя аппетит – это сразу приметно. Есть!..
– Фу-у!.. – возмутилась веснушчатая. – Конешно, это личное дело Федосьи! Что вы, на самом деле, в ее обстоятельства путаетесь!..
– Не горячись, комсомолочка, – ехидно протянула Павловна. – Не горячись… Тебе ведь тут не заседанье да не ячейка твоя… Тут по-людски все… Ежели мы по-дружески, по женской своей части замечаем неладное, так мы, как подруги и товарки, помощь да совет можем дать…
– Советчицы!.. – фыркнула веснушчатая. – У нас у каждой своя голова на плечах…
– Голова-то своя, а что в голове-то – не известно…
Женщины дружно рассмеялись.
И опять, обрывая их смех, вмешалась худая, нервная девушка:
– Головы-то у нас у всех есть. Да вот закружится если, так тут никакие советы да никакая помощь не поправят… А тебе, Феня, я прямо скажу, – обернулась она к Федосье: – Если он али кто-либо другой с добром к тебе идет, с хорошим, – ты не отрекайся, не гордись… Потому кажная дите своего отца должна знать и уважать.
Снова молчание пришло вслед за словами девушки. И, как бы изнемогая под тяжестью этого молчания, выскочила опять веснушчатая, задорная:
– Вот чудно! А почему же обязательно отца чтоб уважать?.. Во-первых, ребят-то мы, женщины, рожаем… Ребенок первым долгом матери принадлежит. И, по мне, если я ребеночка захочу, так мне не все ли равно, кто ему отцом будет?.. Мне главное – ребенок!..
– Ой, бесстыдница!..
– Ай-яй, комсомолочка! Договорилась… Нечего сказать, красивые слова высказала!..
– Вот оно для кого эти самые ясли-то да приюты завели, для этаких бесстыдниц…
– Чтоб им ребят туды спихивать!.. Безотцовщину плодить…
На мгновение работа замерла. Женщины ушли в спор. Комсомолку закидали словами, задразнили. Раскрасневшись и немного оробев, она молча слушала.
Но худая, нервная девушка, перекричав остальных, пришла ей на помощь:
– Вы бы, мужние, помолчали! – страстно выкрикнула она. – Вам хорошо… Вы народите ребят да при мужьях нянчитесь с ними… А вот куды бы, скажем, я делась бы с моим крикуном, если б не было яслей?.. Была бы на мне петля, хоть пропадай… Ясли да приюты – это нам, женщинам, на пользу… Я всегда низко поклонюсь тому, кто их выдумал да у нас завел!
– Освобождение женщины… – радуясь поддержке, вставила комсомолка. – Нужны ясли, приюты… Вот столовые еще да общежития… Общие квартиры… чтобы не приходилось женщинам да девушкам стряпками да няньками быть, а наравне с мужчинами в общей жизни участвовать…
– Слыхали, слыхали!.. Заткнись ты, Глашка!
– Поехала, заскрипела шарманка…
– Сто раз слыхано… Одно трепанье языками!.. – вспыхнули, снова зашумели женщины.
Но в дверях появился мастер сырьевого цеха. Он скривил заросшее грязной бородою лицо, нагнул голову и сумрачно напомнил:
– Что ж это, товарищи, баня это вам али базар?..
IV
Женщины не раз посмеялись над вниманием, которое уделял Карпов Федосье. Они заприметили, учуяли верно и безошибочно, что инженера тянет к девушке, что он заходит в отделение, где она работает, чаще, чем нужно.
Их не удивляло это: за Федосьей Поликановой, слывшей в поселке и на фабрике первой красавицей, всегда увивались мужчины. Но какая-то неприязнь, какая-то обида наполнила их, когда они установили, что Карпов не на шутку заинтересован девушкой.
Самой Федосье льстило внимание инженера, но он ей не нравился. Он ее пугал чем-то. Вот эти упорные молчаливые взгляды, этот приглушенный голос, каким он разговаривал с нею, его манера держать себя с нею были для нее необычны. Порою они смешили ее, порою же возбуждали неосознанную, смутную тревогу.
В ней кипела молодость крепких свежих девятнадцати лет. Ее радовал громкий веселый смех, задорная, звенящая песня, быстрые широкие движения. Когда при фабричном клубе организовался физкультурный кружок, она была одной из первых, которая надела майку и трусики и с обнаженными руками и ногами стала в ряды физкультурников. Ее гибкое и крепкое тело выделялось из толпы молодых полуобнаженных тел изяществом и сверкающей грацией молодости. Подруги с завистью говорили ей:
– У тебя, Феня, фигура замечательная… Тебе бы в кине играть, на картине!..
А парни все норовили обхватить ее, помять, пытались бороться с нею, но получая крепкий и горячий отпор, смущенно хохотали.
Дома отец, старик Поликанов, порою долго приглядывался к ней и о чем-то соображал. А потом, в ее отсутствие, говорил жене:
– В кого она, Федосья наша, такая?..
– Какая?..
– Остроглазая и нахальная… Прямо всем в глаза кидается!..
– Ты уж, старик, скажешь… Вовсе она не нахальная…
– А ты погляди, как она, язви ее, буркалы свои разжигает… Всех парней смущает на цельной фабрике… Обкручивать ее надобно скорее.
– Нонче, старик, этак-то не водится, – нерешительно протестовала старуха. – Нонче нас не послушают… Сами окрутятся.
Поликанов темнел и обрывал разговор.
И всегда после этого обрушивался на младшего, на последыша Кешку, который бегал в свой отряд, хвастался пионерскими подвигами и нисколько не боялся отца.
Старик ловил его, загонял куда-нибудь в угол и шипел:
– Я тебя, стервеца, вот примусь учить по-своему, ты забудешь свои галстучки да барабаны!.. Я, брат, погоди только, пристрою тебя к настоящему делу… Не погляжу на порядки, а потащу тебя за волосы али за уши в цех, поставлю на работу… Знаешь, как добрые люди раньше к работе приучались?.. Раньше вот такой гаденыш, как ты, коло отца на работе горел. Отцу подмогу оказывал, к рукомеслу привыкал!.. Ранее такой сморкач уж деньги в дом носил, пользу!..
Кешка выкручивался от отца и, оставив того бушевать, уносился на улицу, где звенели ребячьи голоса.
Однажды старик, улучив минутку, когда Федосья оказалась с ним глаз на глаз, подошел к дочери и завел разговор:
– Чего ты, Фенька, пялишься? – неприязненно спросил он. – Каких это ты хахалей завлекаешь?
Дочь изумленно посмотрела на него. Лучистый, прямой взгляд ее красивых глаз еще больше рассердил Поликанова.
– Ну, что дурочку из себя строишь?.. Пред кем, спрашиваю, форсишь?.. Ты смотри, Фенька, коли узнаю, что балуешься, не погляжу на тебя, што ты на фабрике робишь, заголю юбчонку да всыплю горячих!..






