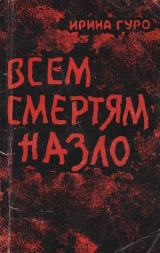
Текст книги "Всем смертям назло"
Автор книги: Ирина Гуро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Дело в том, что ей представилась возможность хорошо заработать. На чем? На комиссии. Знаю ли я, что такое комиссия? Да, я слышала, что привозят, например, откуда-то сахарин и здесь местные люди его продают и получают за это какой-то процент. Какой же товар перепродает Софья Яковлевна? Я никогда ничего такого у нее не видела. И тогда она мне сказала: товар этот – деньги. Червонцы.
Для чего она мне это рассказала? Я должна помочь ей. Самой ей трудно сбывать червонцы, которые ей привозят из другого города. Я буду работать «от нее» и получать за это... ну, большие, очень большие деньги. Я сразу сказала, что ни за что не соглашусь. Ни за что! Она засмеялась и сказала: «Поздно, девочка! Ведь ты уже год как работаешь на меня. Я всегда платила тебе ‹нашими» деньгами».
Я заплакала. Она ласково утешала меня: «Дурочка, ты же сама видишь! Ты только один раз попалась – и что же?.. Именно тебя никто никогда не заподозрит». – «Нет, я не могу», – настаивала я. «Как хочешь. Но мой компаньон будет очень недоволен. А он человек серьезный. Учти, что ты целый год работаешь на нас... Это не шутка».
Она запугала меня. Она просто запугала меня. И я огласилась... Меня познакомили с отцом и сыном Лямиными. Я должна была теперь сама «реализовать товар», а Софья Яковлевна, как она сказала, «отойдет в сторону», потому что она уже устала и временно «выйдет из игры»...
Лямины договорились со мной, что через месяц привезут «товар»... Я встречалась с ними каждый день в разных местах: в ресторанах, в казино, на бегах. Но у них ничего такого не было... Они сказали, что через месяц.
Жанна замолчала и потом сказала твердо:
– Все равно я не стала бы, лучше покончить с собой. Я на что-то надеялась. Но я страшно боялась, что за мной уже следят. Не знаю, почему, но я запомнила ту кассиршу, знаете, которая задержала меня с этими деньгами. И я подумала так: подойду к ней. Ведь она единственный человек, который видел у меня злосчастные деньги. Если она меня не узнает, значит, все в порядке.
– Но ведь мы тоже знали... – мягко напомнил Шумилов.
– Конечно. Но, знаете, я подумала, что вы поверили мне.
– Вы не ошиблись.
Жанна с горячностью продолжала:
– Так ведь я действительно сказала тогда вам правду. Ну вот, я пошла опять в тот магазин и стала в очередь к той кассирше. Она меня узнала, взяла у меня деньги и даже не посмотрела их на свет. И так участливо спросила:
– Девушка, вы, надеюсь, не имели неприятностей?
Я чуть не разрыдалась. И вот тогда я решила броситься в реку, если меня будут вынуждать.
Жанна замолкла надолго.
– Когда же должны приехать Лямины? – спросил Шумилов.
– В конце этого месяца. Может быть, приедет один только Борис. Сын.
– Вы сообщите нам о его приезде. Только не ходите сюда. Моя помощница встретится с вами на улице.
И Шумилов отпустил девушку.
– Драпанет, – не выдержала я.
– Плохо людей понимаете, – отрезал мой начальник.
И вот теперь мы ждали. Мы занимались множеством других дел, но среди них я всегда помнила растерянную, запутавшуюся Жанну, для которой развязка этого дела значила очень много, много больше, чем для нас. Для нас это было одно из дел, которые мы вели. Для нее – вопрос всей ее жизни.
Если бы она не встретилась с нами, что было бы с ней? Она осталась бы в мире Ляминых. И так как мир этот был обречен, то, погибая, он увлек бы и Жанну. Мы указали ей выход.
И так почти в каждом деле: вокруг кучки преступников существовала некая орбита, по ней двигались люди, которые легко могли соскользнуть вниз, могли быть втянутыми в преступление. Но могли и сойти с орбиты, вырваться к настоящей жизни и стать нашими товарищами.
Это вносило сложность в нашу работу. Не могло быть рецептов на все случаи. И надо было в каждом искать свое решение.
За основной задачей – разыскать виновника, доказать его виновность, вставал ряд других, касавшихся других людей: определить их место в деле, может быть, помочь им, дать им возможность помогать нам...
Я думала о Жанне, об этой моей ровеснице, и мне казалось, что я уже очень долго живу на свете. Эта наша работа как-то старила. Да, точно: она прибавляла лет. Когда-то мы жили, словно шли каким-то совершенно прямым коридором, в конце которого сиял ослепительный свет будущего. Теперь мы стремились на этот свет через лабиринт, где мерзкие твари, порождения тьмы хватали нас за ноги, а свет был далек, а болото противно чавкало под ногами...
Мы видели изнанку нашей действительности и понимали, что это только изнанка. Но с этим приходило и чувство сложности нашего движения, чувство вечной мобилизованности, ответственности.
И путь в будущее уже не казался мне ни прямым, ни легким.
2
Мы редко говорили обо всем этом с Шумиловым. То, то он называл «философией нашей работы», открывалось мне в каких-то деталях, в брошенных походя репликах.
Наша коммуна над «Ампиром» распадалась на глазах: Микола учился в технологическом, много занимался, часто ночевал в институте у товарищей. Котька пропадал неизвестно где. Чаще всего мы встречались в лучах медного чайника с Федей. Но и это были короткие и невеселые встречи.
Мне не с кем было поговорить по душам.
Существовала еще одна преграда, выросшая между мною и товарищами: почти все, что меня сейчас занимало, не подлежало оглашению. Я могла поговорить обо всем только с Володей Гурко.
Володя уже давно жил в общежитии. Оно было, по существу, военной казармой, и у входа стоял красноармеец с винтовкой. Молодой, вежливый командир, сидевший за столиком у телефона, сказал мне, что товарищ Гурко «в данный момент находится на дежурстве в ОДТО ОГПУ».
– А я не могу туда пройти? – слегка оробев, спросила я, поняв, что Володя теперь – персона, хотя одно предположение, что я по каким-то причинам не могу его увидеть, когда хочу, больно поразило меня.
– Это можно устроить, – снисходительно сказал командир и спросил, как моя фамилия. Он покрутил ручку настенного телефона и прокричал в трубку несколько слогов: «Де-то!», «Юж-уз!» и еще что-то.
– Ответ дежурного! – в конце концов потребовал он и после паузы уже другим, игривым голосом, сказал: Владимир? К тебе пришла товарищ женского пола. Фамилие: Смолокурова... Да-да. Направляю к тебе. Пока!
Это словечко «пока» вместо «до свидания» недавно только вошло в обиход, но уже прочно укоренилось и вытеснило даже широко распространенное «определенно», употребляемое в смысле «да».
Вышло так, что кто-то зачем-то меня направлял к Володе, а не я сама, по влечению сердца, пришла его повидать. Что поделаешь!
На Южном у «ДЕТО» стояла толпа. Мужчины и женщины с мешками и баулами чего-то требовали, ругались, потрясали кулаками. Другие, наоборот, в тупой покорности сидели на своих пожитках, устремив тусклые взоры на красноармейца в ядовито зеленых обмотках, преграждавшего дорогу в казенного вида дверь под вывеской: «ОДТО ОГПУ». Я испугалась, что мне придется пробираться через эту густую и безусловно вшивую толпу мешочников, но обладатель зеленых обмоток заметил меня и грозным окриком расчистил мне путь.
– Приказано пропустить, – сказал он, когда я нерешительно приблизилась.
Посреди большой, полупустой комнаты стоял письменный стол, довольно обшарпанный. За столом сидел Володя. Я его не видела, потому что его заслонял от меня большой и толстый, – такие толстые среди нас еще не попадались, – военный, стоявший руки по швам, чуть наклонившись к столу.
Я услышала знакомый Володин голос с какими-то новыми, начальственными интонациями:
– Об жратве поменьше думать надо. Революцию мешочники обгладывают, а вы в «Каменном столбе» прохлаждаетесь.
Второразрядный ресторан «Каменный столб» находился как раз на вокзальной площади, и я подумала, что толстяку это очень удобно.
– Так в вокзальном ресторане же нам запрещено, мы тут сутками... – взмолился толстяк, – есть где-то надо...
Володя бросил непонятные слова:
– На подходе 144-й-бис. Оцепите три последних вагона. Данные есть. Идите. Выполняйте! Одна нога тут, другая там.
– Будет сделано.
Толстяк повернулся кругом, и в это время влетел молоденький парень в штатском.
– Товарищ начальник! Двух сявок споймали. Умыли чемодан у якогось штымпа заграничного, во гады! – радостно закричал молоденький.
– Навэрх, навэрх, до Максименка! – сказал Володя, и тут он увидел меня. – Навэрх, до Максименка! – механически повторил он с широкой, такой знакомой мне и так не соответствующей этим словам и обстановке улыбкой.
И потом все время, пока мы сидели и все говорили и говорили, забыв об окружающем, то и дело забегали комнату полумальчики в военном, Володя называл их «линейными агентами», и пожилые усатые железнодорожники. Все они очень категорично требовали чего-то от Володи. А он только устало повторял свое:
– Навэрх, навэрх, до Максименка!
Так что я уже подумала, что это пароль, но оказалось – просто Максименко, начальник ОДТО, и он помещается на втором этаже.
Мы говорили каждый о своем, но так получалось, что с разных концов мы приходили к одному и тому же: жизнь наша страшно изменилась.
– Подумай, Володька, ведь есть же люди, которые, как мы когда-то, живут среди самого светлого, что есть в нашей жизни: строят заводы и наводят мосты и учат детей любить революцию и партию. И они даже не знаот, не догадываются, сколько вокруг всякой нечисти...
– Да чего, к чертям собачьим, где-то искать далеко, Лелька! Вот же у меня под боком такие же молодые, как я, так они же все – инженеры, техники, – да боже ж ты мой! – машинисты, смазчики, путейцы, тяговики! Они же новый, советский транспорт создают, творят и видят плоды своих трудов. А я? Диверсии, спекуляция, воровство... Самая изнанка жизни, самая погань. А я ведь с пятнадцати лет уже помощником машиниста в Купянск ездил. И не только уголь лопатил, а на левом крыле стоял. Поезд водил... – сокрушался Володя.
Но в его глазах, в его тоне я слышала: «Да-да, мы чернорабочие революции, мы вывозим все нечистоты переходной эпохи. И никто не назовет наших имен, и не поставят нам памятник. Но именно мы обеспечиваем строительство и промышленности, и транспорта, и всего, всего, что нужно для социализма. И в этом наша доблесть и гордость».
И я думала это самое, но говорила о том, что мы «навоз истории», ее муравьи, разрыхляющие землю для того, чтобы зерно, упавшее в нее, дало росток.
И говоря все эти «высокие слова», мы отлично понимали друг друга.
– Слушай, Лелька, а что в «Ампире»?.. И ты все еще спишь на гладильной доске?
– Ну что ты! Я теперь на ней даже не помещаюсь...
– А клопы?
– Вывели.
В один прекрасный день Федя сказал: «По-моему, при строительстве социализма стыдно жить с клопами». А Котька, конечно, стал кричать, что у нас свобода и каждый живет, с кем хочет, и это вошь – враг социализма, а про клопов ничего не сказано. Ну, в общем, клопов нет. Да и кусать им теперь некого. Микола ведь от нас ушел...
– Как? Куда?
– К Эльзе – шансонетке.
– Что? – Володя махнул рукой кому-то, заглянувшему в дверь, и снова обратился ко мне: – Да рассказывай же! Ну! – Он расспрашивал так вкусно и даже открывал рот в интересных местах, что я вошла в раж. Ведь Володька не был у нас целую вечность.
– Гришку-химика выслали, – сообщила я.
– Да ну?!
– Погорел на Пречбазе с кокаином. Под видом сахарина торговал. В Нарым на пять лет. И мама его с ним поехала.
Володька захохотал на все ОДТО:
– Воображаю: мадам в Нарыме!
– В их комнату вселили эстрадную певицу, бывшую шансонетку Эльзу. То есть она Лиза, но зовется Эльзой.
– Лелька, а что это – «шансонетка»? Это, просто сказать, б...? – спросил Володька простодушно.
– В этом духе, но только с танцами и песенками, – пояснила я не совсем уверенно, – знаешь, такими, ну: «Нахал, оставьте, я иду домой!» А он за мной!» – и все такое. Поскольку шантаны прикрыли, она теперь в Госэстраде и называется «каскадная певица».
– А из себя она ничего? – азартно спросил Володя, изобразив пальцами в воздухе абрис женской фигуры. – Все на месте?
– На месте, – подтвердила я. – До того на месте, что Котька с Миколой из-за нее чуть не передрались. И кончилось тем, что Котьку выставили, а Микола перебрался к ней.
– Смотри, какой! Кто б подумал? А Гната видишь?
– Володька, что я тебе расскажу! Послал меня Шумилов в Военный трибунал по нашим делам. Иду по коридору... Ковер, знаешь, такой, стены масляной краской... Иду, таблички на дверях читаю и вдруг: «Старший военный следователь Г. Хвильовий». Представляешь?
– И ты не зашла?
– Конечно, зашла. Знаешь, он мне обрадовался. Как-то он изменился. Не поймешь даже, в чем. И голос стал какой-то жирный. «Хочешь, Лелька, – говорит, – я тебя в два счета переведу к нам?» – «Зачем это?» – спрашиваю. «Ну все-таки большие масштабы, большие перспективы. А я тебе ведь обязан. Это ты меня тогда на лестнице нашла, помнишь?» А я, знаешь, Володька, сразу вспомнила почему-то, как он хныкал, что мы объедаем Котьку. «Нет, – говорю, – мне своих масштабов хватает». Он меня проводил по лестнице до самого низу и на прощанье опять повторил, что мне обязан, и если мне что-нибудь будет нужно, то стоит ему только слово сказать... И все такое.
– Скажи, пожалуйста! А мы все думали: он – Ломоносов, – сказал Володька.
– Нет, не Ломоносов. Он, Володька, скорее всего... – я задумалась, – Фуше!
– Фуше? Это который при всех правительствах начальником полиции?
– Да! Именно! – разгорячилась я. – По-моему, Володька, ему все равно, что у нас: революция или реакция. Он, как это...
– Карьерист?
– Нет, еще хуже... Приспособленец – вот кто!
Это было новое слово, недавно вошедшее в обиход.
– Может, он из кулаков, Гнат? – спросил Володя и с профессиональной интонацией заметил: – Мы же его не проверяли, кто он есть.
– Нет, он из бедняков. Это точно, – успокоила я его.
И мы опять заговорили о том, что нас касалось ближе всего: о том, что мировая революция, по всем видимостям, задержалась, но это ничего, потому что мы все равно строим социализм, – что же нам дожидаться ее, что ли? Так пока мы будем у моря погоды ждать, нас задавят! Что смычка с крестьянством – вот это дело! Смотришь, и мужик потянется к социализму, надо нам только не драть перед ним нос!
И тут я рассказала Володе про Котьку. Котька не согласен ни с чем.
– Как ни с чем? Со смычкой не согласен?
– Ни в какую, – подтвердила я. – Кричит, что мужик – это темень и реакция и у него лично никакой смычки с ним не может быть... И насчет мировой революции Котька тоже так смотрит, что если ее нет, то и нас нет...
– Как это «нас нет»?
– Ну, значит, у нас нет никакого социализма...
– Лелька, так он же троцкист! – сказал Володька убежденно.
– Не может быть, – возразила я. – Все-таки Котька – наш товарищ.
Мы бы еще долго сидели так, очень довольные друг другом, если бы не раздался страшный стук в потолок. Стук был такой, что мне показалось: потолок сейчас обрушится.
– Максименко! – сказал Володя, и тут мы, наконец, услышали, как на стенке надрывается телефон.
Володя снял трубку и успел только сказать:
– Я, Гурко...
После этого он очень долго молчал, и шея его все больше краснела. В конце концов он сказал только одно слово:
– Есть.
И я поняла, что он уже далеко от меня.
– Ты приходи, Лелька. Или знаешь что? Пойдем с тобой как-нибудь в ресторан. Хоть в «Каменный столб».
– Ты ж за него вон как гоняешь!
– Ну это во время службы. Мы с тобой вечером... А?
– Хорошо.
Мы расцеловались, и я вышла на платформу, по-прежнему забитую народом. На душе у меня было легко от того, что Володька существовал на свете, и мы с ним думали одинаково о главных вещах.
Но день этот еще не кончился. Когда я проходила мимо «Каменного столба», кто-то хриплым, как мне показалось, незнакомым голосом окрикнул меня:
– Лелька! Пимпа курносая! Ты ли это?
Крик был такой отчаянный, что на меня обернулись прохожие.
На открытой террасе «Каменного столба» стоял Валерка и размахивал руками, как ветряная мельница.
– Сюда ходи, сюда! – он втащил меня на террасу – Водку пьешь?
– Или! – храбро воскликнула я.
Валерка налил мне полный стакан, потом, подумав, переставил его себе и позвал официанта.
– Ма-аленькую рюмочку! – велел он и показал минцем, какую именно маленькую.
Валерка был не очень пьян, но сильно расстроен. И не похож сам на себя. Непонятно было, с чего он сидит в ресторане, можно сказать, среди бела дня и дует водку в полном одиночестве.
– Что у тебя, все в порядке? – спросила я, внезанпно охваченная недобрым предчувствием.
– Лелька! Меня исключили из партии, – страшным шепотом произнес Валерка.
Я обмерла. Исключение из партии – это ведь политическая смерть! Я неясно себе представляла, что такое именно «политическая» смерть. Мне показалось, что против меня сидит настоящий мертвец.
– За что, Валерка? Ты же с восемнадцатого года...
– За преферанс, – ответил Валерка загробным голосом и выпил мой стакан.
– Ты играл в преферанс? – ужаснулась я.
В преферанс играли только представители чуждых классов. Самое меньшее – акцизные чиновники. Это было ужасное, чуждое, размагничивающее занятие. Я давно это знала, с детства. При царе в преферанс постоянно играли владельцы нашего завода и их приспешники.
Валерка, таким образом, стал как бы прихвостнем буржуазии.
– Играл, – сказал он с глубоким раскаянием в голосе, – с директором Эпштейном.
– А как же твоя жена? – сразу вспомнила я.
– Она, конечно, моментально ушла от меня. Она – женотделка.
«Вот оно! Я бы не ушла. Я бы до ЦКК добралась», – подумала я и спросила:
– А цекака?
– Написал. Пока не известно. – Валерка устало закрыл глаза.
– Уходи, Лелька, – сказал он неожиданно, – ко мне тут одна баба должна притопать.
Только этого не хватало!
– Ты окончательно разложился, Валерка, – сказала я и ушла.
Но этот день был нескончаем. Еще у дверей «Ампира» я услышала шум. В нашей квартире ругались. Последнее время это случалось часто и особенно меня не беспокоило. Дверь стояла открытой настежь, и до меня донесся визгливый Котькин голос. Странно, что раньше я не замечала, какой у него неприятный голос!
– Вы же – термидорианцы, типичные термидорианцы! – визжал Котька. – Гробовщики революции! Строите социализм? Где? В одном уезде? Ха-ха! В Богодухове? В Пирятине? В Кобеляках?
– Трепло мелкобуржуазное! Авантюрист! Провокатор! – Федька гремел по нарастающей. – Геть видсиля! – закончил он вдруг.
Мимо меня пролетели связки книг и Котькины кожаные брюки. Следом выскочил бомбой сам Котька и, дико посмотрев на меня, словно не узнав, ринулся вниз по лестнице, волоча за собой чемодан. Я вошла. Федя стоял посреди комнаты, закрыв лицо руками. За столом сидел мой дядя, немножко бледный, и барабанил пальцами по столу. Некоторое время мы все молчали.
– Что же это? – спросила я.
– Политическая борьба, – ответил дядя.
– Но мы ведь единомышленники. Зачем же так? – Я чуть не плакала.
– Поставь чайник, Лелька, – сказал дядя.
Потом мы втроем пили чай и долго говорили.
Дядя ушел от нас поздно и на прощанье поцеловал меня: он уезжал надолго. В Германию. Работать в нашем полпредстве.
3
Лямины приехали, и Жанна исправно сообщала нам о каждом их шаге. Увы! Все эти шаги были абсолютно невинны: посещение ресторанов, казино, танцы, попойки...
Правда, Жанна доставила нам крупную сумму фальшивых червонцев, привезенных Лямиными, но мы были так же далеки от раскрытия центра фальшивомонетчиков, как и раньше.
В Одессе никаких интересных связей Ляминых обнаружить не удалось. Одесский уголовный розыск считал, что в Одессе существует лишь перевалочная база, а делают деньги где-то в другом месте. Кто содержит эту базу? – Над этим в Одессе бились уже давно.
Лямины не собирались откровенничать с Жанной. Безусловно, многое знала Софья Яковлевна, но та умела держать язык за зубами.
Выяснение дела шло чрезвычайно медленно еще потому, что и фальшивомонетчики не торопились. Жанне, например, разрешалось «реализовать» привезенные Лямиными деньги лишь через месяц после их отъезда, чтобы появление фальшивых червонцев в городе никак не связывалось с ними.
Время шло. Лямины снова уехали в Одессу. Оттуда они никуда не выезжали, никакими делами, кроме торговли фруктами, не занимались.
Но через два месяца младший Лямин снова появился в нашем городе. На этот раз один. В самом деле, какая надобность была в поездке его отца?
И у нас возник план...
Мы арестовали Лямина-младшего. Арестовали с фальшивыми червонцами.
На допросе он держался с достоинством, сказал, что деньги эти получил за проданные им фрукты, от кого именно, не помнит: оптовых покупателей было много.
Мы и не ждали от него ничего другого: наша задача заключалась в том, чтобы вывести Лямина-младшего из игры и ввести в нее Жанну. Для этого мы постарались, чтобы Софья Яковлевна узнала об аресте. И тогда было решено, как мы и предполагали, что Жанна выедет в Одессу предупредить старшего Лямина.
Тем же поездом в Одессу выехали мы с Шумиловым.
Вечером мы сидели в вагон-ресторане. Прямо передо мной в зеркальной двери отражался весь вагон. Народу было немного. За крайним столиком сидела красивая дама. Она была из тех холеных, тщательно ухоженных женщин, которые встречались только среди нэпманок, потому что «бывшие» уже состарились в ожидании возвращения старого режима и выглядеть так блистательно не могли.
Я разглядела и полное лицо, и кожу, слишком розовую, чтобы быть натуральной, фигуру, слишком стройную, чтобы не вызвать подозрения насчет корсета, и обдуманный туалет из модного шелка «шан-жан».
Потом я перевела взгляд на ее спутника и увидела, что и он таращится на меня в зеркало.
Валерка! В штатском костюме и, что было необыкновенно, – с галстуком. Он без церемоний, не говоря ни слова, поднялся, не обращая внимания на удивленный взгляд своей спутницы, и подошел к нам.
– На хвылыночку! – попросил он меня самым сладким голосом.
Нет, я ни в коем случае не хотела говорить с ним при Шумилове и вышла на площадку. Мы как раз проезжали по мосту, и тут стоял ужасный грохот.
Валерка кричал мне в самое ухо:
– Это что за фрайер с тобой? Муж?
– Начальник! – кричала я. – А с тобой?
Мы проехали мост, и ответ прозвучал комически громко:
– А! Это моя жена...
– Из Обояни? – ехидно спросила я.
– Почему из Обояни? – рассеянно спросил Валерий и, вспомнив, захохотал: – Нет, это другая.
– На нэпманке женился! – упрекнула я.
– Почему нэпманка? Она артистка. Певица.
– Каскадная? – с пониманием дела спросила я. – «Нахал, оставьте, я иду домой!» А он за мной»?
– А вот как раз наоборот: «В храм я вошла смиренно богу принесть молитву»... Это из Риголетто. Понятно? – победно объявил Валерка. – Слушай, Лелька, ведь я на заводе у ваших сколько раз был. И, знаешь, тебя вспоминал. Как мы у камина с тобой сидели в кабинете индивидуальных занятий...
– Нашел, что вспоминать! – сказала я снисходительно. – А в партии тебя восстановили?
– Товарищ, вы газет не читаете. Я же только что назначен заместителем управляющего Главсахара, – сказал Валерка.
Мы помолчали, как бы привыкая к новому положению вещей.
– Между прочим, мой начальник – он заместитель губернского прокурора, – соврала я.
– Хай ему грец! – равнодушно заметил Валерка.
– Ну пока! – сказала я.
– Пока! – рассеянно ответил Валерка.
Когда я вернулась к столу, Шумилов ни о чем меня не спросил, а я сама ему сказала:
– Это друг моего отца. Он заместитель управляющего Главсахара.
– Ну? – сказал Шумилов и добавил: – Пусть ему будет хуже!
Стоял август. Над теплыми камнями Одессы плыло неприкрытое оранжевое солнце. В конце каждой улицы синело море. В гавани картинно застыли суда, казалось, сошедшие со страниц романов Джозефа Конрада. Уличные продавцы выкликали свой товар музыкальной скороговоркой, как в оперетте: «Ах, вот сочный, спелый грюш!», «А вот рас-кошный слив!»
Дюк Ришелье смотрел со своего пьедестала недоуменным взглядом: Одесса, город контрабандистов, международных шпионов, негоциантов и бездельников, уходила в прошлое под грустные мотивы нэповских романсов: «А у меня больная мама, она умрет, когда растает снег»...
Каждый вечер мы прогуливались по набережной, бродили в нарядной, по-южному говорливой толпе, молчали. Потом к нам подходила Жанна, нарядная, оживленная, настороженная.
В какой-нибудь кофейне, где в общем шуме можно было спокойно вести тихий разговор, мы слушали ее сбивчивый нервный шепот.
Арест Лямина-младшего не особенно огорчил его отца. «Поди докажи, что он не случайно получил эти деньги от покупателей!» – резонно заключил Лямин-папа.
И ни с кем Жанну не свел, и ничего нового ей не открыл.
Но заботу Жанны он оценил в полной мере.
– Придется вам, детка, взять на себя кое-какие хлопоты, – сказал он ей. – Если через месяц сына не выпустят, я поручу вам одно дельце.
Сына, конечно, не выпустили. И ровно через месяц Жанне позвонили по телефону из Одессы. Лямин-старший предлагал ей немедленно выехать в маленький городок Тарынь, где ее встретят на вокзале, узнают по описанию и по условному знаку: у нее должна быть в руках нотная папка с красными шнурками.
И снова тем же поездом выехали и мы. Жанну встретила на вокзале пожилая, хорошо одетая дама. Мы проводили взглядом обеих женщин, не спеша прошествовавших в боковую улицу, и подумали, что наконец, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.
Вечером на условленное место Жанна не пришла. Контрольное свидание было у нас назначено на следующий день уже в другом месте, в маленькой кондитерской на перекрестке двух бойких улиц. Но Жанна не появилась и здесь. Старуха ее не выпускала, это было ясно. Вероятно, она хотела сама и проводить ее в обратный путь.
Мы выехали на вокзал к поезду и сразу же увидели Жанну со старухой. В руках у Жанны был ее чемоданчик. Старуха несла другой. Это нас обнадеживало!
Усаживая Жанну в купе, дама передала ей и свой чемоданчик. Последовало трогательное прощание, поцелуи, просьба не забывать...
Не дождавшись отхода поезда, дама еще раз прощально махнула рукой стоявшей у окна Жанне и – была такова.
Поезд тронулся. Мы встретились в вагон-ресторане, в котором кормили пшенным супом с воблой и пшенной же кашей с маслом, напоминавшим машинное.
– Ничего похожего на стол мадам Горской, – сказала Жанна.
Мы не очень внимательно слушали ее рассказ о богатом доме Серафимы Ивановны Горской и об ее дочерях, уверенных, что их мать занимается торговлей фруктами. Нам не терпелось узнать, что происходило в самом логове...
Нет, никакое это не логово! И ровным счетом ничего там не происходило. У Серафимы Ивановны лежал приготовленный для Жанны чемоданчик. «Очередная партия товара», – как сказала мадам Горская.
А деньги? Фальшивые деньги были тут как тут. В чемоданчике. В пакетах из плотной бумаги, прошитой суровыми нитками.
Странная командировка выпала нам с Шумиловым: мы съездили за «партией» вопросительных знаков, если пользоваться словарем мадам Горской.
Пока мы ездили, Мотя раскрыл еще одно «кошмарное преступление». На этот раз совместно со служебной собакой Неро.
Дело называлось: «О похищении 386 рублей 12 копеек из кассы продуктового магазина № 39».
Непонятно, каким способом Моте удалось заручиться содействием пожилого, солидного сотрудника уголовного розыска Иванова, но факт оставался фактом: Иванов прибыл по вызову Моти в магазин № 39 вместе со
служебной собакой Неро.
Об остальном достаточно красочно рассказывал составленный Мотей «Акт».
«Акт применения собаки-ищейки Неро, – писал Мотя. – Я, секретарь нарследа один, совместно с проводником служебной собаки Неро Ивановым, прибыл в магазин пищевых продуктов № 39, где, согласно заявлению кассирши Лидии Смирновой, было похищено из кассы 386 рублей 12 копеек. По прибытии в магазин собаки ищейки Неро кассирша заявила: «Не надо искать 386 рублей 12 копеек. Не надо применять служебную собаку Неро. Потому что деньги взяла я»...
Шумилов взялся за голову.
– Послушайте, Мотя, – сказал он после большой паузы, – я думаю, Мотя, что вам лучше всего более тесно связать свою судьбу со служебным Неро.
– А что? Я люблю собачек, – пробормотал Мотя, не зная, к чему клонится разговор.
– Я думаю, что вам надо работать там, где меньше писанины и больше оперативности, а? В уголовном розыске, например.
Гамма чувств пробежала по Мотиному лицу: обида, недоумение, надежда... Присущая ему жизнерадостность все же победила.
– Я буду там на месте, Иона Петрович, – сказал Мотя.
Его откомандировали в уголовный розыск на должность младшего оперативного уполномоченного.
Ему выдали наган, кожаную куртку и свисток на цепочке.
– Пусть мне будет хуже! – сказал Мотя.
А мы пока остались без секретаря.
С кем связана Горская? Этого уголовный розыск на месте установить не смог.
– Лямина придется освободить, – сказал Шумилов.
– Что?! Заведомого фальшивомонетчика?
– Кем он изобличен? – холодно спросил Шумилов.
– Как кем? Как кем? Жанной! – воскликнула я.
– Нет. Жанна всякий раз получала фальшивые червонцы от Софьи Яковлевны.
– Но Жанна знает, что Софье Яковлевне привозил их Лямин.
– Это называется «косвенным доказательством», и этого мало для суда.
– Значит, прав был Лямин-старший: мы выпустим сына и преступники останутся безнаказанными?
– Да, если мы не добудем новых доказательств. Прямых, а не косвенных.
Я задумалась. Нет, я ни за что не хотела мириться с таким положением.
– Прямым доказательством могло бы быть признание Лямина-сына... – осторожно начала я.
– Нет, – отрезал мой шеф, – признание, ничем не подкрепленное, ничего не стоит в глазах суда. На процессе обвиняемый откажется от своих показаний. И все. Лучше прекратить дело в стадии следствия, чем выходить на суд без улик.
Первый раз я в душе осудила Шумилова. Все было плохо. Мы ничего не добились, введя в игру Жанну. Нам решительно не везло.
Прошло два дня. Шумилов не возвращался к делу о фальшивомонетчиках. Утром третьего дня он велел мне выписать из камеры вещественных доказательств первую, вторую и третью партии фальшивых червонцев.
Взяв образцы из всех трех, Шумилов принялся изучать их под сильной лупой. Потом он подозвал меня:
– Видите?
Да, я видела абсолютно схожие бумажные деньги, отличающиеся от настоящих чем-то неуловимым в строении водяных знаков.
– Не то, – сказал Шумилов, – они все имеют одни и те же дефекты.
– Какие?
– Присмотритесь: обрыв хвостика в букве «е» и пятнышко над буквой «о».
Да, действительно, это было...
– Ну и что?
– А то, – с торжеством заявил мой начальник, – что они все сделаны в одном месте!
– Допустим. Но ведь мы все равно не знаем, в каком.
– Легче найти одно место, чем два или несколько!
Нет, я решительно осуждала Шумилова. Все это было каким-то крохоборчеством, какой-то бесплодной игрой ума.
– Но почему вы решили, что именно в Тарыни делают фальшивые деньги? А не в Одессе, скажем?
– В Одессе появлялись в обращении фальшивые деньги, а в Тарыни – нет.








