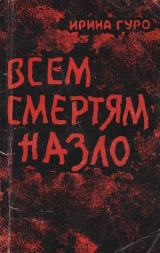
Текст книги "Всем смертям назло"
Автор книги: Ирина Гуро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Всем смертям назло

Необыкновенное утро
повесть

Часть первая
1
День начался плохо: у меня украли ботинки. Высокие ботинки со шнуровкой спереди, которые мне сшили в заводской мастерской из папиных заготовок на сапоги. Их утащили прямо из-под гладильной доски, на которой я спала. Я боялась клопов. Они были всюду, только в гладильной доске их не было.
Босиком я опрометью выбежала в коридор, как будто там сидел и дожидался меня вор с моими ботинками под мышкой. Дверь на лестницу стояла открытой. На замки у нас вообще ничего не запиралось.
В это время зазвонил телефон. Звонил мой папа. Я еле слышала его. Можно было подумать, что он говорит не с завода в Лихове, а по крайней мере из Москвы. Хотя он надрывался изо всех сил.
– Лелька! – орал мой папа. – Ты там с босяками спуталась, в комсомол записалась...
– Ну и что? – крикнула я, воспользовавшись перерывом.
– А то, что придут белые, тебя пороть будут...
– Белые не придут, дудки! – кричала я в трубку.
– Тогда я сам тебя выпорю! – донеслось до меня из какой-то дальней дали вперемежку с продуванием трубки.
– Накося выкуси! – Я покрутила ручку телефона: дзинь, дзинь, дзинь!.. Папа был отключен вместе с Лиховом и всем, что там, позади: беленьким домиком на краю поселка, слониками на комоде и резедой в палисаднике, со старинным граммофоном – «Танго любви», «Пупсик» – и томиком Лермонтова на этажерке – «Печальный демон, дух изгнанья...». Подумаешь! Я сама теперь дух изгнанья!
Все-таки я страшно расстроилась. Не из-за разговора. Плевать я хотела на все Лихово. Из-за ботинок. Теперь я буду ходить босиком. Правда, многие наши девчата ходят босиком – не зима. Но ботинки меня украшали. Единственное платье, которое у меня было, расползалось по всем швам. Платочек, когда-то красный, выцвел на солнце. В ботинках мне было жарко, но я терпела.
Недавно в «Красной газете» появилась карикатура: с одной стороны была изображена размалеванная и разряженная нэпманская девица, с другой – комсомолка, нечесаная, в потертой кожаной куртке. Внизу – надпись: «На одной жениться нельзя, на другой – невозможно!»
Это была совершенная клевета. Мы одевались очень аккуратно. И свои старые ситцевые платьишки даже крахмалили, не жалея картошки на крахмал.
Из ванной вышла Наташка с полотенцем через плечо.
– Кто звонил? – спросила она лениво.
– У меня украли ботинки, – объявила я.
– Что же, тебе телефонировал вор? – Она сощурила свои красивые зеленые глаза. Это она тренировалась. Так она будет щуриться, когда станет женой советского дипломата. Семка Шапшай вбил ей в голову, что она выйдет замуж за дипломата и даже консула. Начитался не то Гамсуна, не то Ибсена: «Консул Бервик» и все такое. Нашел, кого читать в наше время!
– «Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах...» Семка шпарил наизусть страницы по три прозы. Консула он прочил Наташке, а про ветерок читал мне.
Впрочем, все это было не так просто с Семкой. Было время, когда я охотно сидела с ним на Университетской горке под акацией. И он читал мне стихи. Это были его собственные переводы с французского. Он читал сначала по-французски. Я не знала французского языка, но мне нравилось протяжное звучание этих стихов, убаюкивающее и многозначительное. Потом Сема переводил:
В бесконечной тоске беспредельной равнины
Снег, меняясь, блестит, словно гребень волны.
Это небо из меди, без всякого света.
Можно думать, что видишь рожденье луны.
Все-таки что-то меня смущало.
– А ведь это, пожалуй, отрыжка, – с сомнением заметила я.
– Какая отрыжка? – удивился Сема.
– Что значит «какая»? Отрыжка декаданса.
Я сама писала стихи и знала, что к чему .
– Это не отрыжка, – раздраженно ответил Сема, – это сам декаданс.
Я насторожилась. Красивые стихи, безусловно, отвлекали мои мысли от борьбы и, может быть, даже меня размагничивали.
Это было страшное слово! Безобидный корень «магнит» в нем начисто улетучился, и оно звучало как отлучение от всего, что составляло смысл моей жизни.
А про Володю Гурко из райкома Семка говорил, что он узкий, как футляр от флейты. И что у него нет кругозора.
Окончательный наш разрыв с Семкой произошел из-за нэпа. Семка утверждал, что мы идем назад к капитализму и что это закономерно. А когда я ему разъясняла, зачем нам нэп и что это временно, Семка смеялся и говорил, что я тоже футляр.
И мы разругались. А потом он вдруг сделался анархистом...
Услышав, что у меня украли ботинки, Гришка Химик, который торгует сахарином, приоткрыл дверь своей комнаты:
– Подумаешь, у нее ботинки украли! Событие! У людей больше забрали.
– Молчи, зануда! – сказала Наташка, сохраняя невозмутимый вид жены консула, и захлопнула Гришкину дверь, едва не прищемив ему нос.
Через перегородку было слышно, как Гришка ругнулся и сразу же сел за рояль и начал играть «Молитву Девы». Это он себя так успокаивал.
– Слушай, а откуда мог взяться вор в нашем обществе? – спросила я Наташку, пораженная этой мыслью. – Ведь у нас обрублены все корни преступности...
– Родимое пятно, – отрезала Наташка и милостиво добавила: – Можешь носить мои деревяшки.
Я радостно побежала в комнату. У Наташки были маленькие, не по росту, ноги. Деревяшки пришлись мне как раз. Они считались «криком моды». Девчата с особым шиком пристукивали ими по тротуару. Поэтому они назывались еще «лапцым-дрицым». Когда стояла жара, деревяшки не стучали, а оставляли на асфальте мягкий, вмятый след. Если ремешки, на которых держалась деревянная подошва, обрывались, то деревяшки складывались «бутербродиком» и засовывались в портфель, а мы продолжали путь босиком.
Мы все ходили с туго набитыми портфелями. В них носили пайки хлеба, протоколы собраний и стихи пролетарских поэтов, которых мы слушали на вечерах в Пролеткульте. Когда Панкрат Железный, тряхнув темным чубом, начинал читать своим глуховатым голосом про Революцию, про Войну, про Эпоху, честное слово, мы чувствовали себя Маратами или уж, во всяком случае, рядовыми бойцами Парижской коммуны. А что? Почему бы нет? Мы тоже делали революцию. При этом они – на короткий срок, а мы – навсегда.
Пока я нацепляла деревяшки, Наташка излагала свои соображения, – она ведала в нашей коммуне низменными делами: насчет жратвы.
– Осталось: хлеба – полбуханки, пшена – с кило. Подсолнечного масла – на донышке. Три воблы. И картошки – семь штук.
– Можно нажарить картофельных оладьев, – легкомысленно предложила я, занятая деревяшками.
– На чем? На слюнях? – прищурилась Наташа. Но я уже убегала.
– На «Везувий»? – осведомилась Наташа.
– На «Этну», – отозвалась я на бегу.
На окраине города, в улочках, носящих живописные названия: Зеленая, Вешняя, Смородинная, – приютились маленькие фабричонки, громко именуемые: «Везувий», «Этна», «Пожар Коммуны». Они производили спички. «В порядке нэпа» их вернули старым владельцам. Я руководила кружками политграмоты на этих предприятиях.
Я разъясняла молодым рабочим, что они работают на капиталистов временно, что государство поддерживает все их рабочие классовые требования, а хозяев ждет неминуемый конец.
На «Этне» мои речи слушал хозяин Абрам Шапшай. У него было жирное розовое лицо и большой живот, он выглядел, как настоящий классический буржуй с плаката. Он слушал внимательно и, по-видимому, вовсе не боялся, что ему придет конец. Он не особенно переживал и то, что Семка, его сын, ушел из дому, отрастил длинные волосы, называет себя «пламенным чернознаменцем» и кричит на митингах: «Анархия – мать порядка!»
«Был бы порядок, а кто его мать, так мне уж все равно», – говорил Абрам Шапшай, поглаживая живот под белым пикейным жилетом.
Я рассказывала о происхождении общества, щедро используя лекции Котьки Пискавера об ужасной жизни первобытного человека.
Однажды, когда я рисовала картины будущего без капиталистов и эксплуатации, Абрам Шапшай вдруг поднял руку, как это делали мои слушатели, и задал вопрос:
– А куда, например, денусь я лично? Спички Советская власть, допустим, будет производить без меня. А куда же денут меня персонально?
Я хотела сказать, что ему придется заниматься каким-либо общественно полезным трудом, но никто из моих слушателей все равно не поверил бы, что он на это способен.
И я, внезапно разозлившись, ответила:
– Это нас мало интересует. А пока что, господин Шапшай, вы бы лучше перестали переводить назад фабричные часы и таким образом заставлять рабочих работать на час дольше.
Возвращалась я вечером. Мне ужасно хотелось есть. Удивительно: целый день я вовсе не чувствовала голода. Вообще я заметила: пока произносишь речи, есть не хочется. Но сейчас, когда все речи кончились и я возвращалась, уже не пристукивая задорно деревяшками, а шаркая по асфальту, видение картофельных оладьев прямо-таки терзало меня. Наташа потрясающе жарила эти оладьи.
Вообще она все умела, Наташка. Несмотря на то, что выглядела женой дипломата. Воображаю: Наташка со своими золотыми косами вокруг головы и в шелковом платье, а вокруг вьются буржуазные послы и шепчутся: ах-ах, какая королева эта советская дипломатка! Не зря мы их признали!
Я любила Наташку. Она была всего на два года старше меня, но как-то получалось, что она совсем взрослая, а я...
Может быть, это потому, что у нее был роман, настоящий роман, а у меня его не было. У меня была несчастная любовь, и это в счет не шло.
Поток моих мыслей поневоле прекратился: лопнул ремешок деревяшки. С досадой я принялась скидать их. Прыгать на одной ноге было неловко, и я, прихрамывая, свернула в бывший сквер. Бывший – потому что скамейки давно порубили на топливо, а траву вытоптали. Я села на песок и отвязала деревяшки.
Два молодых хлыща в котелках и клетчатых брюках, проходившие мимо, посмотрели на меня, и один сказал:
– Без башмаков, лэди?
Я показала им язык, и они поспешно удалились.
Асфальт уже охладился, и идти босиком было даже приятно. Я бегом взбежала по лестнице мимо замазанных белилами бывших зеркальных дверей бывшего парикмахерского салона «Ампир» и чуть не сбила с ног юношу, стоявшего перед дверью в нашу квартиру и сосредоточенно что-то рассматривавшего.
Я вспомнила про украденные ботинки, но тут же мне стало неловко: передо мной стоял вполне приличный юноша пролетарского происхождения или, скорее, крестьянского, из бедняков, в полотняных брюках, ситцевой косоворотке и потрепанных сапогах. И он был рыжий. Остальное я в спешке не рассмотрела.
– Что ты тут делаешь? – спросила я.
Юноша нисколько не растерялся, а вроде даже обрадовался:
– Та я вже другий раз прихожу. Не зразумию, що це таке гланды...
– Гланды?
– Ось, – показал незнакомец, – и ще дали, бачите? Ка-це-не-лен-бо-ген... А?
Да, на двери действительно торчали обломки белой эмалированной дощечки, и на них можно было прочесть слово «Каценеленбоген», почему-то теперь и мне показавшееся загадочным. Дальше было обломано, а внизу опять сохранился кусок дощечки со словами: «Удаляются гланды».
Мы видели эту обломанную дощечку каждый день, но не придавали ей того значения, которое, видимо, волновало незнакомца.
Что такое гланды, я точно не знала, но, кажется, это была какая-то болезнь... Юноша отнесся к моему предположению с недоверием:
– Невже то якась хвороба? – Он был разочарован.
– А ты что думал?
– Я так располагал, шо гланды – то якись буржуи; чи мешочники... Воны удаляються геть з нашого общества.
– Нет, все проще, – сожалея, сказала я.
– А ка-це-нелен...
– Просто фамилия врача.
– Ни, цього не бувае, – решительно возразил парень. – Тут щось друге.
Он вытащил из-за голенища потрепанную тетрадочку, согнутую пополам, как это делают для записи иностранных слов. Послюнив карандаш, он записал на чистой странице старательным ученическим почерком: «Гланды». Перевернул несколько страниц и записал: «Каценеленбоген». Мои объяснения он игнорировал, и я предложила ему:
– Пойдем со мной, там тебе все объяснят.
Я полагала, что Котька Пискавер просветит любознательного незнакомца.
– Как тебя звать? – спросила я.
– Гнат Хвильовий.
Я толкнула незапертую дверь, и мы вошли.
В коридоре меня встретил Гришка, который торгует сахарином.
– Там сидит ваш дядя, – сообщил он мне и добавил злорадно: – Он, кажется, буржуй.
– Какой буржуй? Какой буржуй? – раскипятилась я. Но рассказывать Гришке о дяде? Я не собиралась метать бисер перед свиньями и молча прошла в нашу комнату.
В коммуне был большой парад: зажгли все три бра, доставшиеся нам в наследство от бывших хозяев.
Дядя сидел на табурете, заложив нога на ногу. И действительно было похоже, что он буржуй. Во всяком случае, на нем были носки. Полосатые носки. Как при царизме.
Дядя в пенсне на длинном хрящеватом носу и в носках сидел на табурете посреди комнаты, словно видение из другого мира, а вокруг на койках разместились наши коммунары, и все таращили на дядю глаза.
Я хотела назвать его по имени, отчеству – не могла же я самым мещанским образом ляпнуть: «Здрасте, дядя!» Но от волнения забыла, как звали дедушку, отца моей мамы. И потому сказала:
– Здравствуйте, товарищ Лупанов!
Дядя удивился и ответил:
– Здравствуй, товарищ Лелька!
А Котька Пискавер ни с того ни с сего захохотал. Котька был в коммуне недавно. Мы его вырвали из мелкобуржуазной стихии. Стихия была у него дома. Дело в том, что Котькина мама занималась тем, что делала корсеты нэпманкам.
Корсеты были в наших глазах такой же неотъемлемой частью капитализма, как, скажем, прибавочная стоимость. И мы не могли мириться с тем, что наш товарищ Котька, самый лучший оратор в нашей школьной ячейке, будет вариться в буржуазном соку своей семьи.
Мы постановили: предложить Котьке публично отречься от матери, которая делает предметы роскоши для толстых нэпманок, и отца, который частным образом штампует крючки, кнопки и еще какие-то запчасти для этих корсетов.
Но Котька отказался. Не по каким-нибудь идейным причинам. «Я, – говорит, – публично про корсеты говорить не буду. Это если бы у меня родители были попы, служители культа, тогда надо было бы публично отрекаться, как от опиума для народа. Чтобы использовать трибуну для антирелигиозной агитации».
Володька Гурко из райкома сказал, что Котька прав. Не из-за чего ломать копья. Корсеты сами собой отомрут в процессе развития нашего общества. А развитие это пойдет очень быстро. «Одна нога здесь, другая там», – это было любимое выражение Володьки.
– Мать тебе прислала посылку. Вот, – дядя показал на мою гладильную доску. На ней лежал узелок. Он был увесистый. Я узнала мамин клетчатый платок, завязанный уголками кверху.
– Чего еще? – грубо спросила я: недоставало, чтобы мать туда впихнула еще какие-нибудь бабские шмутки!
Пять пар голодных глаз уставились на меня. Что могло быть в этом узелке? Овсяные лепешки там могли быть, вот что! Я чувствовала просто-таки всей кожей, что коммунары тоже думали об этих лепешках: мне присылали их и раньше.
Я потянула уголок платка: боже ж мой, там было сало! Шматок настоящего нашего украинского сала! Ребята онемели. И еще выглядывал хвостик домашней колбасы. Они там, в Лихове, закололи кабанчика – это было ясно. Ведь у нас все заводские имели хозяйство!..
Я проглотила слюни и опять завязала концы клетчатого платка.
– Иван Харитонович! – Я, наконец, вспомнила, как звали дедушку. – Мы не можем взять это... Я разошлась со своим отцом по идейным соображениям. И больше не вернусь в Лихово.
Я сказала это не очень уверенно, так как точно не знала, был ли разговор насчет порки идейным расхождением.
Ребята замерли. Дядя некоторое время молчал.
Я мало его знала. Он появился у нас только после революции. До этого он был в ссылке, в Сибири. А потом за границей. То, что он еще до революции был большевиком, придавало ему в наших глазах ореол героя. Но с ним не вязались полосатые носки, дядины усы «в стрелку», по моде, ушедшей «на свалку истории», как у нас любили выражаться, вместе с частной собственностью на средства производства.
Когда он заговорил, его голос удивил всех: тихий, с интонациями раздумья. Не похожий на энергичную и прямолинейную манеру, привычную для нас.
– Видишь ли, Лелька, твой отец не буржуа, – он сказал «буржуа», а не «буржуй», – он старый рабочий, мастер. И нечего от него отмахиваться...
– Он против того, что я в комсомоле! – выкрикнула я, густо покраснев.
Дядя опять помолчал, погладил усы и вдруг улыбнулся. Улыбка у него была какая-то не очень веселая, а вроде задумчивая.
– Ну и не слушай его, отца! А узелок все-таки разверни. И знаете что? Устроим пир!
Он не успел закончить, как Наташа схватила большой медный чайник и помчалась на кухню. Сейчас же басовые выхлопы и равномерное шипение примуса возвестили начало новой «эры процветания». Процветание и упадок в нашей коммуне чередовались с неуклонностью экономических кризисов капитализма. Наше благополучие строилось то на получении кем-либо из нас пайка, то на случайном заработке. Котя Пискавер, например, имел огромный успех в качестве лектора в воинских частях. Степень успеха определялась тяжестью пакетов с мукой и пшеном. Восторг Котькиных слушателей кристаллизировался в крупном, военного времени, сахарном песке и замирал в тусклых глазах ржавых селедок.
За чаем мы изложили дяде принципы нашей коммуны. Мы считали себя зерном будущего общества. У нас были творцы его будущей индустрии: Федя Доценко и Микола Шацюк. Они работали на механическом заводе, который пока что занимался мелким ремонтом, и делал зажигалки. Котя, пламенный трибун и публицист, шел во главе нашей маленькой колонны, усыпая наш путь цветами своего красноречия. Наташа была музой коммуны: она пела неистовым контральто, отлично передававшим суровое звучание походных песен. Володька Гурко, инструктор райкома и центр-форвард футбольной команды депо Южного узла, олицетворял собой гармоническое развитие человека в Коммуне грядущего. А я? Я, Лелька Смолокурова, была «просто так» – рядовой коммуны.
Пока дворцы ее еще не были построены, а те, которые достались нам от старого режима, не приспособлены для общежития, мы занимали три комнаты в бывшей буржуйской квартире. Дом был заселен чекистами и нэпманами. Чекисты вселились, как и мы, по ордеру коммунхоза. Нэпманы жили здесь и раньше, когда они были просто «интеллигентными людьми». Гришка, торгующий сахарином, был тогда гимназистом и брал уроки музыки. Его мама – зубным техником «с большой практикой». А Сигизмунд Шпунт-Драгунский, «король валютчиков», несмотря на свое пышное имя, служил письмоводителем у захудалого адвоката.
Между нами и этими «продуктами нэпа» шла тихая упорная борьба. Голодные, отощавшие, мы с презрением отворачивались от сковороды, на которой Гришкина мама жарила яичницу, и от ломтей душистого белого хлеба, которые она лицемерно предлагала нам. Нас поддерживала на своих могучих крыльях уверенность в будущем, в то время как рыцарей нэпа трясла лихорадка временщиков.
Мы пили морковный чай, заваренный в медном чайнике, который был символом домашнего очага коммуны. Этот чайник, медный, огромный, в боках которого играло солнце, казался нам подходящим для трапез коммуны.
И теперь мы поглощали мамины пироги с картошкой, черные, тяжелые и рубчатые, как гранаты, со сладостным предвкушением редкой в нашем быту сытости.
Одновременно мы с увлечением разворачивали перед дядей свои планы на будущее. Дядя слушал нас, и вдруг раздался его голос с той же странной интонацией:
– Я думаю, что прежде всего вам, друзья, еще предстоит стать солдатами.
Оживленные и уже почти сытые, мы не расслышали в его словах ощущения близкой опасности.
Я пошла проводить дядю.
– Вам понравились мои друзья? – спросила я.
По правде сказать, мне очень хотелось узнать, что думает дядя обо мне лично.
– Вы все – славные ребята... Он запнулся. – Но, понимаешь, уж очень самоуверенные. Меня это немножко пугает, а?
Я не нашла, что ответить.
– Видишь ли, – продолжал он задумчиво, словно говоря сам с собой. – Мы захватили власть. И удержали ее. Но будут еще трудности. Все не так просто. Понятно тебе?
«А что не просто? Как раз очень просто. Все-таки он какой-то старомодный», – подумала я про дядю.
Когда я вернулась, Гнат сидел на ступеньке под «гландами» и дремал. Я совсем забыла про него.
– Ты чего тут? – спросила я. – Иди домой, поздно.
– Нема у мене дома, – неожиданно ответил юноша. – Я з села убиг. Куркули со свету сживают...
– Будешь жить у нас, – тут же решила я, вспомнив, как когда-то Володька Гурко «втолкнул» меня в коммуну.
2
Мы с Наташей отправились к ее родным на Такмаковку. Это было целое путешествие. Мы шли через весь город, отбивая шаг деревянными подошвами. Трамваи не ходили, автобусы – тем более.
Стоял июль, было очень жарко. Местами асфальт плавился под ногами, и наши деревяшки оставляли на нем ясный отпечаток.
Мы шли сначала городом, по улицам которого быстро и деловито сновали совслужащие с портфелями, комиссары в кожаных куртках и кавалерийских штанах с кожаными леями, комсомольцы в косоворотках с расстегнутым воротом, с маленьким изображением Ленина, приколотым на груди. Их суровый строй изредка обжигали яркие пятна нэпманских девиц в рубахообразных, по моде, платьях диких расцветок, с прической «большевик»: спутанной гривой волос, распущенной по плечам. Девицы бродили по размякшему асфальту неприкаянные, как выходцы с того света.
Мы проходили аллеями городского сада, который был расчищен и ухожен нами на субботниках, устраивавшихся и по субботам, и по воскресеньям, и по другим дням. Теперь сад выглядел не хуже, чем при баронессе Ган, которой принадлежали раньше и сад, и дворец, и пруд.
Мы шли по городу, косясь на паштетные, появившиеся всюду, словно «тифозная сыпь на здоровом теле Революции», как говорил в докладах Котька Пискавер. Почему-то все закусочные и кухмистерские назывались «паштетными». Можно было подумать, что во времена нэпа кормятся одними паштетами! Вероятно, владельцы не решались на гордое «Ресторан» или «Кафе». «Паштетные»– это выглядело скромнее, ближе к духу времени.
Появились причудливые вывески, бог знает что сулящие. На Университетском спуске над выкрашенным в канареечный цвет павильоном висела старорежимная вывеска. Судя по размерам, она некогда красовалась над внушительным зданием. Надпись возвещала: «Производство персидских граждан». Внизу мелкими буквами – «Люля-кебаб». Мы не знали, что такое «люля-кебаб». Володя Гурко уверял, что это красавец перс, «произведенный» в этом закутке. Федя предполагал, что так звали коня, из которого изготовлена продукция заведения: жесткие мясные завитки, подаваемые на железных палочках.
Иногда нэпманы, подделываясь под советский стиль, называли свои заведения сокращенно. «Растмаслопонч» – это звучало как боевой клич неведомого племени, но означало всего лишь рундук, где жарились на постном масле пончики.
Мы смотрели на балаганы под выцветшими вывесками с наскоро закрашенными твердыми знаками, как на чужеземные острова.
Наташины отец и мать с малышами жили в доме сбежавшего с белыми купца. Но, вероятно, купец был захудалый, и дом его ничем не выделялся на улице слободки.
Мы пришли с тайной надеждой что-нибудь перехватить. Конечно, Наташина мать стала усаживать нас обедать, но мы увидели, что у них хлеб и картошка уже разделены на каждого, и сказали, что торопимся. Мы действительно спешили в нашу школу – на суд.
В то время мы всё кого-то судили. Например, был общественный суд над Евгением Онегиным. «А за что его судить? – удивлялась Наташина мама. – В чем он виноват?» Мы разъясняли ей, что Евгений Онегин – типичный продукт дворянско-помещичьего режима, его надо беспощадно разоблачать в глазах масс. Но Наташина мама, как совершенно темная женщина, старорежимная преподавательница, ничего не поняла. А Наташин папа, техник по электричеству, сказал: «Надо подымать производство, это самое главное, а вы – болтуны».
Сейчас мы шли судить греческого философа Платона.
Суд продолжался очень долго. В те годы всё: заседания, митинги, диспуты – продолжалось очень долго. Пока ораторы не начинали хрипеть. А у нас в школе – пока не входил сторож Кондрат по прозвищу «Эсер малахольный» – он в начале революции с перепугу записался в партию эсеров – и заявлял:
– Кончайте, бо я зачиняю помещение.
Здорово я ему жизни дала, Платону! Этому типичному представителю афинской аристократии, белогвардейскому идеалисту! Моя обвинительная речь произвела сильное впечатление на Кондрата. Он спросил:
– А игде ж подсудимый?
– Какой подсудимый?
– Да той Платонов, чи кто он?
Я сказала, что Платон умер в 347 году до нашей эры.
Кондрата это почему-то обидело, и он тут же объявил, что «зачиняет помещение».
В школе мы были полными хозяевами и никого не слушали, разве только Кондрата. Он был единственный пролетарий среди школьной интеллигенции. Сын у него служил в Красной Армии.
В этом году мы должны были кончить школу второй ступени. Но никто не знал, как ее кончать. Экзамены были отменены. Полагались зачеты, как у студентов. Но мы не знали толком, что это значит, а главное, сдавать зачеты было некому. У математика два сына ушли с белыми, и он говорил про нас: «Выучишь их на свою же голову!» В школе висела записка, написанная нервным почерком: «Зачеты по математике принимаются преподавателем С. Н. Касацким на дому». Он жил при школе в красивом особняке, половину которого теперь занимала прачка Алевтина. На двери Касацкого висело уже целых две записки: «Звонок испорчен» и «Просьба не стучать: в доме больной».
Француженка и географ были мобилизованы на заготовку топлива.
А физик Солнушко, которого все очень боялись и никто никогда еще не сумел на его уроке ни списать, ни подсказать, был, как оказалось, еще до революции большевиком. Никто не мог этого предположить; мы решили, что это он для конспирации так свирепствовал. Теперь Солнушко заведовал губнаробразом.
Мы пошли к нему делегацией: как нам быть? Мы считали, что учиться сейчас не время. Да и некому нас учить. Солнушко сказал делегатам, рассеянно теребя бахрому буржуйской скатерти, покрывавшей круглый стол в его кабинете:
– Вы вот что... Вы учитесь пока сами. Вот окна все поразбивали...
– Так это ж еще когда царский герб срывали, – сказали мы.
– Ну да, да... Доски вы тоже переломали, это зря. И бумаги нету. Ну, углем на стенках пишите, решайте задачи. Книги читайте. Собирайтесь группами и читайте. Потом все наладится. Будут у нас свои учителя. А пока учитесь сами. Неучи революции ненадобны.
Идея нам понравилась. Мы выбрали преподавателем математики Федю Доценко – он лучше всех знал предмет. Кроме того, у него была солидная внешность: он носил очки и чесучовый пиджак своего отца. А политграмоту читал Котька Пискавер.
Он читал нам лекции, как будто мы уже были студенты.
Первое выступление Котьки было на тему «От мотыги к машине». Начиналось все с первобытного коммунизма. «Страшная жизнь первобытного человека была ужасна!» – выкрикнул Котька не своим голосом и сразу выпил стакан воды. После этого сенсационного сообщения Котька принялся в таких подробностях расписывать жизнь первобытного человека среди мамонтов и птеродактилей и так долго о них распространялся, что все начали кричать: «Хватит! Валяй переходи к феодализму!»
Коньком нашего лектора был «период первоначального накопления». Он сыпал цитатами из Маркса и Энгельса, и мы удивлялись, как это классики умели вставлять смешные вещи в самые научные книги. Например, про стоимость, которую отличает от вдовы Квикли то, что ее нельзя ущипнуть.
Котька рассказывал про жизнь Маркса. В этих рассказах Маркс вовсе не был похож на того, которого мы знали по многочисленным портретам и бюстам: дедушка с буйной бородой и с крахмальной манишкой в разрезе сюртука. Он был молодой, задира и бесстрашный, как борцы Парижской коммуны, которых он вдохновляли поддерживал.
Мы исписали алгебраическими уравнениями стены класса. Вогнутые и выпуклые зеркала с пучками лучей на желтой клеевой краске стен учительской выглядели, как живопись кубистов. Пифагоровы штаны поместились, как им и полагалось, в раздевалке.
Гнат Хвильовий немедленно стал посещать лекции Котьки и Феди Доценко. И еще множество разных лекций по всем отраслям науки и даже искусства. Он хотел знать все. Встретив непонятное слово, Гнат всячески домогался, что оно значит, и записывал его строго по алфавиту в тетрадку, которую носил за голенищем. Тетрадочка начиналась «аверроизмом», – выяснилось, что это философское учение некоего Ибн-Рошды, о котором даже ученый Котька не имел никакого понятия, и кончалась «язвой сибирской».
Сокрушительный удар нанес Гнату Котя, раскрыв ему тайну существования энциклопедического словаря Брокгауз и Ефрон. Это на время выбило Гната из седла, но тут же дало ему новый толчок: Гнат заучивал наизусть целые страницы энциклопедии. Память его, как губка, впитывала все подряд с ненасытной жадностью.
– Чудовище ты, – говорил ему Федя, замученный его вопросами, – акула ты. Пожиратель знаний...
– Что акула – это да, – ворчал Котька, – жрет что попало! Разве акула разбирает? При чем тут знания? Может, там крупица и попадется, так она в дерьме утонула!
– Шуткуешь! – миролюбиво констатировал Гнат и самодовольно приглаживал свой рыжий чубчик, по-деревенски начесанный на самые глаза. Его маленькое, худенькое личико, усеянное веснушками, светилось тихим светом довольства.
Работы Гнат не чурался и быстро устроился грузчиком на Южный вокзал. Это, вероятно, ему было нелегко – физической силой он не отличался, но не жаловался.
В тот вечер, когда я ввела Гната в нашу коммуну и он вытащил свою знаменитую тетрадку, в которой уже тогда было три тысячи слов, кто-то из наших сказал:
– Слушай, да ты Ломоносов какой-то!
Гнат улыбнулся и вытер рукавом нос.
– Я сам то чую, – ответил он нескромно.
Гнат внес в нашу коммуну что-то новое, чего мы не хотели принимать и не принимали. Но это все-таки было, и мы не могли отмести его напрочь.
Гнат завистливо говорил Котьке:
– Тебе легко читать лекции. Твой отец – буржуй, он с поколениями впитывал науки, а я своим горбом знание добываю...
А Наташу он упрекал:
– Ты красивая, тебе легко жить. А я рыжий, надо мной смеются. Рыжий все горбом добывает.
Когда Котька приносил в коммуну щедрые военные пайки и мы все на них набрасывались, Гнат хотя и ел со всеми, но всегда говорил, что мы Котьку «объедаем». А нам это даже не приходило в голову.
Узнав, что мой дядя работает в Наркомате иностранных дел, Гнат задумчиво сказал:
– Небось объедается в заграницах. Вот жалко, что человек – не верблюд. Наелся бы впрок...
– Заткнись, философ кислых щей, – сердито бросил ему Федя. Федю Гнат раздражал больше, чем нас всех, и все-таки Федя больше всех с ним возился.
– А может, это все-таки Ломоносов или вроде, – говорил Федя.








